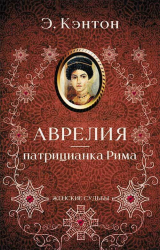
Текст книги "Аврелия – патрицианка Рима"
Автор книги: Э. Кэнтон
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Э. Кэнтон
Аврелия – патрицианка Рима
Роман
© DepositРhotos.com / nickp37, обложка, 2020
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2020
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2020
Часть первая. Доносчик
Глава 1. Рим в 91 году
В 844 году от своего основания, или в 91 году нашей эры, Рим находился под кровавой тиранией императора Тита Флавия Домициана, последнего из династии Флавиев, впоследствии преданного проклятию памяти. Римляне, некогда гордившиеся своей свободой, горько раскаивались, что отдали себя во власть правителей вроде сумасшедшего Калигулы, бездарного Клавдия Тиберия и бесчеловечного Нерона. В течение почти восьмидесяти лет после царствования Октавиана Августа не было таких унижений и оскорблений, каким не подвергались бы от своих кесарей гордые завоеватели мира. Смятение, ужас и страх за собственное существование стали для них обычным явлением.
Правда, с воцарением Веспасиана, а затем его старшего сына Тита наступила передышка в этих тяжких испытаниях, но двенадцать лет сравнительного затишья и покоя пронеслись с быстротой сновидений, а с приходом к власти Домициана, быстро отказавшегося от республиканского фасада, наступила пора новых бедствий, составляющая одну из наиболее мрачных страниц римской истории.
В описываемое время, соответствующее десятому году правления Домициана, Рим испытал на себе все ужасы неукротимой деспотии этого цезаря. Многочисленные и совершенно беспричинные ссылки и изгнания именитых граждан, явные и тайные убийства стали обычным явлением.
Правда, в 844 году Рим немного успокоился, но не оттого, что кровожадные инстинкты Домициана сделались более умеренными и не потому, что он таким путем пожелал добиться расположения граждан, – нет, он на несколько месяцев покинул Вечный город, чтобы лично завершить войну, которую давно и безуспешно вели его военачальники против дакийцев. Война с ними началась, как известно, еще в 85 году, и первые сражения закончились полным разгромом римлян. Однако если карающая длань Домициана не довлела над Римом, то это не означало, что положение улучшилось. Опасность была менее ощутимой, но все же, как меч, висела над головой каждого.
Император отсутствовал, но город кишел негодяями, которые подвизались перед тираном и готовы были осуществить все его злодеяния. Повсюду шныряли ловкие и дерзкие доносчики, жаждавшие удовлетворить алчность и ненависть ненасытного властителя мира.
Пламенное усердие этих прислужников деспотичного цезаря поддерживалось не только их раболепием перед повелителем, но и корыстными целями. С жестокостью и неутомимостью ищеек они вынюхивали все, на чем можно было построить тягчайшие обвинения даже ни в чем не повинных граждан. Проницательность этих сыщиков была так велика, что казалось, будто они способны проникать в самую совесть и сердце людей. И все это делалось единственно для того, чтобы вытравить из сознания людей мысли о свободе и, как говорил Тацит, подчинить своей власти даже вздохи и слезы.
Глава 2. День доносчика
Канун июльских ид[1]1
Иды – у римлян тринадцатый день месяца, а в марте, мае, июне и июле – пятнадцатый; эти дни посвящались Юпитеру. – Здесь и далее примеч. ред.
[Закрыть] 844 года… Тонкая полоска тени на солнечных часах Форума показывала полдень, когда какой-то человек, выйдя из базилики Юлия, остановился перед ее перистилем, заполненным шумной толпой. Причиной наплыва народа к месту заседания ста уважаемых мужей Рима послужило то обстоятельство, что в базилике Юлия вот уже нескольких дней разбиралось громкое дело, вызывавшее горячие толки и споры. Двое знаменитых юристов и ораторов соперничали друг с другом в убедительности и красноречии.
Внешность и манеры человека, который только что покинул зал заседаний и на некоторое время задержался в толпе, показывали, что он принимал самое непосредственное участие в процессе. На нем была яркая пурпурная тога, свидетельствующая о том, что он желал оставаться в центре всеобщего внимания, чтобы в итоге одержать победу, склонив судей на свою сторону. Однако по тому негодованию и даже угрозам, с которыми его встретила толпа, можно было догадаться, что симпатии народа не на его стороне. Враждебность окружающих, конечно, его беспокоила, и он уже приготовился выбраться из тесного кольца, когда совсем рядом послышались сначала чьи-то тяжелые вздохи, а затем – стенания и проклятия.
Они исходили из уст пожилого мужчины, внешний вид которого говорил о его крайнем отчаянии. Несчастный старик, как и человек в пурпурной тоге, присутствовал на заседании, но, выйдя оттуда, стал рвать на себе одежду и выдирать пучки своих седых, посыпанных пеплом волос. Это лучше всяких слов показывало, что приговор вынесен не в его пользу, причем он коснулся чего-то дорогого, даже священного для старика.
Его сопровождал адвокат, довольно молодой мужчина, по чертам лица которого читалось благородство его натуры. Напрасно он пытался найти слова утешения для своего убитого горем клиента: тот продолжал громко роптать на несправедливость людей и суровость богов.
Человек в пурпурной тоге сделал попытку ускользнуть от плачущего старика, но, не сумев пробраться сквозь густую толпу, изменил намерения. С восторженным видом он подошел к старику и, схватив за руку сопровождавшего его адвоката, воскликнул:
– Дорогой Плиний! Позволь мне поздравить тебя, несмотря на твое поражение. Твоя речь была лучшей из всех, слышанных мною за всю мою жизнь. Клянусь Аполлоном, ты превзошел Цицерона! Неудивительно, однако, что дело тобой проиграно: я получил благоприятные предзнаменования.
Плиний Младший, «превзошедший Цицерона» разве только тем, что проиграл процесс, поспешно отдернул руку и, смерив противника презрительным взглядом, отвернулся.
– Несчастный Цецилий! – продолжал между тем торжествующий победитель, обращаясь к старику и придавая своему лицу выражение живого сочувствия. – Отчего ты не согласился на сделку, которую я тебе предлагал? Ты бы…
Но он не сумел договорить. Крючковатые пальцы железной хваткой сдавили ему горло с такой силой, какую нельзя было предположить в худощавом теле слабого, убитого горем старца. Еще мгновение – и, потеряв равновесие, человек в пурпурной тоге покатился со ступеньки на ступеньку к пьедесталу одной из двенадцати статуй великих богов, украшавших перистиль базилики Юлия.
Восхищенная толпа одобрила действия старика громом рукоплесканий и радостными выкриками, одновременно осыпая его противника руганью и насмешками, а Плиний, огорченный неудачей настолько, что не в силах был даже позлорадствовать, поспешил скрыться.
Гражданин, которого столкнули со ступенек базилики Юлия, поднялся с проворством человека, сделавшего легкий прыжок. Стараясь казаться бодрым и сохранять спокойствие, он, однако же, не мог скрыть злости, которой пылало его лицо.
– Клянусь всеми богами ада и всеми фуриями, что я отомщу тебе, проклятый старик! – воскликнул, едва держась на ногах, пострадавший, после чего развернулся и неспешно направился к зданию, которое примыкало к Храму Сатурна, расположенному здесь же, на Форуме. В этом здании находился так называемый Эрарий: государственная казна и архив – хранилище актов и протоколов гражданского ведомства.
Войдя в присутственное место, незнакомец потребовал свидетельство о рождении девицы Цецилии и, обращаясь к клерку, который быстро извлек документ и развернул его перед его глазами нетерпеливого посетителя, сказал:
– Дополни его припиской, что на основании сегодняшнего постановления суда девица Цецилия, родившаяся в законном браке от гражданина Рима Цецилия Басса и ныне покойной Теренции Пакувии, признана собственностью торговца Парменона. Вот доказательство. – С этими словами он вложил в руку скриба, или писца листок папируса, который вытребовал в суде сразу по окончании заседания.
Выйдя из архива, человек в пурпурной тоге не пошел домой, а свернул во внутреннюю галерею. Она вскоре привела его в другие ведомства – видимо, более важные, чем то, о котором мы только что упомянули; там царила кипучая деятельность.
Он отправился в казнохранилища республики и кесаря, занимавшие ряд зданий в ограде Храма Сатурна. Если принять во внимание, что Веспасиан по восшествии на трон исчислял государственные расходы в рекордные два миллиарда пятьсот тридцать миллионов сестерциев, то нетрудно вообразить, какое зрелище представляли собой те места, куда стекалось золото и серебро со всей вселенной.
Было бы интересно своими глазами увидеть всю эту толчею, хотя бы для того, чтобы всмотреться в лица людей, которые непрерывно следовали друг за другом для уплаты податей, и убедиться в том, что налоговое бремя существовало чуть ли не от сотворения мира. Неплохо бы обрисовать наружность служащих древнего банка, получавших деньги от клиентов и производивших в связи с этим нужные манипуляции. Ничто не ново под луной: как в Древнем Риме, так и в наши дни печаль уплаты, т. е. потери, и радость получки резко контрастируют между собой.
Увы, у нас нет времени на детальные описания. Мы следим за человеком в пурпурной тоге, которого не должны покидать из виду ни на одну минуту.
Он идет весьма быстро и, хотя его ухо с удовольствием прислушивается к звуку драгоценного металла, а взор загорается огнем алчности, он не удостаивает вниманием весовщиков, или официальных контролеров денежных единиц той далекой эпохи. Не без волнения мы сопровождаем его до того гражданина, которого он быстро различил в толпе, отвел в сторону и, не мешкая, обратился к нему с вопросом:
– Ну, уважаемый Палфурий Сура, какая сумма предназначается нашему всемогущему и милостивому повелителю Домициану со времени его отъезда из Рима? Ты сделал расчет, о котором я тебя просил?
– Конечно. Пятнадцать миллионов сестерциев – вот сколько принесли императору завещания патрициев за шесть последних месяцев. Куча денег!
– Ты, наверное, издеваешься, Палфурий? И тебе не стыдно говорить о такой жалкой сумме, да еще с восторгом? Божественный император Домициан вознегодует на тебя за твою нерадивость.
– Но позволь, – живо возразил Палфурий, – смертность в Риме в последнее время снизилась, соответственно и количество завещаний, вступивших в силу, немного уменьшилось. Армилат, с которым я недавно беседовал по этому делу, объясняет уменьшение сборов чересчур благоприятными погодными условиями. Тем не менее, – прибавил он, указывая на яркое полуденное солнце, – светило обещает нам вскоре палящий зной, а старики плохо переносят жару. Фортуна на нашей стороне, и она поможет нам доказать, что наше усердие к императору ничуть не ослабело.
– Твой Армилат остолоп! – в сердцах воскликнул незнакомец с тем пренебрежением, которое явно демонстрировало, что он относится к Палфурию без всякого уважения и не стесняется прибегать в его присутствии к резким выражениям. – Я тебе повторяю: эта сумма недостаточна, а оправдаться хорошей погодой и отсутствием болезней не удастся. Учтите вместе с Армилатом, что император Август в свое время получил в дар от друзей четыре миллиарда сестерциев, а сестерций тогда имел гораздо большую ценность, чем теперь. Значит, вы не добьетесь и четверти этой суммы, если жалкие пятнадцать миллионов сестерциев, собранные за шесть месяцев, кажутся вам значительными. Или вы полагаете, что император Домициан заслуживает меньшего почитания, чем Август?
Последняя фраза была произнесена так внушительно и грозно, что Палфурий опустил глаза и больше не издал ни звука в свое оправдание.
– Ты собрал сведения о Флавии Клементе и его жене Флавии Домицилле? – продолжал выспрашивать незнакомец. – Известно ли тебе, что распространился слух, будто они исповедуют новую религию и связаны с сектой евреев из квартала возле Капенских ворот? Консул Тит Флавий Клемент страшно богат; если бы он на самом деле оказался христианином, это послужило бы довольно простым способом восполнить тот недочет, который за тобой числится.
Несчастный Палфурий, казалось, был потрясен этим известием; он даже изменился в лице и, немного помолчав, пробормотал:
– Флавий Клемент – двоюродный брат императора, а Флавия Домицилла – родная племянница цезаря. Двое из их сыновей получили от нашего августейшего повелителя имена Веспасиан и Домициан, потому что цезарь готовит их в свои преемники. Как же ты представляешь себе, чтобы пострадали люди, которые находятся в таком близком родстве с императором и которых он осыпает милостями? Берегись: это дело весьма опасно, и ты, похоже, недостаточно его обдумал.
– Как это понимать? – повысил голос незнакомец, делая акцент на каждом слове. – Ты и Армилат отказываетесь от возложенных на вас обязанностей? А не вам ли, как консулам, удобнее всего начать это дело, имея возможность легко проникнуть в тайну, которая давно беспокоит императора? Что, если нас опередят другие? Право же, дорогой Палфурий, ты не дорожишь своими интересами! – И, не прибавив больше ни одного слова к этому прозвучавшему угрозой замечанию и не дождавшись ответа, незнакомец в пурпурной тоге отвернулся от Палфурия Суры, сильно встревоженного этим разговором, и вскоре слился с толпой, наводнившей площадь перед зданиями казнохранилища.
Через несколько минут он очутился на Форуме. Обширная площадь, обычно столь оживленная, теперь почти совершенно опустела. Жара была нестерпимая. Солнце стояло в зените и пронизывало воздух палящими лучами. Все горожане разошлись по домам, чтобы предаться полуденному покою.
Но человек в пурпурной тоге, казалось, не чувствовал утомления, и ничто не могло его остановить. Его воодушевляла и поддерживала жажда кипучей деятельности, поэтому, не обращая внимания на полуденный зной, он быстро пересек Форум, свернул в конце площади к Ратуменновым воротам и, пройдя через них, направился по широкой улице к цирку Фламиния. Справа показалось одно из самых древних архитектурных сооружений города, возведенное, наверное, еще лет четыреста назад, – Villa Publica, или Народный дом, куда римляне допускали даже посланцев «варваров», то есть племен, не входивших в число их союзников. Этот обычай не касался представителей дружественных народов, считавшихся цивилизованными, – их римляне с подобающей пышностью принимали не в общественном Villa Publica, а в помпезном Грекостазисе – фешенебельном квартале в центре Форума.
Народный дом был окружен многочисленными портиками, проходами и галереями. В устроенных между ними тавернах и харчевнях теснился всякий торговый люд, в том числе продавцы рабов и лошадей.
Незнакомец настойчиво постучал в деревянную дверь одной из таверн, наглухо закрытую по причине жары и полного отсутствия посетителей. Появился человек высокого роста, одетый в тогу невероятно пестрой и яркой расцветки наподобие балахонов ярмарочных фокусников и фигляров. При беглом взгляде на свирепое лицо этого субъекта и его грубые манеры можно было заподозрить в нем заправского злодея, не привыкшего уважать законы.
Стоя на пороге, неприятный тип, плохо соображавший со сна и раздосадованный тем, что его послеобеденный отдых так грубо прервали, протер глаза и сладко зевнул, но тут же закрыл рот, встрепенулся и встал по струнке, когда увидел, кто к нему пришел.
– Не пугайся, Парменон, это я, – первым заговорил человек в тоге, окидывая собеседника высокомерным взглядом. – Цецилия в наших руках. Суд уже принял решение в твою пользу, так что можешь повесить ей на шею табличку о продаже.
– Все будет исполнено по твоему приказанию, господин.
– Вот и отлично. Только мне нужно, даже необходимо, чтобы Цецилию продали завтра же. Кроме того, ты должен подтвердить, что она лишается не только свободы, но и права со временем стать вольноотпущенной. У меня есть веские причины для того, чтобы эта статья договора была выполнена в точности. Ах да, совсем забыл! Цена определена в сто тысяч сестерциев без одного стипса[2]2
Стипс – 1/12 часть асса или фунта меди.
[Закрыть]. Ты помнишь наш уговор? Две трети – мне.
– Не беспокойся, господин: все, о чем условились, выполню в точности, – поспешил заверить Парменон, которого слова вельможи в пурпурной тоге, похоже, навели на какие-то неприятные воспоминания.
Этого обещания оказалось достаточно, чтобы важный господин, спешно покинув плебейский квартал, двинулся обратно к Ратуменновым воротам. Он пересек Форум, миновал храм Виктории, взошел на Палатин и направился к роскошному особняку, когда-то выстроенному по приказу народного трибуна Марка Ливия Друза. Впоследствии дом принадлежал сначала Крассу, а потом Цицерону. Поговаривали, будто архитектор предложил Друзу выстроить жилище таким образом, чтобы за его стены не проникал ни один любопытный взгляд, но Марк Ливий ответил:
– Я, наоборот, хотел бы для себя жилище из стекла, чтобы каждый видел все, что там происходит.
Теперь человек в пурпурной тоге, имени которого мы еще не знаем, имел возможность проверить, учел ли зодчий пожелания хозяина дома.
Окинув (в качестве меры предосторожности) взором пространство справа и слева, впереди и позади себя и найдя обстановку благоприятной, незнакомец в полной тишине быстро пересек круглую площадку перед домом, приблизился к парадной двери, робко позвонил и обратился к рабу-привратнику, отворившему ее:
– Привет Палестриону, будущему либерту божественной Аврелии!
– Увы, господин, – ответил тот, кланяясь в пояс, – да услышит тебя Юпитер! Уже не в первый раз ты произносишь эти слова надежды, но я как-то не замечаю, чтобы мои цепи ослабевали и их звенья разбивались.
Словно в доказательство несчастный указал посетителю на свои ноги, скованные двойным железным обручем, прикрепленным к длинной цепи, концы которой были вмурованы в стену.
– Напрасно ты мне не веришь, Палестрион, – возразил незнакомец, – каждый раз, как ты меня видишь, я разбиваю одно из звеньев, которые ты мне показываешь. Я даю тебе золото – средство купить себе свободу. Я пока еще не забыл, что обязан принять участие в судьбе несчастного Палестриона. Вот возьми-ка, они твои… – шепнул он на ухо рабу и положил на его ладонь две золотые монеты, которые тот с удивительным проворством спрятал в складках своей туники.
– Но, господин, – робко заметил привратник, – у тебя есть причины позаботиться обо мне, бедняге, о котором больше никто не думает в целом свете. Признаться, мне не по себе: в доме божественной Аврелии, после того как ты приходил сюда в последний раз, произошло нечто ужасное.
– Вот как? Что же именно?
– Вообще-то госпожа Аврелия не жестока к рабам и крайне редко нас наказывает. Она хорошо относилась к Дориде, одной из своих прислужниц… Но разве ты знал ее, господин? – удивленно спросил Палестрион, прерывая свою речь, ибо он заметил, что при этом имени его собеседник непроизвольно вздрогнул.
– Почему ты интересуешься? – вопросом на вопрос ответил господин в пурпурной тоге, поспешно стирая с лица изумление, насторожившее раба. – Продолжай…
– Так вот, эту Дориду, которая одевала и причесывала божественную Аврелию, по приказу госпожи раздели донага, подвесили за волосы посреди атриума и в присутствии всех домочадцев и рабов стали сечь розгами с такой жестокостью, что бедняжка в жутких мучениях испустила дух прямо на наших глазах.
– За что же ее подвергли истязанию? – пожал плечами незнакомец с таким деланным безучастием, что подозрения Палестриона рассеялись.
– О, госпожа Аврелия сильно огорчилась смертью рабыни – заменить ее пока некем. По слухам, наша повелительница даже плакала, но сегодня утром нам объявили, что божественная Аврелия поступит точно так же с каждым, кто, как Дорида, выболтает домашние тайны Марку Регулу. Что с тобой, господин?
Немало усилий потребовалось человеку в тоге, чтобы не выдать своего потрясения. Однако он взял себя в руки и сдержанно произнес:
– Со мной все в порядке. Мне жаль Дориду, поэтому я и вздыхаю. А этот Марк Регул, наверное, ужасный тип?
– Не то слово: говорят, он – величайший злодей, какой только есть в Риме, и я подумал, что участь Дориды постигла бы и меня, если бы… по несчастью… тот, кто приходит расспрашивать меня, оказался…
– Ты намекаешь на меня? Спасибо, Палестрион, за сравнение, которого ты меня удостоил. Но благодаря богам мои вопросы не заключают в себе ничего такого, что может повредить тебе и заставить тебя бояться наказания.
– Это правда, господин. Ты, надеюсь, простишь бедному рабу, который дрожит от страха и не хочет тебя обидеть. Так ты не Марк Регул, нет? Впрочем, я не уверен, смогу ли ответить на твои вопросы.
– Да ты что, Палестрион! Откуда такая мнительность? Мои вопросы совершенно безвредны, ведь я с благоговением отношусь к твоей божественной госпоже. А скажи-ка мне, Корнелия, Vestalis Maxima[3]3
Vestalis Maxima – великая весталка (лат.).
[Закрыть], чувствует себя лучше? Она в состоянии вновь возложить на себя свои обязанности?
– Нет, господин, она хворает. Божественная Аврелия, несмотря на все свои заботы, не смогла добиться того, чтобы Корнелия забыла позорное наказание, которому ее подверг главный жрец Гельвеций Агриппа, и мысль об этом унижении, говорят, замедляет ее выздоровление.
– А твоя божественная госпожа принимает у себя в доме Метелла Целера?
Этот вопрос, заданный прямо в лоб, показался Палестриону опасным, и он промолчал. На его лицо легла тень подозрительности, которую незнакомец сразу заметил и поспешил развеять, равнодушно прибавив:
– Я вовсе не то хотел спросить. Меня интересует не Метелл Целер, а Флавий Клемент и обе Флавии Домициллы. Мне сказали, что твоя госпожа перестала видеться с ними. Неужели? Ведь они близкие родственницы…
– На то есть причины.
– Важные?
– Болтают, что Флавий Клемент и обе Флавии… ну… как бы это выразиться? В общем, они заодно с евреями у Капенских ворот.
– То есть они христиане?
– Вот-вот. Они, вроде бы, желали, чтобы и госпожа Аврелия, племянница Флавия Клемента, стала христианкой, но она отказалась и добавила, что вынуждена прекратить поддерживать с ними отношения.
В этот момент в атриуме раздался испанский напев, занесенный в Рим благодаря поэту Марциалу. Чей-то молодой и чистый голос распевал незатейливый мотивчик. При этих звуках незнакомец забеспокоился и заторопился уходить.
– Прощай, – кивнул он Палестриону. – Если богам будет угодно, еще свидимся.
Но он не успел скрыться: молодой человек, внезапно вышедший из дома Аврелии, заметил в пятнадцати шагах от себя неизвестного субъекта. К тому же незнакомец в пурпурной тоге сам обернулся, чтобы хоть бегло рассмотреть гостя Аврелии, прервавшего его разговор с рабом.
– Клянусь Геркулесом! – воскликнул юноша. – Это же мерзавец Регул собственной персоной! Зачем он притащился в наш квартал? Слушай-ка, Палестрион, а ты, часом, не знаешься с Регулом? – нахмурил брови молодой человек, оборачиваясь к привратнику, который побледнел как полотно и затрясся всем телом.
– Нет, господин, – еле пролепетал несчастный, – я от роду не видел никакого Регула, и я отлично знаю, что наша божественная госпожа…
– Ах ты, прохвост! – перебил раба юноша. – Смотри у меня, бездельник! Если моя догадка подтвердится, тебе исполосуют всю шкуру, как паршивой овце. И учти: я непременно уведомлю госпожу Аврелию, что возле ее дома крутится какой-то подозрительный тип.
С этими словами он пошел в дом, а Марк Регул, недовольный тем, что его узнали, ускоряя шаги, пробормотал:
– Вот это да! Это же Метелл Целер! Я узнал его по голосу. Он находился в доме Аврелии все время, пока я беседовал с Палестрионом. Значит, Метелл посещает весталку даже во время полуденного отдыха. Отлично! Скоро об этом узнают и жрец Гельвеций Агриппа и цезарь Домициан. Ты у нас в руках, Корнелия! К девственнице регулярно захаживает молодой красивый мужчина. Очень интересно, чем они там занимаются.
Примерно через час Марк Регул вернулся к себе домой за Тибр и несколько раз с удовольствием повторил вслух изречение Тита Флавия, ставшее крылатым: «День прошел не даром, если сделано хоть одно дело». «А я, – рассуждал Регул, – сделал целых четыре дела: добился рабства для Цецилии, припугнул нерадивого Палфурия Суру, убедил Палестриона шпионить за своей госпожой и добыл важные сведения о Корнелии. Недурно!»
Что касается Палестриона, никто не видел, как он говорил с Регулом, и раб утешился тем, что его не засекут розгами до смерти, как несчастную Дориду. Но страх сковал все его существо, и несчастный пробормотал сквозь зубы:
– Так это ты, Марк Регул! Ну, проклятый доносчик, впредь не попадайся мне на глаза! Ты обещал наведаться снова? Только попробуй показаться!








