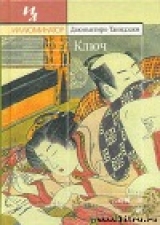
Текст книги "Ключ"
Автор книги: Дзюнъитиро Танидзаки
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
Если все было так, как я предполагаю, надо решить, что теперь делать с моим дневником. Было бы глупо прервать его из-за одной досадной оплошности. Нужно постараться сделать все, чтобы дневник не читали без моего ведома. Отныне прекращаю делать записи в дневные часы. Буду писать по ночам, дождавшись, когда больной и Коикэ уснут, и прятать в новом месте...
9 июня
Долго ленилась взяться за дневник. В первый день прошлого месяца, а именно накануне того дня, когда с мужем случился второй удар и он скончался, я прервала записи и на протяжении тридцати восьми дней к ним не возвращалась. Разумеется, из-за внезапной кончины мужа на меня обрушилось множество домашних хлопот, и я была слишком занята, но главное, с его смертью пропал интерес или, лучше сказать, смысл продолжать дневник. Никакого «смысла» и сейчас нет. Так что, возможно, на этом все закончится. Во всяком случае, я еще не решила, стоит ли продолжать. Но не хочется на полуслове обрывать дневник, который я вела с начала года на протяжении ста одиннадцати дней; мне кажется, правильно будет подвести итог всему, что произошло. Дело даже не в том, что надо все же как-то завершить дневник, а в том, что это даст возможность еще раз вспомнить о перипетиях противоборства, из которого состояла наша с мужем интимная жизнь. Если внимательно перечитать мои записи, сопоставляя их с дневником, оставшимся после покойного, главным образом с записями, сделанными в этом году, становится ясно, как развивалась борьба между нами, но сверх того есть еще многое, о чем я остерегалась писать при жизни мужа и что хотела бы добавить – в качестве своего рода постскриптума.
Как я сказала, смерть мужа наступила внезапно. По причинам, на которых остановлюсь поподробнее, точного времени я не знаю, но думаю, это случилось около трех часов ночи второго мая. Медсестра Коикэ спала на втором этаже, Тосико ушла в Сэкидэн, возле больного дежурила я одна. Около двух часов, увидев, что больной, как обычно, мирно похрапывает, я тихо выскользнула из комнаты и пошла в гостиную, чтобы записать события с вечера тридцатого апреля по первое мая. В предшествующие дни, то есть с начала болезни мужа по тридцатое апреля, я, ссылаясь на желание вздремнуть, скрывалась днем в кабинете и тайком записывала события второй половины предшествующего дня и первой половины наступившего, но когда мне стало известно, что в воскресенье первого мая Тосико без спросу прочла моему мужу вторую часть моего дневника, которую я хотела сохранить в секрете, я прекратила делать записи днем, решив писать по ночам и прятать дневник в более надежном месте. (Я никак не могла придумать подходящий тайник, поэтому временно оставила дневник на прежнем месте. Но в ту ночь, дождавшись ухода Тосико и домработницы, незадолго до того, как Коикэ пошла спать, я поднялась в кабинет, сунула дневник за пазуху и спустилась вниз. Вскоре Коикэ ушла наверх спать. Я все еще мучилась, не зная, куда спрятать дневник. У меня была ночь на раздумья, в крайнем случае можно было вынуть планку в потолке стенного шкафа в гостиной и спрятать там.) Итак, в третьем часу ночи, перейдя в гостиную, я достала из-за пазухи дневник и начала записывать то, что произошло накануне, как вдруг в какой-то момент осознала, что не слышу храпа, все это время доносившегося до моего слуха. Гостиную и спальню, в которой лежал больной, разделяет всего лишь тонкая перегородка, но я была так увлечена дневником, что не сразу обратила внимание на то, что храп прервался. Это произошло, когда я написала: «Отныне прекращаю делать записи в дневные часы. Буду писать по ночам, дождавшись, когда больной и Коикэ уснут, и прятать в новом месте...» Я отложила кисть и некоторое время прислушивалась. Из соседней комнаты не доносилось ни звука. Стояла мертвая тишина, поэтому, прервавшись, я оставила дневник на столе и пошла взглянуть на больного. Он лежал неподвижно, вытянувшись на спине, лицом к потолку, и, казалось, спит. (С того дня, как я сняла с него очки, он их ни разу не надевал. Спал он обычно лежа на спине, пугая меня своим «голым лицом».) Говорю «казалось, спит», потому что на лампу был наброшен платок и я не сразу смогла рассмотреть его лицо, остававшееся в тени. Я присела, поглядывая на больного, скрытого в полутьме, но он показался мне подозрительно тихим, поэтому я решилась снять платок с лампы и осветить его лицо. Глаза были приоткрыты, скошенный взгляд неподвижно устремлен куда-то к потолку. «Умер», – подумала я, приблизилась и коснулась его руки. Рука была холодной. Часы у изголовья показывали три часа семь минут. Так что уверенно можно сказать лишь одно – умер он в ночь на второе мая, где-то между двумя и тремя часами семью минутами. Отошел во сне, без мучений. Затаив дыхание, я некоторое время всматривалась в его «голое лицо», как трусливый человек, заглядывающий, сдерживая ужас, в бездну, и вдруг отчетливо вспомнила первую ночь нашего свадебного путешествия... И поспешно накинула платок на лампу.
На следующий день профессор Сома и доктор Кодама дружно заявили мне, что случившийся так скоро второй инсульт стал для них полной неожиданностью. Раньше, еще лет десять назад, в большинстве случаев после первого инсульта второй следовал через несколько лет, в лучшем случае лет через семь-восемь, и тогда уже ничто не могло помочь, но в последние годы, благодаря прогрессу медицины, это перестало быть неизбежным. Есть больные, которые отделываются одним инсультом, есть такие, кто пережил два инсульта и вновь встал на ноги, не редкость ныне и счастливчики, живущие полноценной жизнью после трех и даже четырех инсультов. Ваш муж, говорили они, не в пример большинству работников умственного труда, мало заботился о своем здоровье и часто пренебрегал советами врачей, поэтому нельзя было исключить, что инсульт повторится, однако никто не предполагал, что это произойдет так скоро, ведь ему еще нет и шестидесяти, и пусть медленно, но здоровье начало восстанавливаться, так что можно было надеяться, что он сможет вести активную жизнь еще несколько лет, а при благоприятных обстоятельствах и больше десяти лет, но, несмотря на это, мы имеем такой прискорбный результат... Разумеется, я не знаю, насколько профессор Сома и Кодама были искренни. Никакой, даже самый опытный врач не может наверняка предсказать, сколько человеку осталось жить, поэтому, даже если оба говорили то, что думали, я, честно говоря, не вижу в случившемся ничего удивительного и неожиданного – я была к этому готова, все произошло так, как я предвидела. Предвиденья не всегда сбываются, чаще происходит совсем наоборот, но в данном случае я угадала. Думаю, Тосико тоже.
Теперь я бы хотела перечитать наши дневники и, сопоставляя их, со всей откровенностью проследить ход событий, приведший нас к вечной разлуке. Вообще-то муж начал вести дневник много лет назад, еще до нашей свадьбы, и возможно, стоило бы покопаться в его старых записях, чтобы понять суть наших отношений. Но на такой титанический труд я не способна. Знаю, что десятки тетрадок с его дневниковыми записями свалены пыльной грудой в кабинете на верхней полке, до которой не достать без лестницы, но я не нахожу в себе сил хотя бы перелистать эту необъятную летопись. Муж сам написал, что вплоть до нынешнего года он избегал в своем дневнике касаться нашей интимной жизни. Лишь с января он начал откровенно писать «об этом», исключительно «об этом», и одновременно я в пику ему завела свой дневник. Если сопоставить наши с ним записи за последние месяцы, восполняя их оставшимся между строк, получится ясная картина того, как мы любили, искушали друг друга, обманывали, заманивали в ловушки, что в конечном итоге для одного из нас закончилось смертью, поэтому, думаю, залезать в старые дневники нет необходимости. Первого января муж написал, что я «по натуре женщина скрытная, коварная» и мне свойственно «прикидываться, что знать ничего не знаю, таить, что у меня на уме». Не буду отрицать, это сущая правда. Вообще говоря, по сравнению со мной в нем больше искренности, поэтому и в его дневнике, должна признать, меньше лжи, но кое-какая все же есть. Например, он пишет: «жена наверняка знает, где в моем кабинете, в каком ящике спрятан дневник», но для нее «читать исподтишка дневник мужа было бы верхом неприличия», и дальше: «однако у меня есть основания не исключать такую возможность», но «теперь я решил отбросить все страхи». А ниже сам же признается: «Подсознательно я допускал, даже надеялся, что она читает мой дневник». И, честно говоря, для меня давно уже не было тайной, что именно этого он от меня хочет. Ключ от ящика, намеренно брошенный утром четвертого января на пол перед книжным шкафом, на котором, помнится, стояла вазочка с нарциссом, свидетельствовал, как сильно он заинтересован в том, чтоб я читала его дневник. Между прочим, он мог бы и не прибегать к таким уловкам, я и без того уже давно заглядывала в его дневник. Четвертого января я написала: «...Ни за что не стану читать его дневник. Не хочу переходить границу, которую сама же для себя установила, и лезть в его мысли. Насколько я не люблю открывать свою душу, настолько же нет у меня охоты копаться в потемках чужой души», но, если честно, это вранье. Я не люблю открывать свою душу, да, но копаться в потемках чужой души обожаю. Я приохотилась почитывать дневник мужа сразу после нашей свадьбы. «Разумеется, я давно знала про его дневник, для меня не секрет, что он запирает его в ящике маленького стола и прячет ключ между книгами в шкафу или под ковром», но я лукавила, утверждая, будто «у меня никогда не возникало соблазна открыть дневник и заглянуть внутрь». Впрочем, прежде он почти не касался проблем нашей интимной супружеской жизни, ограничиваясь скучными подробностями о своих ученых занятиях, наводившими на меня тоску. Чаще всего я просто пролистывала страницы, получая лишь особое удовольствие от того, что читаю написанное мужем без его ведома, но начиная с записи от первого января этого года, когда он «решил отбросить все страхи», я, разумеется, сразу попалась на крючок. Уже второго января, днем, когда он вышел прогуляться, я обнаружила, что с этого года его записи приняли новый оборот. Но я скрывала от мужа, что тайком читаю его дневник, не только из склонности «прикидываться, что я знать ничего не знаю». Я понимала, он хочет, чтоб я читала его дневник и при этом делала вид, что не читаю.
Он взывает ко мне: «Икуко, возлюбленная моя, драгоценная жена!», клянется в страстной любви, и я думаю, так оно и было. У меня нет ни малейших причин сомневаться в его искренности. Но должна сказать, что и я поначалу была в него страстно влюблена. Правда, что «во время того давнего свадебного путешествия, я, увидела, как он снял очки, и в тот же миг меня всю затрясло», правда, что «мне достался самый неподходящий в сексуальном отношении партнер», правда и то, что при взгляде на него «меня вдруг начинало подташнивать», но все это не значит, что я его не любила. «Родившаяся в старинной киотоской семье, воспитанная в духе феодальных устоев», я «вышла замуж бездумно, по воле родителей, и до недавнего времени жила с убеждением, что так оно и должно быть между супругами», поэтому у меня не было другого выбора, как любить его, мил он мне или не мил. Верно и то, что я «все еще чту ветхие, отжившие добродетели и, можно сказать, даже кичусь ими». Каждый раз, когда во мне поднималась тошнота, я испытывала угрызения совести, вину перед мужем и перед моими покойными родителями, и чем более он был мне гадок, тем упорнее, подавляя себя, я старалась его любить, и это мне удавалось. С моей врожденной похотливостью, горячим темпераментом, я бы не могла жить иначе. Меня огорчало в муже лишь то, что он не умел полностью удовлетворять мои бурные желания, но и тут я не столько упрекала его за телесную немочь, сколько стыдилась своего чрезмерного сластолюбия. Оскудение его мужеских сил, конечно, меня печалило, но я нисколько не охладела к нему из-за этого и, напротив, старалась любить еще сильнее. Не знаю, о чем он думал, когда в начале этого года решил открыть мне глаза. Не вполне понятно, что его побудило «заносить в дневник то, о чем прежде не решался упоминать». Он говорит: «Пишу, отчаявшись поговорить с ней напрямую о нашей интимной жизни», но потому ли в конце концов обратился он к дневнику, что ему так досаждала моя «скрытность», моя «лицемерная скромность», моя «пресловутая „женственность“, моя «напускная утонченность», и он вознамерился их во что бы то ни стало сокрушить? Уверена, была какая-то другая важная причина, но, как ни странно, дневник о ней умалчивает. Впрочем, возможно, он и сам не отдавал себе ясного отчета в своих душевных побуждениях. Как бы там ни было, он первый просветил меня в том, что я наделена «аппаратом», которому позавидует любая женщина». От него я узнала, что если бы меня «продали в публичный дом, вроде тех, которыми в старину славился квартал Симабара», я бы «наверняка стала знаменитостью», меня бы «осаждали толпы завсегдатаев». Почему же, несмотря на сомнения, что «не надо бы сообщать ей об этом. Для меня лично невыгодно, чтобы она узнала», он все же пошел против своей выгоды? Он говорит: «Одна мысль об этом ее достоинстве возбуждает во мне ревность», его беспокоит: «Если бы другой мужчина пронюхал о нем... к чему бы это привело? », и при этом не только не скрывает своего беспокойства, но открыто пишет о нем в дневнике, – вот почему я пришла к выводу, что он ждет от меня поступков, способных возбудить в нем ревность. Правильность моей догадки подтверждают его собственные слова: «Может быть, втайне я наслаждаюсь ревностью?», «Ревность всегда действовала на меня возбуждающе», «В каком-то смысле ревность мне необходима и доставляет живейшее удовольствие» (13 января), но я стала смутно догадываться об этом уже по записи от первого января...
10 июня
…Восьмого января я написала: «Я яростно ненавижу мужа и столь же яростно люблю. В интимной жизни у нас разлад…» И далее: «Но для меня это еще не причина, чтобы полюбить другого. Не в моем характере изменять привитым мне старомодным принципам супружеской верности. Меня несколько смущают его ласки, но я не могу не видеть, как страстно он меня любит, и чувствую себя обязанной хоть как-то его отблагодарить». Если я и поддалась искушению, вопреки вбитым в меня строжайшим правилам конфуцианской морали, порочить мужа в моем дневнике, то только потому, что на протяжении двадцати лет, скованная по рукам и ногам догмами старинной добродетели, я подавляла в себе чувство неудовлетворенности в отношении мужа, но главное, я начала догадываться, что, возбуждая в муже ревность, в конечном итоге доставляю ему удовольствие, а в этом и есть назначение «верной жены». Впрочем, я не ограничилась констатацией того, что «яростно ненавижу» мужа и что «в интимной жизни у нас разлад», я тотчас поспешила не слишком убедительно заявить, что «для меня это еще не причина, чтобы полюбить другого» и «не в моем характере изменять, принципам супружеской верности». Возможно, уже в то время я, еще не сознавая это, в глубине души любила Кимуру. Все, что я себе позволяла, это, внутренне трепеща, против воли, обронить слово, возбуждающее в муже ревность, и тем самым исполнить свой супружеский долг.
Однако, прочитав тринадцатого января в его дневнике такие фразы: «Возбужденный ревностью к Кимуре, в кои-то веки сподобился удовлетворить жену», «Хочу убедить ее набраться смелости и пойти на это, чтобы возбуждать меня – ради своего же блага», и такие: «Я готов сходить с ума от ревности», «Она может допускать сколь угодно рискованные ситуации. Чем рискованнее, тем лучше», «Пусть даже при случае жена заставит меня усомниться, не перешла ли она рамки дозволенного. Именно этого я от нее жду», я взглянула на Кимуру под новым углом зрения. «Может, и вправду ее цель – уберечь молодых от необдуманных поступков, но трудно не заметить, что она неравнодушна к Кимуре» – так он написал седьмого января, и в этом месте я испытала чувство «гадливости», я была возмущена – сколько бы муж меня ни провоцировал, разве я сойду с праведного пути? Но когда дошло до его слов «сколь угодно рискованных», в моей душе произошел внезапный переворот. Потому ли, что прежде, чем я сама осознала, муж увидел во мне признаки влюбленности в Кимуру и стал меня провоцировать, или же из-за того, что он меня провоцировал, возникло то, чего прежде не было и в помине, – причины я точно не знаю. Но и после того, как я отчетливо осознала, что меня влечет к Кимуре, какое-то время я еще обманывала себя, что делаю это «против воли», «стараюсь» ради мужа... Вот, я написала «влечет», но в то время я нашептывала себе, что пытаюсь слегка увлечься другим мужчиной исключительно для того, чтобы угодить мужу. Если говорить о моем душевном состоянии, когда я впервые, двадцать восьмого января, упала в обморок, то я не знаю, склонялась ли я к Кимуре в угоду мужу или уже положила на него глаз, с того самого вечера я уже не могла провести границу и лишь пыталась заглушить терзавшие меня чувства. С вечера двадцать девятого до утра тридцатого я непрерывно спала. В эти два дня, о которых муж пишет: «Учитывая ее нрав, позволительно было усомниться, действительно она спит или притворяется», вовсе я не «притворялась», но при этом не могу утверждать, что была полностью без сознания. Свое состояние полусна-полубодрствования я тогда же более-менее точно описала в дневнике, но надо немного добавить по поводу: «с ее губ сорвалось, точно в бреду: Кимура!..» Что касается того, «было ли это и вправду сказано во сне, или же она под предлогом, что якобы спит, проговорилась нарочно», могу сказать, что правда где-то посередине. Я «видела во сне, что ублажаю Кимуру», и краем затуманенного сознания слышала, как с губ сорвалось, точно в сонном бреду: «Кимура!». Шепча его имя, я в то же время думала: «Ах, какой стыд!» И хотя, с одной стороны, мне было стыдно, что муж меня слышит, не стану отрицать, было чувство, что это к лучшему. И вот наступила следующая ночь, тридцатого января. «Вновь этой ночью с ее губ сорвалось: Кимура. Тот же сон, то же видение, внушенное сходством обстоятельств?» – спрашивает он, но на этот раз все было иначе. Я преднамеренно притворилась спящей и прошептала так, будто говорю сквозь сон. Нельзя сказать, что то был ясный замысел или план, но, возможно, пребывая в полудреме, я убедила себя, что сплю, для того чтобы усыпить свою совесть. «Или просто она надо мной издевается?» – спрашивает муж, и в каком-то смысле он прав. В моем шепоте таились два желания: «Ах, если бы я делала это с Кимурой» и «Ах, если бы муж свел меня с ним», и я надеялась, что он меня поймет.
Четырнадцатого февраля Кимура рассказал мужу о существовании фотоаппарата «Полароид». «Почему он решил, что его рассказ о чудо-фотоаппарате настолько меня заинтересует? Вот это странно», – пишет он, но и мне самой это кажется странным. Я и предположить не могла, что муж одержим идеей снимать меня обнаженной. Но даже если б знала, ни за что б не проговорилась Кимуре. В тот период я чуть ли не каждый вечер напивалась настолько, что ему приходилось тащить меня, сжимая в объятиях, но мы еще ни разу не говорили по душам, и уж никак не могла я посвящать его в наши альковные тайны. Мои отношения с Кимурой сводились к тому, что он относил меня пьяную из ванной в постель в присутствии мужа, и перемолвиться словом было просто невозможно. Скорее, я склонна подозревать Тосико. Если кто-то и намекнул Кимуре, то это могла быть только Тосико. Девятого февраля она высказала желание поселиться отдельно в Сэкидэн под предлогом, что ей якобы необходима спокойная обстановка для занятий, но нетрудно догадаться, что она таким образом выражала недовольство тем, что у родителей в спальне до глубокой ночи горит яркий свет, сияет флюоресцентная лампа. А сама небось каждую ночь подглядывала за происходящим в спальне – она могла подкрасться бесшумно благодаря гудению раскалившейся печи. Вдоволь, наверное, налюбовалась, видя, как муж раздевает меня и заставляет принимать всяческие позы, доводя себя до исступления. И логично предположить, что она рассказала обо всем Кимуре. Что это не праздные домыслы, выяснилось в последующие дни, но я начала догадываться об этом еще четырнадцатого февраля, заглянув в дневник мужа. О том, как муж изгаляется надо мной, раздевая догола, Тосико узнала раньше меня и донесла Кимуре.
И все же зачем Кимура рассказал мужу о «чудо-фотоаппарате» и навел на мысль снимать меня обнаженной? Я все забываю спросить его, но, насколько могу судить, Кимура рассчитывал таким образом завоевать расположение мужа. Для того, в частности, чтобы заполучить от него мои непристойные снимки. Думаю, в этом была главная цель. Кимура заранее предугадал – может, не во всех деталях, – что «Полароид» вскоре перестанет удовлетворять моего мужа и он перейдет на цейсовский «Икон», а проявку пленки поручит ему.
Девятнадцатого февраля я написала: «Не могу понять, что творится в душе у Тосико», но в действительности кое-что мне было понятно. Как сказано выше, я была почти уверена, что она разболтала Кимуре о том, что происходит в нашей супружеской спальне. Также для меня не было секретом, что втайне она любит Кимуру и «смотрит на меня как на свою соперницу, как на своего врага». Она беспокоилась о моем здоровье, считая, что «я из-за своей субтильности не способна к бурной половой жизни», а «отец… навязывает мне свои желания», и потому ненавидела отца, но когда заметила, что отец из странной прихоти сближает меня и Кимуру, а мы с Кимурой этому никак не противимся, ее ненависть перекинулась на меня. Я заметила это довольно рано. Зная, что, «будучи на двадцать лет меня моложе, она уступает мне и лицом и фигурой», и видя, что любовь Кимуры досталась мне, Тосико, с присущим ей коварством, замыслила, как я догадалась, сделаться между нами посредницей, чтобы окольным путем добиться своей цели. И все же я до сих пор не вполне понимаю, насколько сообща они действовали. Например, когда она сняла жилье в Сэкидэн, у меня с самого начала зародилось подозрение, что это не только из-за того, что ее раздражает свет флюоресцентной лампы, но и потому, что так она будет жить ближе к Кимуре, однако была ли это идея Кимуры или Тосико все устроила самостоятельно? Кимура утверждает, что Тосико сама все затеяла, а он только «шел на поводу», но как обстояло на самом деле? Тут я и по сей день не доверяю Кимуре.
Как Тосико ревновала ко мне, так же и я втайне пылала ревностью к Тосико. Но я старалась не показывать виду и в дневнике решила об этом не писать. Сыграла роль моя врожденная скрытность, но еще в большей степени уверенность в моем превосходстве над дочерью и нежелание поступаться самолюбием. Но главное, я боялась, как бы муж не узнал, что у меня есть причина ревновать к Тосико – подозрение, что Кимура в нее влюблен. Муж и сам порой испытывал некоторые сомнения. Он пишет: «На его месте я бы наверняка предпочел мать, несмотря на возраст», и тут же добавляет: «Но за Кимуру утверждать не берусь», «не хочет ли он вначале завоевать расположение матери, чтобы через нее повлиять на Тосико?» Пуще всего я страшилась дать мужу повод для подобных сомнений. Я хотела заставить его думать, что Кимура любит меня одну и готов ради меня на любые жертвы. Иначе ревность мужа к Кимуре не распалилась бы в нем до такой изумительной ярости.
11 июня
...Муж пишет двадцать седьмого февраля: «Однако все как я и предполагал. Жена ведет дневник», и «уже несколько дней как смутно догадывался», но в действительности, думаю, он давным-давно знал о дневнике и читал его. И когда я писала: «Но я не допущу оплошности, чтобы муж об этом пронюхал», «У меня нет желания раскрывать душу перед кем бы то ни было, и я стала вести дневник с единственной целью беседовать с самой собой» и т.д., это была откровенная ложь. Я хотела, чтобы муж тайком читал мой дневник. Насчет желания «беседовать с самой собой» – истинная правда, но вместе с тем я писала и для того, чтобы читал муж. Зачем же я в таком случае пользовалась скрадывающей шелест бумагой «гампи», запечатывала дневник липкой лентой? Исключительно из врожденной мании секретничать, пусть и никчемной. Другого объяснения нет. Муж посмеивался над моей скрытностью, но сам был ничуть не лучше. Мы оба знали, что украдкой читаем дневники друг у друга, но нас объединяло пристрастие возводить преграды, множить препятствия, запутывать след, так чтобы другой никогда не был уверен, что достиг цели. Пользуясь липкой лентой, идя на всевозможные ухищрения, я потакала не только своим, но и его наклонностям.
Десятого апреля я впервые упомянула о том, что со здоровьем у мужа не все в порядке: «Проговаривается ли муж в дневнике о своем вызывающем беспокойство состоянии?.. Поскольку я не читаю его дневника, мне это неведомо, но вот уже с месяц или два я начала замечать перемены к худшему». Муж стал жаловаться на здоровье начиная с записи от десятого марта, но, кажется, я обнаружила это раньше него. Однако по многим причинам вначале делала вид, что ничего не замечаю. Я не хотела понапрасну нервировать его, но еще больше боялась, что, встревожившись, он станет воздерживаться от интимных сношений. Не то чтоб я не беспокоилась о его здоровье, но утоление ненасытного плотского желания было для меня более насущной задачей. Я была озабочена тем, чтобы заглушить в нем страх смерти и распалять ревность, используя «возбуждающее средство под названием „Кимура“...» Но в апреле мои чувства стали постепенно меняться. В середине марта я писала в дневнике, что все еще не переступаю «последней черты», стараясь внушить мужу, что сохраняю супружескую верность, но если честно, последняя стена между мной и Кимурой, сблизившихся «на расстояние тоньше волоса», рухнула двадцать пятого марта. В записи следующего дня, двадцать шестого, я привела наш с Кимурой разговор, но это была фальшивка, чтобы обмануть мужа. Думаю, я приняла окончательное решение в начале апреля, четвертого, пятого, шестого, где-то в этих числах. Искушаемая мужем, шаг за шагом я опускалась в пучину разврата, но до сих пор еще обманывала себя, оправдывала свою безнравственность тем, что смиренно, мучительно подчиняюсь желанию мужа, а значит, даже исходя из старинных представлений о добродетели, поступаю, как образцовая жена, однако с этого момента я полностью сбросила лживую маску. Я твердо признала, что люблю Кимуру, а не мужа. В моих словах от десятого апреля: «Не у него одного серьезные проблемы со здоровьем, я и сама чувствую себя неважно», содержался скрытый умысел, в действительности никакой болезни у меня не было. Правда, что, «когда Тосико было около десяти лет, у меня пару раз случалось кровохарканье» и что «врач констатировал вторую степень туберкулеза легких», но я «пренебрегла советами врача и ни в чем себя не ограничивала», правда и то, что, к счастью, «вопреки опасениям я вылечилась как-то сама собой» и впоследствии болезнь не возобновлялась. Поэтому все, что я писала на этот счет: «В феврале, точно так же, как тогда, вместе с харкотиной вышла алая кровавая пена», и «к вечеру наваливается усталость», и мучат «острые боли в груди», и «дальше будет только хуже», и вообще «с этим нельзя шутить», – все это чистейшей воды выдумка, и написано только затем, чтобы быстрее завлечь мужа в долину смерти. Моя цель была – внушить мужу: я рискую своей жизнью, рискуй и ты. С этой целью я продолжала вести дневник, но не ограничилась описанием симптомов, несколько раз разыграв кровохарканье. Я всеми способами возбуждала его, не давала передохнуть, неуклонно повышая его кровяное давление. (И после первого инсульта я не ослабила хватку и прибегала к мелким хитростям, чтобы вызывать в нем ревность.) Кимура давно уже предрекал, что муж недолго протянет, и я, как, впрочем, и Тосико, больше полагалась на проницательную интуицию Кимуры, чем на безответственные суждения врачей.
И, однако, при всем моем неистребимом сладострастии, как я дошла до того, что стала замышлять смерть мужа? Когда, при каких обстоятельствах зародилась во мне эта мысль? Может быть, даже самое чистое сердце в конце концов сдалось бы, испытывая упорное, неуклонное давление такой извращенной, дегенеративной, порочной души, какая была у моего покойного мужа? Или же моя старомодная женская добродетель была всего лишь чем-то наносным, привнесенным средой и семейным воспитанием, а в душе я всегда носила страшные помыслы? Надо хорошенько все это обдумать. Но как бы там ни было, в конечном итоге я преданно служила мужу. Мне даже кажется, я могу утверждать, что муж прожил счастливую жизнь, в согласии со своими желаниями.
Что касается Тосико и Кимуры, все еще остается много вопросов. Тосико сказала, что, воспользовавшись услугами своей «продвинутой» подруги, подыскала гостиницу в Осаке для наших свиданий, «поскольку господин Кимура спросил, нет ли где подходящего места», но вся ли это правда? Не встречалась ли Тосико там с кем-то, не продолжает ли встречаться сейчас?
По плану Кимуры, выдержав положенный срок, он формально женится на Тосико и мы будем жить здесь втроем. Тосико согласна принести себя в жертву, ради соблюдения приличий, так он говорит, но...
Junichiro Tanizaki,
1956
На обложке:
фрагмент гравюры Исода Корюсай «Двенадцать шагов на пути чувственности», 1775-1777




