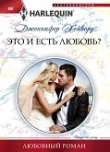Текст книги "Не возжелай мне зла"
Автор книги: Джулия Корбин
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Я хочу увидеть моего ребенка. Больше мне ничего не надо, – улыбнулась она. – Ведь это такое чудо, это удивительно, правда?
Профессор Фиггис сообщил ей, что акушерка предложила рожать на тридцать четвертой неделе, таким образом мы достигли бы компромисса. Сэнди останется у нас в отделении на две недели, ей будут поддерживать жидкостный баланс, давать противорвотное, и она сможет рожать. Она подержит ребенка на руках и перед операцией несколько дней проведет с ним.
Во вторник нам, как всегда, не хватало персонала. Врач-ординатор еще болел, профессор Фиггис уехал в Глазго читать лекции. Одно это было нехорошо, а тут еще затемпературил ординатор в соседнем отделении, и мне пришлось взять на себя и его обязанности. Я понимала: придется бегать туда-сюда в постоянном цейтноте. Однако, когда я заглянула в палату Сэнди, чтобы взять кровь на анализ, ей вдруг захотелось со мной поболтать.
– Простите за любопытство… Но вы ведь тоже беременны?
– Да. Пять месяцев, – ответила я, наматывая ей на предплечье жгут. – Еще не так долго.
– И у вас это будет первый?
– Да.
– Вы уже приготовили для него комнату?
– Еще нет… Но золовка вяжет всякие вещи, – ответила я, нащупывая вену. – Приданого хватит на пятерых.
Сэнди принялась увлеченно рассказывать, что приготовила она. Комнату она обставила еще несколько месяцев назад, покрасила стены в светло-розовый цвет, убрала их картинками, которые могут быть ребенку интересны, понавесила всякие разноцветные штуки, запаслась памперсами, приготовила пеленальный столик и много всего другого, что может пригодиться для ухода за новорожденным.
– У нас с мужем десять лет не получалось, никак не могла забеременеть, уж как мы старались, и вот наконец, – говорила она, излучая такую радость, что в палате становилось светлей, словно в окнах сияло солнышко.
– А вы знаете, кто будет, мальчик или девочка? – спросила я, когда четыре пробирки на подносе наполнились кровью.
– Нет еще. Нам хочется, чтобы был сюрприз. Но я все равно часто представляю, какой он, на кого похож. – Она смущенно засмеялась. – Мне кажется, у него веселенькие глазки, милый носик и полные щечки с ямочками. И он будет всегда улыбаться. – Она снова засмеялась. – Тревор говорит, что груднички красивыми не бывают. Сморщенные, с родимыми пятнами – и всю дорогу кричат не переставая. Но мне, честное слово, все равно, пусть кричит, ведь я знаю, что у меня ничего лучше в жизни не будет. – Она откинулась на подушки и мечтательно уставилась в потолок. – Если родится мальчик, назовем его Майклом, а если девочка – Кирсти. – Сэнди удовлетворенно вздохнула. – Наш ребеночек. Представляете?
– Честно говоря, не очень, – улыбнулась я. – Пытаюсь, но не получается.
Она говорила что-то еще, и я не видела в ней ни капли страха, даже малейшего трепета за собственное здоровье, ужаса перед тем, что ждет ее в ближайшие недели. Я даже засомневалась, поняла ли эта женщина, что именно ей недавно сказал профессор. А вот муж ее, Тревор, похоже, испугался, в глазах у него жила тревога, и я понимала, что уж у него-то нет никаких иллюзий насчет будущего.
Потом я отправилась в процедурный кабинет готовить внутривенные препараты. Я доставала из холодильника пузырьки и вводила стероиды или антибиотики в колбы с солевым раствором, каждая в сто миллилитров, всего пятнадцать. Они стояли передо мной в ряд, я занималась этим, а сама мечтала только об одном – поскорей выспаться. Я наклеивала на каждую колбу бумажку с названием препарата и именем пациента. Меня три раза прерывали: то и дело вызывали в отделение, чтобы уладить кое-какие проблемы. Половина среднего медицинского персонала, включая старшую сестру, была на больничном, и дежурила только младшая сестра, еще не очень опытная.
Оглядываясь назад, я отчетливо вижу, что назревала беда, что-то должно было стрястись, но тогда я ничего не замечала. Носилась по двум отделениям, хваталась то за одно, то за другое и старалась всюду успеть.
Во время двухчасового обхода Сэнди нужно было ввести солевой раствор со стероидами, который я приготовила. Этим занималась одна из сестер, в точности как было расписано в графике. Через пять минут меня срочно вызвали в палату к Сэнди, у нее вдруг появилась крапивная лихорадка, сопровождаемая страшным зудом. У меня на глазах кожа ее распухала и краснела. Но хуже того, она с трудом дышала. Губы посинели, из груди вырывались хрипы. Очевидно, в легких не хватало кислорода, и каждую секунду становилось хуже. Налицо были классические симптомы острой аллергической реакции, причиной которой, скорее всего, явился препарат, введенный ей внутривенно. Я проверила емкость, наклейку и название стероида. Все правильно. На это вещество у нее аллергии не было, она уже несколько раз принимала его без каких-либо отрицательных последствий. Я лихорадочно соображала, что же могло случиться, и вдруг с ужасом поняла. Из-за страшной усталости, из-за того, что меня то и дело дергали, я, похоже, перепутала наклейки. Сэнди Стюарт категорически противопоказан пенициллин, а как раз он содержался в двух приготовленных мною колбах.
Я была так потрясена, что ребенок в животе опустился вниз и головкой нажал на мочевой пузырь. Господи, какая страшная, жуткая ошибка! Надо срочно исправлять ее – немедленно, пока Сэнди не стало еще хуже. Трясущимися руками я остановила внутривенное вливание и приказала сестре вызвать бригаду неотложной помощи, а сама ввела Сэнди адреналин. Через несколько секунд дыхание стало легче, но в глазах Сэнди была такая обреченность, какой я никогда еще не видела.
– Сэнди! – Я взяла ее за руку. – Скоро здесь будут врачи. Мы сделаем все, чтобы тебе стало лучше.
Я видела, она мне не верит, и совсем растерялась. Я словно забыла, что я врач, разом утратила все свои навыки. И без того ограниченные знания в области неврологии словно ветром сдуло, в голове ничего не осталось, и когда я лихорадочно соображала, как аллергическая реакция подействует на и без того поврежденный мозг, там гуляли сквозняки.
Сэнди крепко держала меня за руки и, не отрываясь, смотрела мне в глаза, словно требовала, чтобы я внимательно ее слушала и запоминала.
– Позаботьтесь о моем ребенке, – проговорила она, впившись ногтями мне в кожу.
Ей снова стало трудно дышать. Я попыталась вырваться, чтобы ввести еще порцию адреналина, но она держала меня крепко и не отпускала.
– И еще… Скажите Тревору, что я его люблю.
Когда прибыла бригада, Сэнди уже лежала без сознания, и я готовилась вколоть ей второй шприц адреналина. Дежурный врач из другого отделения неврологии пробовал одну процедуру за другой, но, что бы он ни предпринимал, ей становилось все хуже, и шансов на спасение почти не оставалось. Тогда ей срочно сделали кесарево сечение, и ребеночка, весом всего в три фунта, сразу поместили в инкубатор. Когда врач констатировал смерть, в палате стало тихо, а одна сестра не выдержала и разрыдалась.
Я укрылась в туалете. Лучшее место для осознания масштабов собственной некомпетентности вряд ли найдешь. Я сидела на стульчаке, в голове не укладывалось, как это все могло получиться. Мысли блуждали по кругу, меня попеременно охватывал то ужас, то чувство нереальности происходящего.
В конце концов пришлось выйти. Отделение возвращалось к нормальной работе. Больные ужинали, профессор Фиггис, только что вернувшийся из Глазго, беседовал с Тревисом Стюартом, сообщая, что жена его умерла. Перепробовали все средства, ничего не помогло. Состояние ребенка тоже вызывало серьезные опасения. Он не дышал самостоятельно, его немедленно подключили к аппарату искусственного дыхания. В борьбе за жизнь Сэнди я даже не узнала, мальчик это или девочка.
Я ужасно боялась встречи с мистером Стюартом, и когда он закончил разговор с профессором и пришел в отделение, спряталась в процедурной и подглядывала за ним в щелку двери. Лицо его было белое как мел, невидящие глаза смотрели куда-то в пространство. Сестры собрали вещи Сэнди, упаковали в несколько мешков, они стояли на кровати, уже заправленной чистым бельем, и ничто не напоминало, что здесь совсем недавно лежала его жена. Он устало поднял пакеты и, согнув спину, по-стариковски волоча ноги, направился к лифту. Горе сломило его.
Профессор Фиггис вызвал меня к себе в кабинет, указал на стул и только потом уселся сам за рабочий стол, оперся о него локтями и положил подбородок на руки. В окне за его спиной светило клонившееся к закату солнце, и мне пришлось прикрываться от его прямых лучей. Я рассказала профессору все как было, от начала и до конца, ничего не утаила и ждала, что он немедленно уволит меня. Он выслушал с серьезным лицом и согласился: да, ошибка ужасна.
– Я напишу заявление об уходе, – сказала я, пугаясь собственных слов.
– А толку? – строго спросил он. – Вы молодой и, смею сказать, перспективный врач. А врачам порой приходится учиться на собственном горьком опыте… Вам не повезло, да, и вы сделали глупость. Так не делайте еще одной.
– А как же мистер Стюарт? – Я сдвинулась чуть в сторону, прикрыв глаза от солнца ладонью. – Он знает, как это произошло?
– Мистер Стюарт знал, что его жена неизлечимо больна, и ни вы, ни я не могли тут ничем помочь.
– Да, но…
– Ваша ошибка заключалась в том, что вы поверили в безграничность собственных возможностей.
– Надо было попросить кого-нибудь помочь.
– Надо было, – согласился он. – Но у нас, к несчастью, не хватает персонала, так что удивляться нечему.
– Я понимаю, ничего уже не исправишь, но…
– Мы не боги, доктор Нотон. Мы не в силах исправить то, что исправить в принципе нельзя.
– Да, но будь я более добросовестна, по крайней мере…
– По крайней мере – что? Она бы воскресла, точно Иисус? И все возрадовались бы? – Он устало покачал головой. – У нее диагностировали рак. Конечно, никто не думал, что она умрет сегодня, но месяца через два в любой день можно было ждать развязки.
– Но я приблизила ее кончину. – Я сощурилась на солнце, глаза наполнились слезами. – Я убила ее.
– Вы тоже человек, доктор Нотон, и нет такого врача, который не совершал бы ошибок. Моим учителем был профессор Льюис Маркхэм. Слыхали о таком? – (Я кивнула.) – Так вот, однажды он сказал мне, что врач только тогда становится настоящим врачом, когда убьет пациента. Звучит, может быть, резковато, но, к несчастью, в этом есть значительная доля правды. – Он обернулся и поправил шторы, почти задернул, осталась лишь узкая щелочка, сквозь которую проникал тонкий солнечный лучик, прорезая пространство кабинета. – А сегодня и вы поняли, что способны совершать ошибки.
– Сэр, я…
– Это как в бейсболе, когда бросают крученый мяч. Он летит по непредсказуемой траектории, но отбить его надо, отбить и бежать. Если бы вы работали на государственной службе, учителем или адвокатом, у вас вряд ли получилось бы своими руками убить человека. Но в нашей профессии… – Он пожал плечами. – Это очень даже возможно. Каждый день мы рискуем навредить другому человеку, но чаще всего как-то избегаем этого. А видя сейчас на вашем лице такое раскаяние и муки совести, я не сомневаюсь, что благодаря этой ошибке из вас получится замечательный врач. – Он встал и проводил меня до двери. – С этого момента все, что вы делаете, вы должны делать чуточку лучше. Мистеру Стюарту вы ничего уже не вернете, зато в будущем не допустите ошибок. И в заботе о людях станете примером для подражания.
Я поблагодарила его за все и вышла. Итак, осознание того, что работу я не потеряю, нисколько не умаляло ужаса, который, словно раковая опухоль, терзал все мои внутренности. Когда я приехала домой, Фил обнял меня, повел на кухню, погладил мой раздувшийся живот.
– Как поживает моя вторая девочка?
– Или мальчик, – машинально ответила я.
Бросившись в кресло, я сильно стукнулась лодыжкой о ножку стола и уже не думала ни о чем, кроме боли, пронизавшей всю ногу до колена. Фил приготовил ужин, но ела я тоже машинально. Что-то похожее на курицу, абсолютно безвкусную. Минут пятнадцать говорил только он, но потом вдруг опомнился:
– С тобой все в порядке?
– Помнишь, я рассказывала тебе про пациентку, – сказала я, и перед глазами снова встали муки этого дня, сердце мое разрывалось на части. – Она умерла. – Я отодвинула тарелку, уронила голову на руки и разрыдалась. – Она умерла, Фил. Черт бы меня побрал, она умерла.
– Послушай, Лив, – крепко взял он меня за плечи и приподнял. – Ты очень устала, любовь моя. Пойдем в гостиную, там удобнее, тебе надо отдохнуть.
– Вовсе я не устала. То есть устала, конечно, но плачу я не из-за этого. Я плачу, потому что я плохой врач.
– Ты слишком совестлива, и в этом твоя беда.
– Но я же убила ее.
– Никого ты не убивала! – Он усадил меня в большое кресло, сам устроился рядышком. – Ты ведь неопытный врач! И не обязана отвечать за все, что происходит в отделении. Решения должны принимать ординатор и врач-консультант, они там для этого и сидят. – Он крепко обнял меня; обычно так тепло и уютно в его руках, но тогда мне было тесно. – Твоей вины здесь нет, любовь моя.
Я резко отстранилась:
– Нет есть! Господи, как я устала и… – Я задохнулась от злости. – Черт побери!
– Ты принимаешь все слишком близко к сердцу. Для врача это, конечно, неплохо, но тебе мешает. Надо учиться отсекать ненужные переживания.
– Фил, я серьезно. – Я схватила его за рубашку. – Выслушай меня, прошу.
– Посмотри, что я сегодня нашел! – весело сказал он, беря какой-то каталог с журнальной полки. – Я ходил в магазин, хотел посмотреть детские кроватки. Смотри, вот эта мне понравилась. – Он заглянул мне в глаза, чтобы убедиться: я вижу, что он показывает. – Ну, что скажешь?
– Скажу, что ты должен меня выслушать!
Я чуть не кричала, потому что эти картинки с детскими кроватками и счастливыми мамашами живо напомнили мне про Сэнди и ее ребенка, которого дома, если он вообще когда-нибудь попадет домой, поджидает детская комната, где будет все, кроме мамы.
– Она тоже ждала ребенка.
– Матрасик придется купить отдельно. – Он совсем не слушал меня. – И еще надо выбрать коляску. Ручку нужно будет подогнать по высоте, так удобней класть и доставать крошку, да и возить тоже.
А передо мной возникло лицо Сэнди, рассказывающей, как они с мужем выбирали коляску.
– Она все приготовила для своего ребеночка. Коляска у них была такая…
– Да ради бога, Лив!
Он рассердился, лоб его прорезала вертикальная морщина. Раньше я ее не замечала. Я подумала, что мы с ним стареем, если стали замечать на лице друг у друга каждую складку. А я лишила этого счастья Сэнди и ее мужа. Они любили друг друга, были друг для друга единственные, у них должен был родиться ребенок, которого они сотворили вместе.
– Ее звали Сэнди Стюарт. Мать умерла, а ребенка сунули в инкубатор. – Я сидела, раскачиваясь взад-вперед. – Если бы я была повнимательней… И зачем только убежала из кабинета, надо было сначала закончить с этикетками…
– Пойду наберу ванну. Тебе надо поскорее забыть об этом и думать только о нашем ребенке. – Он вздохнул и встал.
Пока он готовил ванну, я потихоньку выскользнула из дома и побежала к Лейле. Рассказала все, видела, как ужас метнулся в ее глазах и быстро исчез, она стала меня успокаивать. Лейла, как и Фил, старалась убедить меня, что я не совсем права, но Фил не хотел слушать, а Лейла села рядом на диван и выслушала не перебивая, от начала до конца и убежденно заявила, что во всем виновата не я, а руководство.
– И кто додумался оставить тебя одну во главе сразу двух отделений?! – возмущалась она. – Это же ужас! И ты тут совершенно ни при чем.
Потом за мной явился Фил. Лейла вышла с ним из гостиной, и они долго о чем-то шушукались. Не знаю, что там она ему наговорила, но, кажется, помогло. Он был со мной чу́ток и внимателен, отвел домой, уложил в постель, лег рядом и крепко обнимал, пока я наконец не выплакалась.
На следующий день я отправилась на работу, но мне было так тяжело сознавать свою ошибку, что все валилось из рук. Профессор Фиггис отвел меня в сторонку и сказал, что в последние две недели моей аспирантуры я должна отдохнуть.
– А потом куда собираетесь? – спросил он.
– В Северную центральную больницу, – ответила я.
– Превосходно! Вот отдохнете как следует, и вам станет намного лучше. Тем более совсем другая больница. Прекрасная возможность начать все сначала. Будет время освоиться… Увидите, вам все откроется в другом свете…
Мне показалось, что он просто хочет от меня избавиться, но я это заслужила. Первые несколько дней я без всякого энтузиазма возилась с детской комнатой, но взбудораженные мысли были заняты другим. Передо мной все еще стояло лицо Сэнди, я слышала ее голос, мне казалось, что я обязательно должна повидать Тревора. Ведь я слышала последние слова его жены, нужно было передать их.
На память не жалуюсь, адрес я запомнила, когда регистрировала Сэнди. Я подъехала к их дому, подошла к двери и постучала. Ответа не последовало. Я стучала еще и еще. Безрезультатно. Подумала, что он, наверное, отправился в больницу навестить ребенка, села на ступеньки и написала письмо с соболезнованиями и добавила, что перед смертью Сэнди просила передать, что очень его любит. В самом конце написала, если ему когда-нибудь вдруг захочется со мной поговорить о Сэнди, он всегда может позвонить. Внизу страницы большими цифрами записала номер своего телефона, сложила листок вдвое и бросила в щель дверного почтового ящика.
Прошло дня два, я все ждала звонка, но он так и не позвонил, и тогда я попросила Лейлу сходить в отделение интенсивной терапии для новорожденных и узнать, как дела у ребенка. Она сходила, а вечером сообщила, что ребенок умер.
– Господи…
Живот перехватило таким острым, болезненным спазмом, что я перегнулась пополам. Пришла, как говорится, беда – отворяй ворота. Двойная трагедия. Ребенок родился слишком рано, его силком вытащили из чрева матери, да еще в таких, мягко говоря, неблагоприятных обстоятельствах.
– Мальчик или девочка?
– Мальчик.
Я представила себе улыбчивую Сэнди с ее бьющей через край любовью к людям и к жизни и пожелала ей в лучшем мире встретиться со своим мальчиком и не расставаться уже никогда. Я горько плакала, Лейла держала меня за руки, а Фил готовил нам горячие напитки.
– Может, хочешь чего-нибудь покрепче? – спросила я Лейлу, когда слез уже не осталось и я смогла посмотреть ей в глаза. – Я бы тоже выпила, но мне сейчас нельзя.
Она поставила чашку с чаем на стол и легонько толкнула меня в живот:
– И мне нельзя. Я тоже беременна. – Она засмеялась, и ямочки на ее щеках стали еще глубже.
– Да что ты?! – воскликнула я, и мы крепко обнялись. – Господи! Это же потрясающе!
– Ну вот, теперь мы будем вместе рожать и воспитывать наших детей, – улыбнулась она. – Правда, ты на несколько месяцев меня опередила, но ничего! Несколько месяцев пустяки для таких подруг, как мы с тобой.
Мы снова обнялись, она посидела у нас еще часок, мы обсудили планы на следующие несколько дней. Она взяла четыре отгула в счет отпуска, и эти дни мы ходили по магазинам и покупали все, что, как Лейла считала, понадобится нашим детишкам: кроватки и коляски, пакетики с тальком и влажные салфетки, пастели для покраски стен, ткани на занавески. Горячий энтузиазм Лейлы зажег во мне первую искорку материнского чувства, я больше стала думать о растущем в утробе малыше. Если правда, что ребенок чувствует боль матери, то мой бедняжка в последние недели много страдал, и теперь надо сделать все, чтобы этого не повторилось. Конечно, я знала, что никогда не забуду о своей ужасной ошибке, но старалась думать только о ребенке и о Филе, обо всех нас, о семье, членом которой нашему крошке предстояло стать. Я твердо решила: сделаю все, чтобы смерть Сэнди не сказалась на нашем будущем.
И у меня не получилось.
7
Робби с Лорен проснулись поздно и теперь завтракают, конечно уткнувшись в телевизор. Перед ними два подноса с едой. Дети заказали апельсиновый сок и настоящий английский завтрак: ветчину, яйца, сосиски, кровяную колбасу, помидоры, а также поджаренный хлебец с вареньем. Бенсон лежит на кровати рядом с Лорен и провожает взглядом каждый кусочек, путешествующий на кончике вилки от подноса до ее рта. Они едят и смотрят кино, ничего вокруг не видя и не слыша. Я жалуюсь, что плохо спала всю ночь (это правда) и что мне надо еще немного отдохнуть (это не совсем правда). Отдыхать я совершенно не в состоянии. Теперь, когда я извлекла из темных закоулков памяти события октября 1993 года, стало совершенно ясно, почему пытались отравить Робби и почему у нас на стене появилось слово «убийца». Сэнди Стюарт я не убивала, но преждевременная смерть ее наступила в результате моих действий, а это значит, что, по сути, я и есть убийца. Я горько жалела тогда о случившемся, и если можно было бы изменить прошлое, то все переиграла бы, но вину свою я постаралась поскорей забыть навсегда, а если это звучит слишком грубо, то в защиту свою могу лишь сказать, что сделала это ради ребенка, которого носила под сердцем.
Глядя теперь на Робби, я с трудом представляю, что когда-то собиралась избавиться от него. В то время я была совсем другой – тщеславной девчонкой: если чего захотелось, подавай немедленно, а все остальное хоть гори синим пламенем. С тех пор я больше не ставила честолюбивые планы на первое место. Прежде всего семья, друзья, а уж потом все остальное. Мне бы сразу осознать, что беременность – дело серьезное. Сидела бы себе дома на больничном, а не крутилась на работе как белка в колесе, ведь понимала, что от этого только вред, а признавать не желала.
И вот на тебе, приехали… Неужели Тревор Стюарт решил наконец отомстить нам? Небось, прочитал про меня в газетах и все вспомнил. Когда в сентябре меня номинировали на награду, в прессе одна за другой появились три статьи о моей работе в центре реабилитации, и каждую неделю читателям напоминали, чтобы они не забыли «проголосовать за своего фаворита, который трудится на ниве общественного блага». Все эти назойливые, кричащие публикации вполне могли пробудить доселе спящую жажду мести. В свое время Тревор не подал ни одной жалобы на врачей, не обеспечивших надлежащий уход за его женой, но я неплохо изучила человеческую природу и понимаю, что чувство обиды может дремать годами, и признание, которое я получила сейчас, вполне вероятно, послужило детонатором, побудившим его к действиям.
Все мои размышления могут показаться притянутыми за уши, но, с другой стороны, они нисколько не противоречат логике вещей. Вряд ли злоумышленник пошел на преступление без достаточных оснований, а история многолетней давности вполне может быть таким основанием. Во что бы то ни стало надо докопаться до истины, и как можно скорее, пока не случилась еще одна беда.
Сползаю с кровати, выдвигаю ящики тумбочки. В них стандартная информация о гостинице, Библия и телефонная книга Эдинбурга. Листаю страницы, нахожу букву «С», пальцем веду вниз по строчкам… Вот, фамилия Стюарт. Стюартов здесь много, несколько колонок, шестеро носят имя Тревор. Я прекрасно помню, как опус кала в щель почтового ящика письмо, наверняка вспомню название улицы, а может, и номер дома. Читая адреса, вижу, что один из Треворов Стюартов живет как раз на той улице.
Закрываю справочник. Сердце так и бухает. Погоди, это еще ничего не значит. Не исключено, что там какой-то другой Тревор Стюарт… Впрочем, маловероятно… Итак, скорее всего, это он, но есть шанс, что он женился еще раз, у него новая семья, и воспоминание о том далеком времени мучит его лишь по ночам, да и то не всегда, а в зимнюю стужу, когда кругом полный мрак и само небо оплакивает тех, кто давно от нас ушел.
– Мам! – кричит Робби.
– Что? – виновато поднимаю я голову.
– Это папа, – машет он мобильником. – Отвечать?
Ах да, стоило позвонить Филу, рассказать, что случилось накануне, но мне было не до этого, я копалась в собственном прошлом.
– Дай мне трубку, сынок.
Слезаю с кровати, хватаю телефон, успеваю нажать до того, как сигнал прекратится.
– Фил, привет, это я. – Иду в ванную комнату, закрываю за собой дверь. – Как раз собиралась тебе позвонить.
– Зачем? Что-то случилось?
Рассказываю, что мы обнаружили дома, вернувшись с церемонии награждения, стараюсь сообщать только самое главное.
– Почему не позвонила сразу? – раздраженно спрашивает он.
– Было уже поздно. Больше двенадцати. С детьми все в порядке. Я думала…
– А вдруг этот тип вернется?
– Мы сейчас в гостинице…
– А что Робби говорит по поводу этой надписи? Как объясняет?
– Да никак! При чем здесь Робби? Он в жизни никому не делал вреда, ты по…
– А полиция? Какая у них версия?
– Приезжали криминалисты, сняли отпечатки пальцев, я договорилась встретиться у нас с инспектором О’Рейли до…
– Где-где?..
– Может, хватит перебивать? – взрываюсь я. – Я и так пытаюсь все объяснить!
– Надо было сразу сообщить, я бы тогда не злился! – кричит он в ответ.
– Вот именно, – стараюсь говорить ему в тон. – Если не перестанешь задавать дурацкие вопросы, будто я на скамье подсудимых, толку будет мало.
Он молчит. Сижу на краю ванны и упорно жду, не собираясь открывать рот первой. После развода два взрослых человека превращаются в злобных подростков, которым позарез нужно взять над противником верх. В этой игре победителей нет, а я все равно играю, как последняя дура.
– Ну, прости, не буду больше, – слышен наконец его голос, на этот раз гораздо более спокойный. – Просто меня все это возмущает. Честно говоря, не знаю, что делать.
– Мы все не знаем, что делать.
– И за детей беспокоюсь… Волнуюсь, как бы вы там дров не наломали.
У Фила есть одна удивительная способность: он умеет ловко ввернуть несколько нужных слов о своих чувствах. Я только через несколько лет после свадьбы догадалась, что на самом деле все это показное. Нет, он, конечно, и беспокоится, и волнуется, но за этим кроется нечто другое, в чем он ни за что не признается. Он прекрасно понимает, как убедить собеседника в своей искренности, мастерски это делает, собеседник тает, а он этим пользуется, чтобы получить свое. Фил будет это отрицать, но я-то наблюдала за ним не один год и теперь подозреваю, что он симулирует искренность, чтобы умаслить меня. Сейчас он наверняка о чем-то попросит.
– Послушай… Дети должны быть у меня только завтра, но, может, ты позволишь, я заберу их прямо сейчас? – говорит он. – Свожу куда-нибудь, выпьем чайку. Подышим воздухом в парке. Сегодня, кажется, будет хороший денек.
Ну вот, я так и думала. Просьба. Как на ладони еще один побочный продукт развода: использование детей в качестве поощрения или наказания. Я много раз наблюдала, как этот трюк проделывают мои знакомые или пациенты – запрещают, например, своим бывшим встречаться с детьми, если те в чем-то провинились.
Но я в такие игры не играю.
– Сейчас спрошу у них, – говорю. – Подожди минутку.
Оставляю мобильник в ванной, возвращаюсь в спальню. Фильм заканчивается, подносы с едой похожи на поле битвы. Бенсон лежит, уткнувшись носом в край подноса, и ждет разрешения расправиться с последней корочкой жареного хлебца.
– Папа предлагает сводить вас куда-нибудь выпить чаю и развеяться, покормить уток, выгулять Бенсона.
– Ура! – кричит Робби. – Я так и хотел провести субботу.
– Но мы ведь только что поели, – мрачно отзывается Лорен.
– Сначала погуляйте, – говорю я. – А поедите потом.
– А завтра что, тоже идти к нему? – спрашивает дочь, внимательно разглядывая ногти.
– Не знаю, – отвечаю я, садясь на кровать. – Но он очень хочет вас видеть. Беспокоится о случившемся.
– И Эрика будет с нами? – Лорен находит заусенец и впивается в него зубами.
– Думаю, да, – отвечаю я, беря ее за руку. – А что в этом плохого?
– Когда она рядом, папа всегда какой-то другой. – Лорен выдергивает руку и бросается на подушку. – Становится какой-то странный, сам на себя не похожий, порхает вокруг нее, суетится, будто она ничего сама не может сделать… С тобой он таким не был.
«Это потому, что он любит ее. Хочет все время быть рядом, не может с собой сладить».
Я глубоко вздыхаю:
– Поговорить с ним об этом?
– Он подумает, ты от себя говоришь, ревнуешь, – мотает она головой.
Тут Лорен права, и мне очень не нравится, что по нашей вине ей приходится видеть разлад между родителями.
– Он как-никак твой папа, Лорен, – говорю я и щекочу ей пятку. – Эрика в его сердце, возможно, останется не навсегда, а ты там будешь всегда.
Она отдергивает ногу и недоверчиво улыбается:
– Ты так думаешь?
– Я это знаю. Любовь к детям никогда не проходит, что бы ни случилось.
Она оглядывается на Робби, словно хочет увидеть, что он думает по этому поводу. Он, уставившись на экран, кажется, не слушает, но я вижу, что он сжимает зубы.
– Ну, что сказать папе? Вы согласны? – Я делаю веселое лицо. – Попросите, чтоб повел вас в ресторан, который вам понравился, возле школы.
– Робби! – Лорен трясет его за коленку. – Пойдем?
– Только если вместо завтра, – бесстрастно произносит он. – И только если не будет читать нам нотаций. – Бросает на меня язвительный взгляд. – Особенно теперь, когда сам убедился, что я не врал насчет наркотиков.
– Вполне здравая мысль, – отзываюсь я. – Но я почему-то уверена, что теперь он уж точно перестанет читать нотации.
Возвращаюсь в ванную, сообщаю Филу, что дети согласны, но с условием.
– Завтра они остаются дома. И еще… – Я делаю паузу. – Робби надеется, что теперь ты забудешь свои нравоучения.
– Это с твоей, небось, подачи?
– Ты про нравоучения? Нет, конечно.
– Но ты их не отговаривала?
– В общем-то, нет, потому что… Фил, Робби не хочет идти. А поскольку теперь очевидно, что он не врал насчет оксибутирата, может, действительно хватит пилить его? – (Молчание.) – Пойми меня правильно, эта надпись на стене… конечно, ужасна, зато теперь понятно, что Робби не виноват.
– Я все-таки считаю, что для Робби, да и для Лорен, было бы полезно поговорить о нашем с тобой разводе со специалистом.
– А им эта идея не по душе.
– Значит, надо их как-то убедить. Некоторые вещи самому надо попробовать, чтобы увидеть пользу.
– Я с этим не спорю, но…
– Оливия, родители не должны перетягивать канат, доказывать друг другу, кто больше любит детей.
– А я и не перетягиваю!
– Тебе надо больше думать об их воспитании.
Как обычно, мы переливаем из пустого в порожнее, а я слишком устала, чтобы спорить, и пропускаю это мимо ушей, дав себе слово поговорить с детьми потом. Сообщаю Филу, в какой гостинице мы остановились, он говорит, что будет через полчаса. Собираем вещи, спускаемся вниз как раз вовремя. День опять погожий, сквозь листья каштанов, выстроившихся вдоль тротуара, струятся солнечные лучи. Бенсон быстренько обнюхивает стволы, потом садится рядом с нами и тоже ждет.