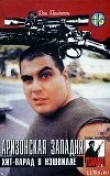Текст книги "Коляска (ЛП)"
Автор книги: Джозеф Хиллстром Кинг
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Он работал в кабинете, бывшей свободной спальне, окно было приоткрыто, чтобы не было душно. Весь день было тепло, но когда солнце приблизилось к краю земли, повеяло прохладой, и, вдохнув, он уловил запах тиса и бальзамической пихты. Он продолжал работать еще минуту, затем резко поднялся и вдохнул, глубоко втягивая воздух в легкие через ноздри. Но как он ни старался, он не мог вернуть тот сладкий, восхитительный намек на хвою. Запах исчез так же внезапно, как и появился... если он вообще был. Если он не просто вообразил его.
Он подумал, не будет ли прогулка в сопровождении здорового глубокого дыхания как раз тем, что нужно, чтобы дать его обонянию новый толчок. За этим последовала другая мысль – мидол не помог от мигрени Марианны, а джин с тоником мог бы помочь, и в деревенском магазине был Bombay Sapphire. Одна мысль о том, чтобы выбраться из дома и отправиться в зеленую тьму дорожки для верховой езды, наполняла его удовольствием. Он жаждал запаха сосновой хвои, которую мягко давили колеса коляски.
Он побрел к сараю, отодвинул задвижку и со скрипом открыл дверь. В сарае было только одно окно, и он оставил коляску припаркованной перед ним. Стекло было почти непрозрачным от грязи, поэтому свет был серым и рассеянным, но все еще достаточно сильным, чтобы сделать гнилой старый тент полупрозрачным. Уилли сделал шаг к нему, под ногами хрустнули мелкие кости, и что-то село внутри коляски, темный силуэт на фоне брезента. Два черных, сморщенных, детских пальца протянулись изнутри и сомкнулись на краю корзины.
Уилли обнаружил, что борется за воздух, не может, кажется, втянуть кислород в легкие. Он дернулся, сразу, вспышкой панического мужества, отшвырнув тент в сторону. Енот поднял к нему морду и зашипел, показывая кончик грубого розового языка. Его яркие глаза сверкнули, зараженным металлическим красным в водянистом солнечном свете. Он прыгнул не от него, а к нему, опрокидывая коляску, когда вылезал из нее. Уилли подавился криком и отшатнулся в дверной косяк, ударившись головой. Ужасные маленькие лапки енота царапали-скребли пол, когда он метнулся в дальний угол сарая, исчезнув между полураскрытым зонтом и старомодной тяпкой.
– Маленький сукин сын, – крикнул он ему вслед. – Иди на хуй и сдохни.
Его зрение темнело и прояснялось пульсирующе, в такт стучащему сердцу. Он поставил коляску, движения его были резкими, переполненными адреналином. Он вытащил ее и захлопнул дверь сарая. Она ударилась о косяк и снова отскочила. К черту. Он плюнул, раз, другой, словно у него во рту был неприятный привкус. Потом он засмеялся, потому что у него дрожали руки. Бесстрашный городской житель, который после полуночи бродил по бруклинским лавкам и баранам с уверенностью человека, который выпил и подрался... превратился в трясущуюся развалину после ограбления тридцатифунтовым грызуном.
Когда он спустился в лес, у него была легкая головная боль. Он не знал, что страх тоже может давать похмелье. День был ясным, почти безоблачным – небо было пугающе синим – что делало тропу под деревьями еще темнее, зеленым колодцем, спускающимся в пучины мрака. Он был рад этому, хотел темноты. Его обоняние не вернулось, и он не удивился. Вселенная взялась за дело отнимать у него вещи: ребенка, его простое супружеское счастье, чувственное удовольствие от запаха сосен.
Какое-то насекомое безжалостно жужжало. Звук был везде или, может, нигде. У него возникла тревожная мысль, что он только у него в голове. Этот идиотский жужжащий звук был звуком его собственной обиды. Он чувствовал себя опасным, словно отправился в лес с заряженным оружием и дурными намерениями. Когда енот пошевелился внутри коляски, Уилли почувствовал под толчком паники что-то еще, возбуждающий трепет... волнения. Какая-то часть его подумала – он тряхнул головой, не мог даже позволить себе признать, что он подумал, только что это было что-то детское и грустное, и он ненавидел себя за эту мысль.
Он вышел из леса и встал у края Лоуэлл-роуд, пока мимо проходил лесовоз, волоча за собой вихрь коры и восемь или девять машин. Пока он ждал возможности перейти к деревенскому магазину, он случайно увидел забавную вещь. Гудкайнд стоял у полуоткрытой двери каретного сарая, в тесной беседе с парой пожилых Сажателей Греха. Возможно, это была та самая пара, которую Уилли видел в день, когда Салли Тимперли показывала им ферму. На старухе была шляпа-чепец с конусом длиной почти в фут. Грубый коричневый сюртук ее мужа последний раз был в моде до таких гнусных изобретений, как радио и телефон. Конечно, Гудкайнд был в прекрасных отношениях со стариками из Завета. Он покупал у них всевозможные местные продукты – не только брикеты масла, но и папоротник-страусник, редис, помидоры и позднелетнюю кукурузу. Уилли предположил, что сейчас они говорили о торговле, хотя по тому, как они стояли, склонив головы и придвинувшись близко, они могли так же просто делиться молитвой.
Он оставил коляску на широком крыльце деревенского магазина, вошел и собрал продукты: банки тоника из бузины, бутылку Bombay Sapphire, сливки, букатини, брикет местного святого масла. К тому времени, как он добрался до кассы, Гудкайнд уже вернулся на свое обычное место на табурете за прилавком. Одна из его девушек начала пробивать покупки Уилли.
– Лучше держите коляску, – сказал Гудкайнд. – Она вам понадобится, если вы собираетесь тащить все это обратно по дорожке для верховой езды.
– Забавно, как деревья растут вдоль тропы. Это меньше похоже на тропу, больше на тоннель.
– Не тоннель. Воронка! – сказал Гудкайнд и поводил бровями.
– Что вы имеете в виду?
– Эта тропа на линии лея, – сказал ему Гудкайнд. – Вы, должно быть, чувствовали это. Завет чувствовал и действовал соответственно. Посадили свои деревья вдоль нее. Посадили их и питали их кровью. Они резали себя, понимаете? В старые времена нелегко было присоединиться к Завету. Требовались годы. Один из последних шагов, прежде чем человека могли принять, он должен был вырезать крест на ладони и истечь кровью для дерева. Излить свой грех в почву. Завет сажал рощи здесь вокруг. Если вы встанете в них с компасом, стрелка будет крутиться во все стороны, так и не найдя север – круги деревьев, содержащие маленькие водовороты энергии. А еще есть дорожка для верховой езды, которая не что иное, как воронка длиной в милю.
– Воронка для чего?
– Не знаю, – сказал Гудкайнд и пожал плечами со смехом. – Только те, кто прошел последние таинства, могут знать все их секреты, что исключает таких парней, как вы и я. Но воронка – это просто инструмент. В нее можно вылить что угодно. Топливо. Зерно.
– Обиду, – пробормотал Уилли.
– Что?
– Ничего. Кстати, о зерне – мне следовало взять буханку хлеба на закваске.
– У нас есть свежеиспеченный, – сказал Гудкайнд. – Еще горячий. Еще даже не выложил. Дайте я вам принесу.
Он умчался на своих долговязых ногах, оставив Уилли с одной из бесчисленных женщин Гудкайнда. Это была не его жена – дочь, возможно, или внучка, с прямыми каштановыми волосами и густыми сросшимися бровями. Она сложила последние вещи Уилли в коричневый бумажный пакет.
– Оставьте ее, – сказала она, ее голос был каким-то сердитым шепотом. – Просто оставьте.
Никогда раньше женщины Гудкайнда с ним не разговаривали, и он был озадачен, не был уверен, что правильно ее расслышал. – Коляску? Брайан сказал, что можно продолжать пользоваться.
Она открыла рот, чтобы сказать что-то еще – во всей наклоне ее тела была срочность – но тут за прилавком снова появился Гудкайнд, и она сжала губы и сунула ему его продукты. Уилли посмотрел на девушку, встревоженный, ожидая продолжения, но она повернулась и исчезла в заднем офисе, не взглянув на него больше.
– Хлеб наш насущный дай нам на сей день! – воскликнул Гудкайнд и протянул Уилли буханку, дымящуюся и ароматную в бумажной обертке.
– И прости нам долги наши? – спросил Уилли.
– Нам бы так повезло, – сказал ему Гудкайнд и снова поводил бровями.
семь
Он держал свои сумки и смотрел в корзину коляски. Черная плесень пятнила полосатый матрас. Может, поэтому девушка сказала ему оставить ее. Возможно, она думала, что это негигиенично. Очень вероятно, что она была права. И плевать на плесень. Неужели он действительно хочет класть свои продукты в эту штуку после того, как в ней гнездился енот? Лучший вопрос был: Хочет ли он нести двенадцать фунтов покупок обратно, мошки садятся ему на лицо, пируют на его поту, пока его руки заняты и он не может отмахиваться? Еда, в отличие от него, имела некоторую защиту. Продукты отправились в коляску.
Разговоры Гудкайнда о линиях лея и кормлении тисов греховной кровью не сделали его нервным насчет дорожки для верховой езды. Совсем наоборот. Ему нравилась идея, что здесь есть сила и старики знали об этом. Ему нравилась идея, что они создали аллею, укрытую от ужасов повседневности, зеленую нору, идущую вне реальности, место, где было вооооот-вот возможно посетить жизнь, которая была украдена у него. Отдохнуть в альтернативной, лучшей временной линии. Небо было ярким, но солнце уже село за холмы, и в тоннеле тисов было темно и торжественно. Его головная боль прошла. Его прогулка до магазина унесла ее прочь... мысль, которая невероятно ему понравилась. Ему сейчас казалось, что он месяцами дрожал от ярости. Ему нравилась идея, что вся его ненаправленная ненависть может быть унесена прочь, оставив его опустошенным, освеженным и восстановленным.
Здесь, на дорожке для верховой езды, без свидетелей и судей, без тех, кто сочтет его глупым, он мог катить коляску, гуляя с ребенком, которого никогда не было. Он мог петь ему, если хотел, а он хотел. Он пел «Baby Won’t You Please Come Home», и на этот раз он пел припев, и это даже не казалось странным.
Baby won’t you please come home?
Because your daddy’s so alone.
Он увидел белую вспышку краем глаза и оглянулся, подумал, что мельком увидел бородатую неясыть. Это был всего лишь круг обнаженной древесины на стволе тиса, голая древесина была самой яркой вещью в полумраке. Он был размером с человеческое лицо, и, подойдя ближе, он увидел надпись, вырезанную на мягкой древесине:
ЕФРЕМ АШЕР, КАЮЩИЙСЯ, ИСТЕК КРОВЬЮ ЗА СЕБЯ,
АННУ, ГРЕЙС, МИРИАМ, ДОЛОРЕС, ГАРМОНИ, ЛИКОВАНИЕ
И НАШЕГО СПАСИТЕЛЯ ИИСУСА ХРИСТА
ПРИНЯТ В СЕЙ ВЕЧНЫЙ ЗАВЕТ 13 ФЕВ 1943
Он оглянулся на пройденный путь и увидел еще один круг ободранной коры на следующем тисе. Их было легче разглядеть в жутком полумраке. Обнаженная древесина ловила угасающий солнечный свет и мерцала. Все деревья были отмечены одинаково. Он осознавал это, когда ребенок издал скрипучий плач из коляски, как дети делают, когда папа перестает катить коляску.
Это птица. Как в прошлый раз , подумал он.
Ребенок закричал снова, и больной укол тревоги, почти электрической природы, казалось, пронзил его кости.
– Нет, не птица. Это лиса, – сказал он вслух. Во рту у него пересохло. Это птица, это самолет , подумал он. Это невозможный ребенок .
Ребенок снова издал скрипучий звук страдания, и он оказался не в силах повернуть голову и посмотреть. Он решил, что лучше протереть очки. Он не знал, ужаснулся он или восхитился. И то, и другое, возможно. Уилли снял их и протер полой рубашки – они были покрыты желтой пыльцой – а затем наклонил их так, чтобы увидеть коляску, отраженную вверх ногами в кривизне линз. Ребенок поднял одну пухлую ручонку и снова опустил ее.
– Я этого не видел, – сказал он, но, повернувшись обратно, он не заглянул в коляску. Как только он встал за ручки, он был в безопасности – он не мог видеть внутрь коляски. Тент закрывал обзор. Все будет хорошо, когда он снова начнет катить, решил он. Лиса убежит, когда услышит грохот и лязг коляски, поднимающейся в гору. К тому же, ребенок успокоится, как только они снова начнут двигаться, даже если ребенка нет.
Он оказался прав. Он больше не слышал (ребенка) лису, и вес, смещавшийся туда-сюда в коляске, был от продуктов, а не ребенка. И неважно, что это не было похоже на сумки. Это катилось иначе. Это двигалось.
Уилли должен был бы встревожиться, но, поднимаясь на холм, приближаясь к сараю, он обнаружил, что ухмыляется, его лоб покрылся испариной, которую нельзя было полностью списать на усилие. Одни мужчины рождены, чтобы играть в футбол, трахать моделей и быть на ТВ; другие – чтобы поступить в Йель и баллотироваться в Конгресс. Уилли был рожден, чтобы катить коляску... чтобы выйти из своей несчастливой жизни и войти в зеленый лес чего-то лучшего. Ему было только жаль, что дорожка для верховой езды такая короткая, даже не полная миля. Он бы с радостью катил коляску, пока не уйдет весь дневной свет и за его спиной не взойдет луна. Он мог бы катить ее всю ночь.
Он снова оставил ее в сарае. Он больше не беспокоился о еноте. Того предупредили.
восемь
В ту ночь настала его очередь услышать это: стальной хлопок дверцы для собаки внизу. Это разбудило его чуть позже часа ночи. Ветер ревел, и дом скрипел. Здесь часто становилось ветрено после наступления темноты, порывы мчались вдоль края хребта, трепля деревья и напирая на дом.
Он устроился поудобнее на подушке и проигнорировал, когда дверца для собаки хлопнула снова. Починю утром , подумал он.
Но утром у него были другие заботы.
девять
Марианна собиралась уходить, сразу после завтрака. Она встречалась с парнем на городской свалке, чтобы поговорить об избавлении от какой-то ветхой мебели, оставшейся в доме. Но едва она открыла входную дверь, как издала кашляющий стон неудовольствия и отступила в гостиную.
– Уборка в первом проходе, – сказала она.
Уилли сидел за разделочным столом на кухне – они привезли его с собой из Бруклина – доедая последнюю корочку тоста. Он соскользнул с табурета, вопросительно посмотрел на нее.
– Мертвый енот на крыльце, – сказала она. – Я не буду его трогать.
Он вышел в теплеющий день. Енот лежал на боку, доски еще были влажными и поблескивали ее кровью. Какое бы животное ни настигло ее, оно вспороло ее от горла до паха и тщательно выпотрошило. Оно также унесло с собой ее голову.
Уилли нашел под раковиной резиновую кухонную перчатку и натянул ее. Он вернулся на место преступления, ухватил тушку за неприятно одеревеневший хвост и отнес через луг к опушке леса. Он держал труп подальше от себя, замахнулся и швырнул его в сосны.
– Правильно, дорогуша, – сказал он. – Нарывайся и узнавай.
десять
Первый раз, когда он услышал ребенка, он был прикован к месту этим звуком, лишен дыхания смесью страха и очарования. Во второй раз, когда он увидел отраженную в очках пухлую размахивающую ручку, его пронзил шок. Но в последующие дни любая тревога, которую он чувствовал, настоялась, как чай, во что-то другое: любопытство и желание снова услышать ребенка.
Уилли хотел побыть наедине с коляской, пройтись по аллее тисов, скрытым в этой клетке из искалеченных черных ветвей. Брайан Гудкайнд называл это воронкой. Разве родовой канал тоже не своего рода воронка? Уилли и верил, и не верил, что иногда в коляске был ребенок. Он и верил, и не верил, что видел, как та размахивала пухлой ручкой. Он ходил по тропе, и тропа уносила прочь его боль и его страдание, и, да, его обиду, его совершенно оправданную обиду на космические силы, которые его поимели. Дорожка для верховой езды фокусировала всю эту энергию во что-то, что он почти мог поднять и держать, во что-то, что хотело, чтобы его держали и пели ему. Ему нужно было катить еще немного, еще дольше. Он думал, если он прокатит коляску еще раз или два, он, возможно, вернется из деревенского магазина с ребенком вместо продуктов. Пухлым младенцем с нежной кожей его матери, серо-голубыми глазами его отца и пухлыми, хватательными ручками.
На мгновение, в последний понедельник месяца, показалось, что его шанс снова побыть наедине с коляской представился. Марианна заглянула в шкафчик и обнаружила, что у них кончились кофейные фильтры.
– Полагаю, ты не хочешь сбегать в деревенский магазин и взять? Можно еще взять пончики с сидром. Тебе они нравятся.
– Я пешком пойду, – сказал он. – Приятная прогулка.
– А знаешь, что еще приятно? Кофе, который не нужно ждать час. А знаешь, что еще приятно? Оставаться в браке.
Он подбросил ключи от машины и поймал их с побрякиванием на выходе из дома.
Гудкайнд был занят. Он был у прилавка гастронома в глубине, вовлеченный в громкий и веселый спор с парой обгоревших на солнце мужчин в мешковатых шортах – ньюйоркцы, приехавшие на выходные порыбачить, подумал Уилли. Гудкайнд поднял руку ладонью наружу, чтобы успокоить обгоревших туристов, и сказал умиротворяющим тоном: – Говорю вам, ребята, только то, что вы уже знаете: каждая мысль в вашей голове – это простой электрический импульс. Чувствительный 5G-приемник легко улавливает электрические сигналы, посылаемые вашим телефоном. Неужели так сложно поверить, что они могут также детектировать синапсы, срабатывающие в вашем мозгу? Туристы снова начали реветь. Жена Гудкайнда, крепкая, безучастная женщина лет шестидесяти, пробила покупки Уилли, не глядя на него.
Он нес свою сумку к машине, когда его взгляд случайно скользнул к каретному сараю, и он увидел девушку, стоящую в открытых воротах, ту самую девушку, которая говорила ему оставить коляску. Она прикрывала рот рукой, и когда он посмотрел на нее, она вздрогнула и быстро отступила в сумрак.
Уилли замер, почувствовав неловкость. Ему не нравилось, как она на него смотрела, именно так, как можно было бы смотреть, когда парамедики застегивают труп в мешок для тела. И ему не понравилось, как она внезапно отступила, словно не хотела быть увиденной. Он боролся с собой мгновение, затем положил сумку на пассажирское сиденье и пересек дорогу к каретному сараю. Доски пола были старыми и шаткими, пряди древнего сена застряли в щелях между ними. Стойла уходили в темноту. На долю безумного мгновения ему показалось, что он уловил запах этого места: пыль, старое сено и память о лошадях. Его обоняние то появлялось, то пропадало, совсем слабо, уже неделю. Задняя часть каретного сарая была широко открыта солнечному дню. Он подумал, что девушка ушла, выскользнула с заднего хода, но все же шагнул внутрь и поздоровался. Его голос отозвался эхом и вспугнул голубей на стропилах.
Сбоку была маленькая открытая комнатка. Уилли был уверен, что когда-то там висели уздечки, а полки были завалены конскими попонами. Теперь это был маленький кабинет со столом и деревянными лотками, полными счетов. На балках были прикреплены несколько фотографий в черных пластиковых рамках. Уилли наклонился, чтобы рассмотреть. На одной фотографии Брайан Гудкайнд с седеющей бородой, моложе по крайней мере на три десятилетия, держал одну дочь на руках, другую – на плечах. За ним была Белая Лошадь Уилтшира, огромная, сверкающая меловая кобыла на склоне пологого зеленого английского холма. На другой фотографии Брайан Гудкайнд, его жена и дочери танцевали в соломенной хижине под тысячью ярких флагов – Уилли подумал, что это могло быть фото ритуала Санто Дайме в Бразилии. Глаза Гудкайнда были закачены так, что видны были только блестящие белки, тревожное изображение. И все же: Уилли не мог не чувствовать определенную симпатию к этому глупому старому англичанину. У него всегда была слабость к искателям, к людям, которые могли весело и всем сердцем находить смысл в нелепом.
Последняя фотография за столом привлекла его внимание. Он взглянул один раз, потом еще. Это было цветное изображение зеленого луга позади кирпично-красного фермерского дома в Новой Англии. Уилли узнал холмы на заднем плане, с первого взгляда понял, что смотрит на Хобомек. Гудкайнд и его дочери были в зеленых церемониальных одеяниях и стояли среди, возможно, дюжины членов Завета, узнаваемых по чепцам и соломенным шляпам. Кто-то нарядился в большой косматый маске из коры и ветвей, увенчанной короной из красных ягод. Другой мужчина, в одеянии из листьев, расстегнутом, чтобы обнажить впалую грудь и набедренную повязку, держал Библию в обеих руках, подняв к небу. Дети в белых платьях были больше похожи на размытые полосы, бегущие с шестами, увешанными лентами. Размытости плавили их лица, придавая малышам вид уродства и безумия. Сбоку стоял раскладной стол с мисками картофельного салата и лаймового желе. Уилли почти пропустил коляску с первого взгляда. Она стояла в стороне от полуголого проповедника в христовой набедренной повязке. Корзина коляски была завалена фруктами – в основном яблоками и грушами, хотя Уилли также разглядел ананас. Грубый крест, сделанный из связок веток, лежал в корзине вместе с подношением.
Разглядывая сцену, Уилли почувствовал, как по его лицу расплывается улыбка; он ощутил дрожь эмоции, близкой к благодарности и граничащей с изумлением. Все это было предначертано, подумал он – все, что он испытал в лесу, с коляской. Тихое лепетание ребенка, мелькнувшая ручка. Он почти кружился от возможностей, от ощущения, что стоит в шаге от нового понимания реальности.
Его не удивило, что Гудкайнд умудрился поучаствовать в одном из обрядов урожая Завета, или что бы это ни было. Старый английский искатель не мог удержаться. Уилли теперь гадал, не знал ли Брайан Гудкайнда о его потере и не подтолкнул ли он исподтишка коляску в одинокую жизнь Уильяма Хэлпенни, чтобы посмотреть, что из этого выйдет хорошего. Мысли мелькали в его голове: что-то о воронках, что-то об этой длинной линии древних тисов, что-то о том, как все деревья приносят плод. Возможно, дочь Гудкайнда хотела, чтобы он оставил коляску, потому что считала кощунством использовать что-то, что играло роль в местном ритуале, но Уилли не беспокоился о том, чтобы оскорбить Бога. По его разумению, Бог был ему должен. Он вышел из каретного сарая с легким сердцем, жаждая снова катить коляску или хотя бы просто взглянуть на нее еще раз.
Ему не пришлось долго ждать этого. Когда он подъехал по дороге к дому, во дворе стояла городская машина, шестиколесный пикап с деревянной платформой. Там была Марианна с парнем со свалки из Уискассета, загружающие хлам. Коляска уже лежала в кузове.
Когда Уилли резко остановил машину в облаке пыли, мусорщик и Марианна как раз складывали проржавевшие банки из-под краски на платформу. У них было загружено уже около половины сарая.
– Что вы делаете? – спросил он, голос его был сдавленным от напряжения. Сердце бешено колотилось.
Марианна уловила его тон и удивленно посмотрела на него. – Избавляемся от хлама.
– Он не может это забрать, – сказал Уилли, залезая в кузов, чтобы ухватиться за одно из огромных колес коляски.
Марианна сморщила верхнюю губу. – Не может? Боже, детка, она ужасная.
Уилли вытащил ее из кузова и поставил во дворе. Тент был вдавлен, несколько ребер сломались внутри ткани. Вид этого закружил его от ярости. Если она сломана, она может не работать больше. Он может ходить по тропе часами, не услышав ни одного гуления, не почувствовав ни одного покачивания ребенка.
– Она не наша. И с ней все в порядке, – сказал он, с усилием контролируя голос.
– С ней не все в порядке. Она отвратительная. Думаю, в ней жило животное. Я знаю, в ней умерло животное. Помнишь енота? Ну, я знаю, куда делась голова. Я думала, меня сейчас вырвет и... что значит, не наша?
– Я одолжил ее в деревенском магазине, чтобы привозить продукты. На своих прогулках.
– Ооооох блииин, – сказала Марианна. Мусорщик стоял в стороне, неуютно ухмыляясь, невольный зритель того, что превращалось в хорошую старую ссору. – Ты клал в нее еду? Еду, которую мы ели? Детка. Как насчет того, чтобы пользоваться машиной отныне? Или рюкзаком? Или чем-нибудь, что не пахнет как сбитое на дороге животное? Ее лицо изменилось тогда, понимание проступило в ее выражении. – Ты же не чувствуешь запахов. Дорогой, эта штука воняет.
Что касалось Уилли, то то, как она пахла, было неважно, и если у кого и была веская причина расстраиваться, так это у него. Она буквально пыталась выплеснуть ребенка вместе с водой, мысль, которая чуть не вызвала ужасный смех. Он наконец нашел что-то, что возвращало его к тому, кем он был до выкидыша. На тропе, с коляской, он вспоминал свое старое, полное надежд «я». Мысль о том, что она готова была выбросить коляску – и все то удовлетворение вместе с ней – заставляла его чесаться от неприязни. Ему пришло в голову, что она не может знать, что она для него значит. Другая часть его считала, что это не оправдание. Она не спросила его, как он относится к избавлению от вещей в сарае, потому что его мнение не имело значения. Она принимала решения, а он их поддерживал – такова была его роль. Она чувствовала чувства, а он их принимал – такова была основа их отношений.
Он прогулку за прогулкой оттачивал лезвие своей обиды. Теперь это лезвие было очень острым.
– Это антиквариат, и он нам не принадлежит. Если у тебя с ним такие проблемы, я верну ее. После того как починю, – сказал он и указал на сломанные ребра тента. – Я не собираюсь возвращать ее Брайану Гудкайнду всю разбитую в хлам.
– Она не вся разбита в... Уилли. Уилли. Я не знала, что ты одолжил ее в магазине. Извини, что чуть не выбросила. Просто – отнеси ее обратно. Я не хочу, чтобы наши продукты были в этом. Я не хочу, чтобы ты к ней прикасался. Ты можешь получить столбняк. Или, может, бешенство. Я даже не понимаю, почему ты на меня кричишь.
Теперь она отчитывала его, как ребенка. Он отошел в сторону, пока Марианна разговаривала с мусорщиком о последних вещах в сарае. Один раз она бросила на него вопросительный, обеспокоенный взгляд. Ее выражение так его раздражало, что ему пришлось отвернуться. Она не могла сделать им ребенка, поэтому должна была опекать его, мысль, которая заставляла его хотеть быть где угодно, только не рядом с ней.
Он не мог больше выносить эти обеспокоенные взгляды, не хотел быть рядом с ней. Часть его хотела покатить коляску прямо в лес, где он мог бы успокоить ребенка своим мягчайшим голосом и извиниться за плохое обращение Марианны. Но уйти, хлопнув дверью, означало бы только выглядеть таким же детским, каким он себя чувствовал. Поэтому вместо этого он собрал продукты из машины и пошел внутрь варить кофе.
Он оставил коляску на крыльце, сбоку от двери, где она будет видеть ее всякий раз, когда заглянет в передние окна.
одиннадцать
Они избегали друг друга до позднего вечера, словно поссорились. Он съел половину итальянского сэндвича из деревенского магазина и работал на ноутбуке за разделочным столом на кухне. В это время дня это было самое прохладное, самое тенистое место в доме. Ему нравилась тишина, полумрак. Кроме того: когда он смотрел в гостиную, он мог видеть коляску через одно из окон, выходящих на север. Вид ее утешал его, заставлял чувствовать себя менее одиноким.
Он не знал, что Марианна присоединилась к нему, пока не услышал, как открывается холодильник. – Хочешь холодного чая? Или пива? Он подумал, она прилагает усилия, чтобы звучать непринужденно.
– Я бы осушил «Сэма».
Она открыла две бутылки Samuel Adams и поставила одну перед ним. Затем она облокотилась задом о край кухонной стойки, отхлебнула, вытерла рот и сказала: – Ты думаешь, сможешь отнести ее обраток? – Ей не нужно было уточнять, о чем речь. – Если ты возьмешь что-нибудь на ужин, пока будешь там, я приготовлю.
Она не собиралась отступать. Она будет продолжать пилить его, пока он не избавится от нее. Она была полна решимости отнять и это у него. Он попытался придумать, как объяснить, что она для него значит, как рассказать ей, что он видел и слышал, когда был с коляской на тропе. Это прозвучит безумно, но иногда в ней ребенок , представлял он, как говорит ей. Да, это звучало безумно. Пугающе безумно. Там есть что-то, что хочет жить, и ему нужна моя помощь, или оно исчезнет . Это было совсем ужасно.
– Я верну ее, – сказал он и возненавидел себя, и знал, что не может этого сделать. Еще нет. – Но сначала хочу посмотреть, смогу ли починить тент. Завтра достаточно скоро для тебя? – Он не хотел придавать последним словам для тебя горький оттенок, но в них было что-то, какой-то подтекст, что заставило ее взглянуть на него с несчастьем.
Она опустила голову, поводила носком одной лодочки туда-сюда по полу, и он знал, что она обдумывает ответ. Она украдкой взглянула на него сквозь завитки волос.
– Уилли, с тобой все в порядке? – спросила она. – Знаешь, иногда я думаю, мы так беспокоились обо мне, что для тебя просто не оставалось места, чтобы иметь свои чувства.
– Насчет чего? – спросил он. Она отвела взгляд, но не раньше, чем он увидел вспышку боли в ее глазах.
– Просто, – сказала она, – может, ты можешь хотя бы убрать ее обратно в сарай? Не оставляй на крыльце. Я боюсь, она привлечет животных.
Она оставила свою бутылку пива наполовину выпитой у раковины. Он допил свою. Потом допил ее.
двенадцать
Он был уже под тремя пивами, когда откатил коляску в сарай. К тому времени ветер усиливался, такой теплый, влажный ветер, что бежит впереди летней грозы, подталкивая его в спину и торопя. За домом, за краем скошенного газона, высокая трава гнулась и колыхалась, словно шерсть животного.
Он поставил коляску в вычищенное, почти пустое внутреннее пространство сарая. Немногие оставшиеся предметы – тяпка, грабли, несколько пластиковых контейнеров с средством от сорняков – были аккуратно расставлены вдоль стен. Свет, проникавший сквозь грязное стекло, мерцал и менялся. Тени боролись друг с другом на полу и стенах.
Он был близок к чему-то, гулял с чем-то драгоценным, жизненно важным и извивающимся от жизни, и мир хотел отнять это у него, как отнял прошлого, и Уилли хотел начать пинать стены сарая, пока тот не рухнул на него.
Когда он запер дверь за собой и направился обратно к дому, он был расстроен и полон отчаянных идей. Планы спрятать коляску глубоко в лесу приходили и уходили. Он сделал лишь несколько шагов, когда услышал одинокий, завывающий крик, звук, который пронзил его насквозь.
– Мы все уладим, малыш, – пообещал он тому, что было в сарае, хотя было возможно – едва ли – что крик был ветром, свистящим под карнизами сарая. – Я не позволю им отнять тебя у меня. Можешь на это рассчитывать.
Он был на полпути через двор, когда услышал хлопок выстрела, споткнулся и оглянулся. Нет, не выстрел – дверь сарая, раскачивающаяся на сильных порывах. Он забыл задвинуть засов.
Возвращаться и исправлять казалось слишком большим трудом. Дверь хлопнула снова, когда он скользнул в дом, словно кто-то выстрелил еще раз из .44.
тринадцать
Он доел вторую половину итальянского сэндвича и работал над шестым пивом, когда Марианна спросила его, не хочет ли он ужинать. К тому времени он перебрался в свое кресло в гостиной и положил ноутбук на колени. Он сказал, что уже поел, а потом делал вид, что не видит, как она на него смотрит. Он сказал, что ему нужно наверстать работу. Это было почти правдой. У него была презентация в пятницу, нужно было набросать концепции, но он был слишком рассеян, чтобы начать. Однако первые пять пив помогли смазать его творчество. Он наконец продвигался.