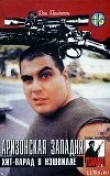Текст книги "Коляска (ЛП)"
Автор книги: Джозеф Хиллстром Кинг
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Коляска
Джо Хилл
один
Уилли ехал впереди, рядом с агентом по недвижимости. Марианна сидела сзади, отвернувшись к окну. Агентша время от времени поглядывала на нее в зеркало заднего вида, наверное, гадая о рассеянном взгляде Марианны и ее мечтательной, отстраненной манере, но говорила Салли Тимперли исключительно с Уилли.
Он изо всех сил старался поддерживать этот разговор, испытывая обиду на Марианну за то, что она заставляет его делать всю работу, и обиду на себя за эту обиду. «Вы из какой части Нью-Йорка? У нас квартира в Бруклине. Чем вы там занимаетесь? Я работаю в компании по цифровому маркетингу. В случае переезда в штат Мэн, вам придется бросить работу? Нет, я работаю из дома с начала ковида, и руководству абсолютно все равно, где находится этот дом – в Нью-Йорке, штате Мэн или на Внешних Гебридах. А как выглядит ваша бруклинская квартира? Ну, это 78 квадратных метров, они обошлись нам дороже, чем этот фермерский дом, который вы нам собираетесь показать, и моя жена потеряла ребенка в ванной. Я сам вытирал кровь, извел целую упаковку салфеток «Лайсол», и теперь кажется, будто мы живем в морге. Спасибочки, что спросили »
Но Марианна удивила его, прервав.
– Я выросла в этих краях. В Брансуике, – сказала Марианна. – Жила в двадцати милях отсюда, и никогда не слышала про Хобомек. Ни разу за всю жизнь. Разве не забавно?
– Это в самой глуши, да, – сказала Салли, снова бросив взгляд на Марианну в зеркало.
– И я никогда не встречала никого отсюда, – продолжила Марианна, как будто Салли не говорила. – Я не знала никого, кто бы знал кого-то из Хобомека. Как будто его не существовало до прошлой недели, пока Уилли не увидел фермерский дом на Zillow.
– В Хобомеке почти одни фермы. Но Уискассет рядом, а Уискассет – просто прелесть. Отличные морепродукты, много магазинов, – сказала ей Салли.
– Может, Хобомек открывается тебе только тогда, когда он тебе нужен, – сказала Марианна.
После этого они ехали молча. Деревья вдоль дороги сильно пострадали от непарного шелкопряда, и ветви были окутаны липкими белыми полотнищами паутины. На каждом дубе тысяча толстых гусениц извивалась внутри этих молочно-белых саванов, слепо пожирая свои умирающие убежища. Уилли попытался представить, каково это – быть закутанным в эти цепкие погребальные пелены, неспособным пошевелиться или закричать, пока по тебе ползает орда гусениц. Последний год сделал его мрачным.
Марианна снова оживилась десять минут спустя, увидев пару, идущую под руку вдоль обочины. Они выглядели так, словно сошли со съемочной площадки мини-сериала по Джейн Остин. Женщина носила белую шляпку-чепец XIX века, которая заключала ее лицо в льняной конус, полностью скрывая черты. Ее сгорбленный и иссохший муж плавал в своей одежде: жестком коричневом сюртуке и черных брюках с трубчатыми штанинами. Старомодный шейный платок пенился у его горла. Его глаза были яркими и испуганными, словно он никогда раньше не видел автомобиля и трепетал перед этим ужасным хромированным видением из будущего. Они проехали мимо, взметнув юбку пыли, и старик прихлопнул рукой по голове, чтобы его соломенный канотье не улетел.
– О, здесь есть амиши? – спросила Марианна. – Может, поэтому я никогда не встречала никого из Хобомека. От Брансуика далеко ехать на лошади с повозкой.
– М-м? Нет, не амиши, – сказала Салли рассеянно, вглядываясь вперед в поисках следующего поворота. – Это Сажатели Греха. Их еще осталось несколько. Они похожи на амишей – или шейкеров – но в то же время и нет. Одно из тех маленьких религиозных движений, которые были куда популярнее, когда люди сами сбивали масло.
– Они до сих пор сами сбивают масло? – спросила Марианна.
– Да. Вы можете купить брикеты в деревенском магазине Хобомека, который, кстати, является местом для шопинга для местных жителей. Прелестный маленький магазинчик. Можете представить, доить коров в девяносто лет? Вот и все, что от них осталось, полдюжины девяностолетних стариков, которые считают молнии аморальными. Это их последнее поколение. Скоро они вымрут.
– Почему их называют Сажателями Греха? – спросила Марианна. – Это не может быть их настоящим именем.
– Нет, так их здесь называют. «Завет Скорбного Листа» – вот их настоящее имя. Они молятся в рощах, а не в церквях. Они сажали деревья, когда впервые прибыли, и их вешали на них гроздьями – сначала пекоты, потом методисты, потом католики. Все по очереди.
– Они использовали грех в качестве какого-то органического удобрения? – спросил Уилли.
Он пошутил, но Салли Тимперли сказала: «Похоже, что так», – повернула руль, и они начали подпрыгивать на длинной, ухабистой грунтовой дороге. – Мы на месте.
Фермерский дом был просторным, двухэтажным строением, словно сошедшим с картины Уайета. Он стоял на самом верху холма, окруженный десятью акрами открытого луга, а лес подступал к нему с трех сторон. Белые сосны высотой с корабельные мачты пронзали невероятно синее небо.
Как только они переступили порог, Салли устроилась рядом с Марианной, и две женщины шли почти плечом к плечу, а Уилли плелся сзади. Ему было любопытно посмотреть, как они поладят. В какой-то момент во время поездки Салли правильно заключила, что продавать дом нужно не ему. Угождать и завоевывать нужно было Марианне.
И пока они осматривали первый этаж, что-то в Марианне, казалось, пробудилось. Это радовало его сердце – это было похоже на то, как она потягивается и зевает, просыпаясь от мирного послеобеденного сна. По профессии она графический дизайнер и понимала в цвете. Она могла бросить на стену светлый цитрусовый оттенок и превратить унылое пространство в нечто с побережья Амальфи. Она могла спасти восьмидесятилетний ящик для упаковки из секонда и переделать его в журнальный столик прямо из каталога Restoration Hardware. А у фермерского дома в Хобомеке уже было так много из того, что ей нравилось: обшивка из сарайных досок, много естественного света, окна размером с двери.
Кухня, на первый взгляд, разочаровала после гостиной с высокими потолками и столовой, отделанной панелями из ореха. Обои были цвета горохового супа, цвета болезни. Пол был отвратительный черно-белый линолеум, отклеивающийся в одном углу. Марианна оттянула его, обнаружив под ним вишневую древесину.
– Зачем кому-то понадобилось закрывать этот чудесный пол? – воскликнула Салли.
– У них была собака, – сказала Марианна, кивнув в сторону задней двери. Внизу была большая створка, достаточно большая, чтобы через нее мог проползти ребенок. – Но у нас нет. Этот линолеум можно снять прямо сейчас. Эта древесина просто светится.
Салли выставила бедро, поднесла большой палец к подбородку, словно женщина, рассматривающая картину в галерее. – Снять и эти обои?
Марианна кивнула. – Нанести свежий слой краски. Кремовый, может быть – что-то, что использует все это солнце. Хотя мне нравится эта большая черная плита. Посмотрите на эти ножки в виде львиных лап. Вы не поверите, сколько за эту плиту можно выручить в Парк-Слоуп.
После этого женщины разговаривали с непринужденным комфортом... вплоть до того, как поднялись на второй этаж. Главная спальня была прямо напротив, лицом к верху лестницы. Узкий коридор, выходящий на лестничный пролет, вел к двум дополнительным спальням.
– Вот ваш домашний офис пока что, – сказала Салли, – и много места для детей, когда начнете. Марианна резко дернула головой, покраснела и быстро отвернулась. Салли потянулась к ее плечу. – О нет, дорогая, что я сказала? Я сказала глупость?
Но даже слезы были в порядке, подумал Уилли. Марианна приняла объятия Салли и улыбнулась, глядя на ее возмущение от их имени – словно где-то можно было пожаловаться на выкидыш Марианны. К тому времени, как они спустились обратно, Салли и Марианна уже смеялись над чем-то, и когда Марианна встретилась с Уилли взглядом, ее взор был ясным и озорным, он почувствовал прилив благодарности. Иногда, когда тебе нужна передышка, мир бросает тебе веревку.
Спускаясь по ступенькам во двор, Уилли свободно дышал, казалось, впервые за много месяцев. Был поздний день, жара спадала, солнце опустилось достаточно низко, чтобы его скрыли сосны, венчавшие вершину холма. Женщины задержались прямо у входной двери, разговаривая с оживлением, которое он счел бы невозможным тем утром.
Он оставил их и побрел, желая увидеть то, что уже мысленно считал своей землей. Эта мысль восхищала и поражала его в равной мере, идея сделать все это своим... Уильям Хэлпенни, тридцатисемилетний сын матери-одиночки, у которой несколько раз забирали машину за долги, которая отправляла его в школу с сэндвичами с майонезом, которая собирала их вещи и переезжала посреди ночи, чтобы уйти от кредиторов.
Уилли видел сарай, когда они подъезжали, к востоку от дома, возле прогалины в лесной полосе. Фермерский дом был в хорошем состоянии, но тот сарай накренился набок, и мохнатая черепичная крыша частично обвалилась. Он стоял как будто будка на платной дороге в стороне от широкой травянистой тропы, уходящей в лес. Его почти наверняка придется снести, но он все равно подошел, чтобы заглянуть внутрь.
Он отодвинул деревянную задвижку, и дверь со скрипом открылась с звуком прямо из третьесортного аттракциона с привидениями. Он вгляделся в темноту, пронзенную пыльными лучами угасающего солнца. Сарай был завален хламом: старая механическая газонокосилка, топор лесоруба, стопка проржавевших банок из-под краски. В углу он увидел ржавые вилы и прошел сквозь низкий дверной проем, чтобы рассмотреть получше. Такая вещь, которую Марианна могла бы почистить, повесить на стену и превратить в искусство. Что-то хрустнуло под его ботинками, и, взглянув, он увидел на полу то, что сначала принял за осколки фарфора. Однако, присев на корточки, он понял, что это были кости мелких животных. Длинный, изящный череп крысы – или, может, летучей мыши – с его выступающей вперед челюстью, усаженной шипами костей, весело ухмылялся ему снизу. Это было нормально. Кости его не беспокоили. Этот сарай десятилетиями стоял на краю леса и, без сомнения, был домом для любого количества падальщиков.
Но когда он поднялся, то встал в паутину, которая растянулась – липкая и цепкая – по его лицу. Он собирался вскрикнуть от удивления, и тут она оказалась у него во рту, со вкусом осени, пыли, насекомых и плесени. Его сознание мгновенно вернулось к дубам вдоль шоссе, задушенным внутри саванов из паутины, кишащим толстыми и голодными гусеницами – ужасное воспоминание. Он смахнул паутину с лица и выбрался оттуда, как раз когда женщины обходили угол дома. Он помахал им и расплылся в большой наигранной улыбке, словно только что не съел бутерброд с пауком.
Прогалина в деревьях открывала широкий зеленый проспект, который спускался по склону холма и скрывался из виду. Он был обсажен древними тисами. Ветви были избиты преобладающими восточными ветрами, создав над тропой темный, колдовской тоннель. И все же там было спокойно, наводило на мысль о нефе разрушенной церкви. Что говорила Салли во время поездки? Сажатели Греха считали, что дикие места более святы, чем любые церкви, построенные человеком? Он думал, в их словах был смысл. Он задавался вопросом, чем там пахнет, представлял сладкий запах сосны, мха и раздавленных листьев. Он не мог чувствовать запахи с тех пор, как переболел COVID-19.
Женщины встали рядом с ним.
– Дорожка для верховой езды, – сказала Салли.
– Эти деревья росли еще до рождения моих бабушек и дедушек и, вероятно, останутся здесь, когда мои внуки будут... – Уилли вспомнил, что внуков у него никогда не будет, и оборвал фразу. Он почувствовал острую потребность сменить тему и сказал: – Никакого непарного шелкопряда. Интересно, почему. Они не любят тис?
– Уверена, непарный шелкопряд любит тис, – сказала Марианна. – Не будь таким обидчивым. И он засмеялся – сильнее, чем того заслуживала шутка, но это было таким облегчением – знать, что он не испортил ее хороший день неосторожным замечанием о внуках.
– Сажатели Греха их посадили? – спросил он.
– Поэтому мотыльки к ним и не притрагиваются, – сказала Марианна, прежде чем Салли успела ответить. – Это запрещено.
Он снова рассмеялся, и когда они пошли обратно к дому, они держались за руки.
Марианна взглянула на сарай. – Что там?
– Кладбище грызунов. Кто-то использовал это место, чтобы уплетать местную популяцию крыс, с изредка теплой, пищащей летучей мышью на десерт.
– Вкуснятина! – воскликнула Марианна. – О каком вредителе идет речь?
– Какая разница? Ему придется искать новое место для обеда после того, как мы снесем сарай.
– Ты оставь этот сарай прямо там, где он есть, мистер Хэлпенни, – сказала ему Марианна. – Нам не нужно, чтобы это что бы там ни было переселилось к нам.
Именно тогда он точно понял, что они переезжают в Мэн.
два
Последние часы перед выкидышем были самыми счастливыми в их браке: у них был хороший, энергичный секс под конец дня, а потом они заказали тайскую еду через Grubhub. Марианна вдруг отчаянно захотела крабовых рангун, блюда, которое она не ела, кажется, много лет. Они смеялись над этим – ее первая беременная прихоть.
Они ели в пижамах, сидя вокруг их массивного старого разделочного стола, еда была разложена на бумажных пакетах, в которых ее привезли. Уилли чувствовал себя хорошо использованным и довольным, ощущение, усиленное парой бокалов саке (клюквенный сок для Марианны). У него была желтая карри, а она ела свои крабовые рангун, и они говорили о том, как поведут своего ребенка в Природный центр Соленого Болота охотиться на крабов в приливных лужах. Уилли почти видел его, мальчика в резиновых сапогах и белой панаме, волосы под ней взъерошенные, коричневато-рыжие, как у матери, лицо серьезное и сосредоточенное, с ведерком в одной руке и пластиковой лопаткой в другой.
Он с трудом выбрался из сна в час ночи и обнаружил Марианну бодрствующей, сидящей, прислонившись к подушкам, задумчиво улыбающейся с рукой на животе. Она сказала, что были несколько резких покалываний, ощущение стягивания. Она сказала ему, что думает, ее матка делает разминочные упражнения. Он снова уснул, положив голову ей на плечо, пока она смотрела в темный угол их спальни, словно разглядывая далекий объект на горизонте.
Потом она сказала, что это ее вина. «Я сделала это, – сказала она в больничной приемной, обхватив руками живот. – Это моя вина».
– Не делай этого с собой. Не начинай выстраивать нарратив. Как это может быть твоей виной? – спросил он ее.
Он не мог вытянуть из нее ответ, не там, не тогда. Потребовались дни, и когда она наконец призналась, то сделала это по SMS, писала из спальни, пока он сидел в их гостиной-кухне. Она игнорировала спазмы, смеялась над ними, пока ее ребенок умирал. Если бы я прислушалась к своему телу , написала она ему. Если бы я не заснула снова .
Каким-то образом он знал, что это не все, но потребовалось еще несколько дней осторожных расспросов, чтобы вытянуть из нее остальное. Она ела морепродукты, писала она ему, словно они были в разных странах, а не в разных частях своей квартиры. Она отравила себя и плод.
Он отправил ей ссылку на клинику Мэйо со списком безопасных для беременности морепродуктов. Краб был первым пунктом в списке. Что касается этой чепухи про то, что она не прислушивалась к своему телу, она никогда раньше не была беременна, поэтому никак не могла знать разницу между обычной острой болью на ранних сроках беременности и той болью, которая указывает на нечто большее. Он не добавил, что, по его мнению, те первые резкие тянущие боли возникли только после того, как ребенок умер, и были началом отторжения плода ее телом.
Но не имело значения, что он говорил или не говорил. Ничто не помогало. Ее кожа приобрела восковую прозрачность, и неделями она носила одурманенное выражение человека, только что проснувшегося от слишком тяжелого сна. Вместо работы она смотрела плохое телевидение, передачи, которые ненавидела: дневные ток-шоу, болтовню новостных каналов. Она отстала от проектов на месяцы. Ее редакторы передавали работу другим графическим дизайнерам и присылали добрые письма о том, чтобы она брала столько времени, сколько нужно.
Его пугало видеть ее такой разбитой. Он делал сумасшедшие вещи, чтобы вытащить ее обратно из мрачного, личного места, куда она отступила внутри себя. Он купил лампу в Anthropologie. Он наполнил дом масляными диффузорами, чтобы все пахло лимонами и мятой вместо печали. Он делал стирку, мыл посуду, не подпускал ее ни к какой работе по дому. Он приносил еду на вынос изо всех мест, которые она любила (из всех, кроме тайского), и через восемь недель после того, как они потеряли ребенка, он пошел в ее любимый бургер-бар и вернулся с двумя «СмоукШеками», парой молочных коктейлей и здоровенной порцией ковида.
Уилли думал, она почти обрадовалась. Вирус позволил ей пролежать в постели большую часть месяца, в темноте, ненавидя себя без отвлечения. Она носила одну и ту же одежду десять дней подряд. Он ничего не сказал.
Сам он провел две ночи, чувствуя, будто пытается дышать с маленьким ребенком, сидящим у него на груди. Когда он выздоровел, его обоняние пропало, что заставило его почувствовать себя глупо за потраченные двести баксов на диффузоры с эфирными маслами. В течение последующих недель подъем по лестнице изматывал его.
Квартира казалась меньше, чем когда-либо, пол покрыт сугробами использованных салфеток Kleenex, мусор вываливался, потому что оба были слишком уставшими, чтобы вытащить пакет. Это буквально место болезни и смерти , подумал он с чем-то очень похожим на отчаяние.
Пока Марианна дремала, он открыл ноутбук и зашел на Zillow, Christie’s, RE/MAX и Downeast Properties. Через год после пандемии – когда работа из дома стала казаться новой нормой – они начали говорить о том, чтобы выбраться из Бруклина и переехать в Мэн, где выросла Марианна. Тогда она не была беременна, и их разговоры были безобидной мечтой, фантазией о свежем морском бризе и рыбацких свитерах. Но в месяцы после выкидыша это начало казаться вопросом отчаянной важности. Для него стало обычным работать с пятнадцатью открытыми вкладками в браузере, на каждой – разные объявления. Вытащи ее отсюда , думал он. Вытащи ее, вытащи ее . Это было меньше похоже на то, что она лежит в их темной спальне, сидит в интернете и читает о выкидышах других женщин, и больше на то, что здание рухнуло на них, и они завалены тоннами кирпича и штукатурки. Им нужно было выбраться, обратно к солнечному свету, обратно к воздуху. Вытащи ее , бормотал он, выбрасывая масляные диффузоры в мусор. Вытащи ее , говорил он себе под нос, выкатывая мусорные баки к обочине. Вытащи ее , говорил он себе, когда нес лампу из Anthropologie по улице в Goodwill – она была слишком большой для их маленькой квартиры.
Ему ни разу не пришло в голову, что он тоже в депрессии, что он тоже потерял ребенка.
три
Несколько недель спустя после переезда в дом в Хобомеке Марианна взяла их новый Prius, чтобы посмотреть на шторы в Уискассете, и оставила Уилли одного. У него была оценка эффективности в четыре часа, но в начале дня его линейный руководитель, Вэл Дерриксон, написал ему в Slack, спросив, нельзя ли перенести на следующую неделю. Его ребенок дома из школы с желудочным гриппом, а жена не может подменить.
Ты умнее нас всех – у тебя нет детей, Хэлпенни. Горячие маленькие мешки с инфекцией с невинными улыбающимися лицами. Я тебе завидую.
Уилли машинально улыбнулся, прочитав сообщение Вэла, и проигнорировал кислую пульсацию в животе. Вэл понятия не имел, почему у Уилли нет детей. Уилли ни с кем не говорил о беременности, а если он не говорил об этом, то уж точно не собирался вываливать душу о выкидыше.
После сообщения Вэла у него было плохое настроение, и он не осознавал этого, по крайней мере сначала. Он обнаружил свое плохое настроение только тогда, когда попытался выйти из своего кабинета – одной из свободных спален наверху. Все двери в доме в Хобомеке висели криво, и когда он попытался выйти в коридор, дверь его кабинета заело. Он дернул ее раз, толкнул плечом, она не открылась, и вдруг он начал пинать ее со слепой яростью. Когда она распахнулась, он смутился от собственной вспышки и подумал, что ему станет лучше, если он выйдет на улицу. Для него это всегда было душевным облегчением – выйти на свое пшеничное поле, где можно подышать свежим воздухом и понаблюдать, как бабочки носятся, словно клочки конфетти после парада.
Тогда ему пришло в голову, что он может делать что угодно до конца дня, и ему пришла мысль удивить Марианну домашним ужином. Какие-нибудь отбивные из баранины на косточке с картошкой, дважды приготовленной в утином жире, это было бы хорошим завершением дня. Самые первые работы Уилли были в ресторанах, где он опускал корзины с картошкой фри в горячий жир – на его предплечьях до сих пор остались блестящие ожоги. Даже без обоняния он мог насладиться маслянистыми жирами и острыми солями каких-нибудь бараньих отбивных с кровью. Он размышлял, насколько сложно вызвать Uber в Хобомеке, и его взгляд скользнул к прогалине в лесу и дорожке для верховой езды за ней.
Он проверил на телефоне расстояние, приблизив карту для детального просмотра. Если ехать по дороге, до деревенского магазина было почти две мили. Но дорожка для верховой езды вела прямо туда, следуя линии, которую можно было бы провести линейкой. Это выглядело как прогулка меньше чем на милю.
Мысль о прогулке подняла ему настроение. Он отправился в путь под чистым голубым небом, солнце пригревало плечи, пока он не достиг леса и не спустился в тоннель прохладных теней под тисами. Прогулка под ними наполняла его почти суеверным восторгом. Их ветви изгибались над ним, словка почерневшие ребра какого-то чудовищного создания, древние кости выбросившейся на берег мегалодона. Он просвистел одну ноту и остановился. Было похоже на свист в монастыре.
За деревьями, по обе стороны от него, были заросшие луга, сельхозугодья, которые не обрабатывались в этом столетии. Живописные каменные стены, достаточно старые, чтобы существовать до электрического света, петляли вдоль краев полей. Пчелы издавали атональное жужжание среди полевых цветов, звук, который естественным образом погружал его в сонный, мечтательный транс. У него появилась идея, что он мог бы пройти по этой тропе прямо из Хобомека в Камелот тринадцатого века. Встретить красивую девушку в одном из тех шелковых колпаков-дурацких (почему принцессы тогда все носили дурацкие колпаки?) и научиться играть на лютне.
Он вышел из леса минут через десять, и деревенский магазин Хобомека был там, прямо через Лоуэлл-Таун-роуд, выкрашенный в пожарно-красный цвет, обычный для фермерских домов Новой Англии. Внутри он был похож на сарай, с полом из широких досок и восемью проходами, заставленными «Старым Мэнским Хламом»: расписными деревянными гагарами, бейсболками-новинками с держателями для пивных банок по бокам. Но место было даже больше, чем казалось на первый взгляд, с целой второй комнатой позади, содержащей гастрономический продуктовый магазин, который не выглядел бы чужеродно в Парк-Слоуп. У них было сырое молоко с местных ферм, мешки с сортовыми яблоками и, да, брикеты местного масла ( «Священные Рощи», Сливочное молоко, произведено в Хобомеке, Мэн, с морской солью и радостными сердцами ).
Деревенским магазином заправлял общительный переселенец из Англии по имени Брайан Гудкайнд, который управлял им вместе со своей американской женой и множеством дочерей и внучек. Он болтал с покупателями, пока женщины пополняли полки, пробивали покупки и делали все остальное, что было нужно. Гудкайнд был высоким и худым, как Линкольн. Его бледно-голубые глаза сверкали знающей шалостью над дедушкиной белой бородой. Похоже, он никогда не слышал ни одной бредовой теории, которая бы ему не нравилась; он говорил громко, без смущения, о пользе для здоровья клизм с холодным кофе и верил, что линии Наски – древние взлетно-посадочные полосы для НЛО. Уилли он понравился с первого раза.
– А где супруга? – спросил Гудкайнд.
– Уехала на машине в Уискассет за розничной терапией. Я пешком пришел.
– Значит, по дорожке для верховой езды?
– Показалось самым быстрым путем, и день хороший для этого.
Гудкайнд поднял подбородок и обвел доброжелательным, оценивающим взглядом покупки Уилли. – Надеюсь, вы не собираетесь есть эти бараньи отбивные без бордо.
– Я бы сочетал его с сира, – сказал Уилли, – но я уже купил почти слишком много. Если я добавлю еще хоть что-то, не смогу донести все это домой.
– О, ну, – сказал Гудкайнд. – Я тебя выручу, сынок. Оставь свои сумки и иди за мной.
Гудкайнд повел Уилли на крыльцо, вниз по ступенькам и вокруг магазина. Позади гравийной парковки стоял каретный сарай. Уилли замешкался у входа, усеянного сеном, но Гудкайнд шагнул в темноту, мимо газонокосилки John Deere. В полумраке Уилли различил стойла, в которых не стояли лошади уже десятилетия. Древняя сбруя висела на ржавых гвоздях.
Он услышал мягкий скрип колес, и Гудкайнд вышел из тени, толкая антикварную детскую коляску. Колеса были комично большими и замысловатыми, почти такими же большими, как шины на десятискоростном велосипеде. Корзина когда-то была выкрашена в небесно-голубой цвет, но краска почти сошла, обнажив серую древесину под ней. Брезентовый верх был покрыт раковыми пятнами плесени. Полотнища брезента почти скрывали матрас внутри, но Уилли мельком увидел его, такой же почерневший и заплесневелый. Когда Гудкайнд приблизился к нему, Уилли почувствовал, как на него накатила дурманящая волна головокружения. В его воображении заиграла старая песня Кэта Стивенса «Here Comes My Baby», и он подумал с каким-то ужасным весельем: Это мальчик!
Он отбросил эти мысли с чем-то вроде обиды. Ему нужен был способ донести покупки домой, и Гудкайнд нашел его для него. Не было в этом ничего больше.
– Вы уверены? Я не хочу брать что-то ценное. Или заразное, подумал Уилли.
– Не думаю, что кого-то волнует это, кроме моли. У меня была мысль починить его и продать когда-нибудь, но к тому времени, как я закончу замену деталей, это будет Корабль Тесея, не так ли? Что было типичным для Гудкайнда. В своей фланелевой рубашке и походных ботинках он выглядел как любой мэнский деревенщина, но потом он мог сделать какое-нибудь замечание об изгнании Овидия таким голосом, что звучал как Иэн Маккеллен.
– Я верну его, – пообещал Уилли.
– И снова нагрузите его! Все это часть моего дьявольского плана удержать вас от покровительства конкурентам.
Как будто там были какие-то конкуренты.
– Полагаю, мне стоит заскочить обратно за своими сумками – и той бутылкой бордо, о которой мы говорили.
– Или сира. Я могу указать вам на хороший.
– В любом случае – я ценю, что вы одолжили мне люльку.
– О, это не люлька, приятель, – сказал ему Гудкайнд. – Это настоящая прогулочная коляска.
четыре
Пока он катил прогулочную коляску, Уилли сначала чувствовал великолепную меланхолию. Колеса не издавали ни звука на сосновой хвое в черном тоннеле из искривленных ветвей. Сначала любовь, потом выкидыш, потом Уилли с одинокой бутылкой красного в детской коляске.
Выкидыш назвали медицинскими отходами, не ребенком. Не было никаких похорон. Ему сейчас, как и тогда, казалось, что должно было быть что-то – какое-то публичное выражение горя по ребенку, которого не было. Он никогда не будет носить этого ребенка на плечах в зоопарке, останавливаясь, чтобы посмотреть, как гиббоны прыгают с дерева на дерево. Он никогда не поднимет мальчика осторожно с заднего сиденья машины после долгой ночной поездки и не отнесет его чрезвычайно бережно в постель. Марианна уже сказала ему, что не сможет пытаться снова, не сможет пройти через это, только чтобы быть разрушенной еще раз. Их любовь закончится с ними.
Вес коляски был в точности как будто под тентом спрятан ребенок. Он посчитал. Их сыну сейчас было бы почти полгода. Лепетал и агукал и размахивал ручками, только чтобы взглянуть на них. Мысль была глотком кислоты. Он не чувствовал, что они потеряли ребенка; он был украден у них, вместе с их мечтами, всей их идеей будущего. Один, в лесу, без свидетелей, чтобы судить его, он мог позволить себе всю обиду, какую хотел. Шагая по дорожке для верховой езды, он мог признать, что было приятно мариноваться в неконтролируемой и немодерируемой ярости.
Он начал долгий подъем в гору домой, и хотя коляска позволяла тащить продукты, это все равно была тренировка. Пот щекотал заднюю часть шеи. Он какое-то время насвистывал – ему больше не казалось, что он в церкви – потом тихонько пел. Старая привычка. Уилли всегда пел про себя, обычно голосом чуть выше шепота, всякий раз, когда был занят бездумным делом. Он пел сейчас монотонно, наполовину сердито, наполовину комично.
– I got the blues, I feel so lonely , – пел он. – I’d give the world if I could only . Он пел бы своему ребенку точно так же каждый раз, когда они гуляли вместе. – Baby won’t you please come home? I have tried in vain, evermore to call your name – И тут он вспомнил, как идет остальная часть песни, и его голос замер.
Ребенок издал низкое, мелодичное гуление. Уилли подумал, что тот хочет услышать еще, и уже собирался начать сначала, когда вспомнил, что ребенка нет. Его пульс участился. Он застыл на месте, его кожу головы защекотало ощущением, которое было отчасти тревогой, отчасти ужасным любопытством.
Гуление повторилось... и он узнал в нем крик горлицы. Он выдохнул, с внезапной слабостью облегчения в ногах.
– На минуту напугал меня, малыш, – сказал он ребенку, которого не было. Какие-то продукты сместились, когда он снова начал толкать. Прямо как младенец, брыкающий ножками.
Он оставил коляску в сарае и понес сумки с продуктами последние сто футов до дома. Было бы неправильно, если бы Марианна увидела его с детской коляской, это могло только вызвать плохие ассоциации. Он найдет причину, чтобы откатить ее обратно в деревенский магазин в другой день.
Ужин прошел на ура. Отбивные были настолько с кровью, что кровоточили.
пять
– Дорогой, – сказала Марианна ему в плечо в два часа ночи. Он вздрогнул, просыпаясь. – Тебе нужно что-то сделать с дверцей для собаки.
– Что? – спросил он. Его голова была мутной от сна.
Она не ответила, уже снова отключилась. Еще через несколько мгновений он тоже потерял сознание, а к утру все это забыл.
шесть
У Марианны были мигрени, и десять дней спустя, первого августа, у нее случился сильный приступ, и она рано после обеда ушла в постель. Ее мигрени были частыми и мрачными с самого начала беременности и продолжали навещать ее в месяцы после потери ребенка. Ее врач говорил, что это гормоны. Сначала ее тело отвергло ребенка; потом оно отвергло ее саму. Несправедливость этого злила Уилли. Ему хотелось кого-нибудь задушить. Бога, возможно. Дайте ему гвоздей – Уилли бы распял несправедливого ублюдка заново.