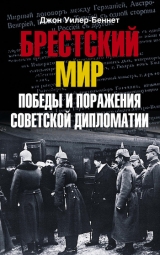
Текст книги "Брестский мир. Победы и поражения советской дипломатии"
Автор книги: Джон Уилер-Беннет
Жанр:
Педагогика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Глава 5
В тупике
1
Когда делегации вновь съехались в конце декабря в Брест-Литовск для продолжения переговоров, ситуация там заметно изменилась. Произошел раскол среди «большого трио» Центральных держав – речь идет о Чернине, Кюльмане и Гофмане. Генерал и австрийский премьер-министр выступали за ускорение темпа переговоров – один для того, чтобы быстрее получить высвободившиеся войска, другой – чтобы быстрее получить хлеб. Хотя личные отношения Гофмана с Людендорфом были прерваны и контакт они поддерживали через начальника операционного управления полковника Бауэра, Гофман по-прежнему проводил линию Верховного командования касательно невывода германских войск с занятых территорий и скорейшего высвобождения войск на Восточном фронте для их переброски на Западный.
Для Чернина главным вопросом оставался все тот же: хлеб, хлеб и еще раз хлеб. «Заключение мира необходимо, но заключить сепаратный мир без участия Германии невозможно» – таков был итог обсуждений, которые он провел в Вене перед отъездом на переговоры в Брест-Литовск. Его задача, как он ее понимал, состояла в том, чтобы заключить мир в том или ином виде любой ценой.
Кюльман не поддерживал ни ту ни другую линию; он придерживался взглядов, противоположных мнению Верховного командования, в чем его осторожно и тактично поддерживал кайзер: он был сторонником длительных переговоров, чтобы в ходе их показать миру, что большевизм в обнаженном виде по сути является новой формой национализма, и добиться закрепления восточных территорий за Германией под флагом самоопределения. Он надеялся поймать русских в сети, ловя их на слове при помощи их же фраз и тезисов, и, если бы состав русской делегации остался тот же, что был и раньше, и против него за столом переговоров сидели те же, кто и в начале их, он, возможно, и добился бы успеха. Однако на этот раз ему пришлось столкнуться с противником, который не хуже, а возможно, и лучше его самого владел искусством полемики и разбирался в диалектике. В Брест-Литовск прибыл Лев Троцкий.
Широкогрудый, с огромным лбом, на который падала шапка густых вьющихся черных волос; с пронзительным и сильным взглядом горящих глаз, которые в то же время несли следы многих страданий и переживаний; с выступающими вперед губами, обрамленными маленькими усиками и бородкой, Троцкий являл собой живое воплощение революционера в карикатурном изображении. Неуемный и неутомимый, движимый бурлящей внутри его кипучей энергией, он был бескомпромиссен, язвителен и беспощаден в полемике с противником; с бесстрашием и презрением встречал неудачи. Разносторонне развитый и эрудированный, он мог очаровывать в те редкие минуты, когда находился в добром расположении духа, однако более типичным для него было состояние презрительного гнева, он был похож на застывшее пламя, готовое вспыхнуть в любую минуту. Напоминавший Мефистофеля, дьявольски умный и дьявольски презрительный, он, как было угодно распорядиться судьбе, был одновременно архангелом Михаилом и Люцифером революции; ему довелось командовать всеми армиями Красной России, а затем быть низвергнутым во тьму. «Редкостный сукин сын, но самый выдающийся еврей со времен Иисуса Христа, – сказал о нем полковник Робинс. – Если германский Генеральный штаб заплатил деньги Троцкому, то немцы просто «надули» сами себя».
И действительно, ничто в такой степени не оставило камня на камне от легенды о «германском шпионе», как поведение Троцкого на мирных переговорах. Однако они были для него тяжким и мучительным испытанием, как моральным, так и физическим. Он никогда не был открытым человеком и всегда чувствовал себя неуютно, когда приходилось общаться с посторонними людьми, тем более если эти люди были ему абсолютно чужды. Поэтому он направлялся на переговоры с ощущением, словно «его ведут в камеру пыток». Он физически ощущал тяжесть той атмосферы показного внешнего дружелюбия и пустых дежурных фраз, бывшей неотъемлемой частью международной дипломатии. Это хорошо продемонстрировал его первый контакт с Кюльманом. Они встретились в прихожей, когда снимали пальто и шляпы перед тем, как войти в зал переговоров. Кюльман узнал Троцкого, представился и, чтобы постараться расположить к себе своего противника, сказал, что всегда лучше иметь дело с хозяином, чем с его посланцем. «В тот момент у меня возникло ощущение, что я наступил на что-то грязное, – вспоминает Троцкий. – Я даже невольно отпрянул. Кюльман понял свою ошибку, взял себя в руки, собрался и в дальнейшем уже всегда держался более официально».
Более того, Троцкий с самого начала работы этого этапа конференции дал ясно понять, что приехал сюда не завязывать дружбу, а заключать мир; по его инициативе слово «дружба» было удалено из преамбулы проекта мирного договора; он также быстро положил конец дружелюбному и неформальному общению между делегациями, которое имело место до этого. Новый подход стал очевиден уже тогда, когда специальный поезд с российской делегацией подъезжал к перрону:
Радек высунулся из окна и стал разбрасывать газеты и пропагандистские материалы прямо перед германскими солдатами, стоявшими на платформе. Троцкий отказался от того, чтобы быть представленным принцу Баварскому, и потребовал, чтобы русская делегация питалась отдельно от других («Он заточает их в монастырь», – писал Кюльман). Когда возник спор между Радеком и водителем автомобиля, в котором он ехал, а Гофман поддержал водителя, Троцкий распорядился, чтобы впредь члены российской делегации не пользовались автомобилем и ходили пешком; при этом им пришлось многократно лицезреть написанные для русских военнопленных предупреждения: «Каждый здесь задержанный русский будет расстрелян». Он требовал беспрекословного повиновения от всех членов делегации; никто из них не имел право выступать за столом переговоров, не получив на это разрешение Троцкого. «Они действительно испытывали священный страх перед Троцким», – записал в своем дневнике Чернин.
Но Троцкий был не единственным из вновь прибывших в Брест-Литовск. На конференцию также впервые прибыли представитель Польского регентского совета граф Адам Тарновский и, что наиболее важно, делегация молодых людей студенческого возраста, представлявших Украинскую Центральную раду[91]91
В украинскую делегацию входили В.М. Шахрай и Е.Г. Медведев, которые прибыли позже – за неделю перед началом уже третьего этапа работы мирной конференции.
Свою делегацию имела и Украинская центральная рада: статс-секретарь В. Голубович, М. Левитский, М. Полозов, А. Севрюк. Консультантами ее делегации были ротмистр фон Гассенко, профессор Е. Остапенко.
[Закрыть].
Признание украинской автономии в июле 1917 г. во время большевистского восстания[92]92
Автор имеет в виду события в Петрограде (3–5 июля 1917 г.), о чем подробнее говорилось во 2-й главе.
[Закрыть] привело к отставке премьер-министра Временного правительства Г. Львова и входивших в правительство кадетов, а после большевистского переворота украинцы вскоре воспользовались правом на самоопределение. На проведенных в ноябре выборах подавляющего преимущества добились национально-либеральные силы, получившие более 75 % мест в национальном парламенте, в то время как большевикам достались лишь 10 %. Большевики прибегли к своей старой тактике и обратились напрямую к народу. В Киеве состоялся Советов рабочих и крестьянских депутатов, однако, вопреки ожиданиям Смольного, из 2000 делегатов большевиков поддержали лишь 80, а остальные высказались в поддержку Центральной рады. Сторонники большевиков ушли со съезда, организовали в Харькове свое правительство, не подчиняющееся Центральной раде, и обратились к Петрограду за помощью.
В Брест прибыла полная собственной значимости делегация Центральной рады, состоявшая из троих молодых людей – Левитского, Любинского и Севрюка; она хотела быть полноправным участником переговоров и вынашивала далекоидущие планы расширения Украины за счет присоединения к ней ряда областей Буковины и Галиции и расположенной в Австро-Венгрии Холмской области.
Прибытие этих отличавшихся бурной активностью молодых людей сильно раздражало графа Чернина. Помимо естественного чувства унижения, что ему придется вести переговоры с «мальчишками», он был крайне встревожен перспективой возможных территориальных уступок в обмен на украинское зерно – а уступка Холмской области вызвала бы нескончаемую ненависть проживавших в этом районе поляков, в то время как в случае заключения общего договора с Россией он получил бы то же зерно безо всяких территориальных уступок. Какое-то время он решительно отвергал идею сепаратного договора с Украиной, но в то же время его не покидала мысль о том, что просящий не может быть привередливым. А ему были нужны зерно и мир любой ценой.
По этой же причине были рады прибытию украинской делегации и немцы. И Кюльман, и Гофман считали, что делегация Центральной рады является подходящим орудием для того, чтобы воздействовать, с одной стороны, на Чернина, удерживая его в рамках общей линии с германской делегацией, а с другой – на Троцкого, который, безусловно, был бы против возможного заключения Германией сепаратного мира с буржуазным правительством, действующим на российской территории. И как только делегация Рады отказалась питаться вместе с русской делегацией отдельно от остальных, ее тут же пригласили за общий стол и стали всячески обхаживать и умасливать.
26 декабря Кюльман, Чернин, Талаат-паша и Попов собрались, чтобы обсудить согласованный план действий на предстоящих переговорах. На намеченном на следующий день первом пленарном заседании было решено действовать по принципу «нападение – лучшая защита» и не дать Троцкому делать никаких выступлений, поставив ультиматум по процедуре ведения переговоров. Предполагалось, что российская сторона будет вынуждена согласиться с этим ультиматумом, поскольку не пойдет на риск возобновления военных действий. Сопровождавшие Троцкого по пути из Двинска германские и австрийские офицеры сообщили, что окопы противника напротив позиций австро-германских войск были практически пустыми; на всем участке находилось не более одного-двух укрепленных опорных пунктов. По их словам, когда Троцкий прибыл на немецкие позиции, он был крайне потрясен и удручен состоянием армии, которое он мог наблюдать по пути из Петрограда. Как заявил один из сопровождавших, барон Ламезан, это только укрепило его в убеждении, что нынешнее положение большевиков отчаянное и у них есть лишь выбор между плохим миром или вообще никаким. «И в том и в другом случае, – заключал он, – результат будет один: большевики будут сметены». «Им все равно придется есть то, что мы им дадим; они могут лишь выбрать, из какой тарелки есть», – цинично заметил Кюльман Чернину. «Совсем как у нас», – подавленно ответил Чернин.
В соответствии с выработанным планом, Кюльман в своем выступлении на пленарном заседании 27 декабря заявил, что поскольку страны Антанты не присоединились к мирным переговорам, то заявления держав Четверного союза от 12 и 15 декабря теряют всякую силу. Он официально отклонил советское предложение о переносе переговоров в Стокгольм, подчеркнув, что страны Четверного союза приняли «твердое и окончательное решение» проводить переговоры только в Брест-Литовске. Чернин продолжил в таком же духе, столь же рельефно подчеркнув, что российская сторона должна теперь сконцентрировать усилия только на переговорах о сепаратном мире; он потребовал немедленно создать соответствующие рабочие комиссии, о чем было договорено ранее, и предупредил российскую делегацию, что вся ответственность за продолжение войны будет полностью лежать на ней. Талаат-паша и Попов поддержали своих коллег, и затем Гофман от имени военных представителей Четверного союза выразил решительный протест против потока пропаганды и призывов к мятежу, регулярно распространяемых советским правительством.
С учетом предпринятой противной стороной атаки Троцкий, подготовивший для выступления большую речь, попросил сделать перерыв. Ответ своим противникам он дал на следующий день, 28 декабря, ярко продемонстрировав свое презрение к ним. Он отмел возражения Гофмана, заявив, что «ни условия перемирия, ни характер самих мирных переговоров не накладывают никаких ограничений на свободу слова и печати». Кюльману он вновь подтвердил отказ России принять точку зрения Германии на вопрос самоопределения на оккупированных территориях, «согласно которой волеизъявление народа было на самом деле подменено волеизъявлением привилегированной группы под контролем органов, осуществляющих административное управление данными территориями». Он подтвердил намерение советского правительства продолжать переговоры о заключении сепаратного мира и согласился проводить эти переговоры в Брест-Литовске, подчеркнув при этом недовольство тем, что атмосфера «в главной квартире неприятельских армий под контролем немецких властей создает все невыгоды искусственной изоляции, которые ни в коей мере не компенсируются наличием прямого провода для сообщений… Мы, таким образом, остаемся в Брест-Литовске, чтобы не упустить и малейшей возможности для заключения мира. Наше правительство поставило слово «мир» во главу своей программы, но оно в то же время обязалось перед всем народом подписать только справедливый и демократический мир».
Таким образом, стороны с самого начала ясно и четко обозначили свои позиции, и сразу стало понятно, что между ними лежит непреодолимая пропасть, однако еще в течение четырех страшно трудных и напряженных недель Кюльман и Троцкий, подобно дуэлянтам-фехтовальщикам, кружили друг против друга, ведя споры по вопросам этики, форм и принципов самоопределения и того, как все это следует реализовать в приграничных государствах. Троцкий требовал проведения референдума при отсутствии любых иностранных войск. Кюльман отказывался рассматривать вопрос о выводе германских войск с оккупированных территорий, утверждая, что их население уже сделало свое волеизъявление через органы, созданные под эгидой германской администрации по оккупированным восточным территориям – Обер Ост (Ober Ost). На это Троцкий ответил: «Мы одновременно и реалисты и революционеры и предпочли бы говорить об аннексиях прямо и называть вещи своими именами, а не прятаться за псевдонимами». При слове «аннексия» Кюльман негодующе отверг это обвинение и вновь стал излагать свои взгляды на вопрос о самоопределении, пока Троцкий опять не пресек его рассуждения конкретными фактами.
Поле их обсуждения простиралось от Китая до Перу; они затрагивали такие, казалось бы, не относящиеся к делу темы, как степень зависимости Низама из индийского Хайдарабада от британской короны, а также сфера деятельности и объем полномочий Верховного суда США. В общем понимании диалектики оба противника были примерно равны по силам, но в области тактики Кюльман был более искусен. Он «подвел» Троцкого к признанию делегации Украинской центральной рады как самостоятельного участника переговоров и представителя независимого государства; он также немедленно «подхватил» предложение Троцкого пригласить на переговоры представителей приграничных государств, чтобы дать им возможность высказать свою точку зрения без всяких препятствий и ограничений. Мы с удовольствием готовы сделать это, сказал Кюльман, но при одном условии: если они выскажутся за германскую точку зрения, Троцкий должен будет с этим согласиться.
Троцкий снял это предложение, и Кюльман, должно быть, втайне вздохнул с облегчением, поскольку если бы, например, на конференции имели возможность беспрепятственно выступить поляки, то с учетом их антипрусских настроений присутствующие могли бы услышать много нелицеприятного о Германии и ее политике. Троцкий, не будучи отягощен какими-либо дипломатическими тонкостями, продолжал наносить прямые «уколы» в связи с нарушением Германией нейтралитета Бельгии, неограниченным использованием подводных лодок и другими подобными актами.
Насколько эти длительные дискуссии захватили двух главных действующих лиц, настолько они начали раздражать тех, кто вынужден был наблюдать за ними со стороны. Представители Турции и Болгарии, младших партнеров по Четверному союзу, которым «по рангу» было положено ожидать решений старших партнеров, спокойно и с выдержкой наблюдали за всеми этими маневрами и контрманеврами, поскольку это не затрагивало их жизненные интересы. Но для Чернина и Гофмана эта затяжка была невыносимой. Нервы австрийского министра иностранных дел напряглись до предела. Вынужденная необходимость ежедневно наблюдать за этими бесконечными «интеллектуальными поединками», притом что силы его страны таяли день ото дня, приводила его на грань истерии и депрессии. С каждым днем новости из Вены и Будапешта становились все хуже и хуже; с каждым часом небольшое пространство между возможной победой и очевидным поражением все более сокращалось. Его попытки вмешаться в поединок Кюльмана с Троцким с целью предложить компромиссное решение отвергались и тем и другим; они были заняты лишь друг другом. Отчаявшийся Чернин отправился на охоту вместе с принцем Баварским, а также обратился, как ни странно, к чтению мемуаров о Великой французской революции, которые он привез с собой из Вены. Он находил успокоение в том, что делал в дневнике записи наподобие следующей: «Шарлотта Корде сказала: «Я убила не человека, а дикого зверя…» Найдется ли своя Корде для Троцкого?»[93]93
Шарлотта Корде в 1793 г. заколола кинжалом одного из лидеров якобинцев Жана Поля Марата, когда тот принимал ванну; данная запись явилась зловещим предзнаменованием для Троцкого, который также погиб насильственной смертью.
[Закрыть]
Отношения между Чернином и Кюльманом были какими угодно, но только не дружескими. Германский дипломат презрительно относился к суетливой нервозности своего австрийского коллеги и не мог удержаться от любой возможности напомнить ему о поражениях, которые австрийские войска терпели от русских. «Ни одна пядь нашей германской территории не находится, слава богу, под властью неприятеля», – сказал он на одном из заседаний, напрягшись и посмотрев на Чернина, лицо которого при этом «позеленело, а сам он весь съежился». Подобные сцены, вспоминал Троцкий, можно было наблюдать довольно часто.
Для Гофмана затяжка переговоров была также нестерпимой. Он с самого начала предлагал придерживаться совершенно иной тактики – сразу предъявить ультимативные требования. «Дайте им еще раз попробовать кнута», – убеждал он Кюльмана во время беседы вечером 28 декабря, после того как Троцкий в этот же день принял предварительные условия Четверного союза. Кюльман, однако, настаивал на том, чтобы не форсировать события, и Чернин в тот момент был с ним согласен. Разговор с Гофманом прошел на высоких тонах, что говорило об отсутствии гармонии и полного взаимопонимания внутри Центральных держав.
В Крейцнахе Людендорф, по его собственным словам, «от нетерпения сидел как на раскаленных углях». Он потребовал через Бауэра объяснений от Гофмана, а получив их, стал ругать Кюльмана последними словами и приказал Гофману сдвинуть переговоры с мертвой точки. На очередной вечерней встрече (29 декабря) Гофман сказал Кюльману и Чернину, что все эти пространные дебаты ни к чему не приводят, а, наоборот, уводят все более и более в сторону от изначального предмета обсуждений. Он подчеркнул, что необходимо вернуть переговоры на почву реальных фактов и дать ясно понять русским, какова ситуация на самом деле и для чего все здесь собрались.
Чернин, разрывавшийся между естественным неприятием методов Гофмана, которые, как он опасался, могли привести к срыву переговоров, и перспективой сидеть и выслушивать бесконечные споры Кюльмана и Троцкого, в конце концов стал на точку зрения генерала и дал согласие на его предложение. Кюльман не имел против этого серьезных возражений, поскольку был внутренне убежден, что методы Гофмана не продвинут дело быстрее, чем его собственные; однако он считал, что боевая и агрессивная речь Гофмана улучшит отношения последнего с Людендорфом, поскольку Кюльман хоть и не питал особых симпатий к Верховному командованию, но вполне убедился, что значит работать в одной команде с человеком, который не имеет нормальных отношений со своим начальством. Поэтому было оговорено, что, когда наступит психологически подходящий момент, Кюльман без всяких вступлений сразу же предоставит слово Гофману.
Этот момент наступил быстрее, чем они ожидали. На следующий день, 30 декабря, русские решили сформулировать ряд конкретных предложений, которые Троцкий доверил огласить Каменеву. В своем продолжительном выступлении, которое никак нельзя было назвать доброжелательным в отношении Центральных держав, он выдвинул ряд предложений по процедуре вывода войск с оккупированных территорий и проведению общенародных плебисцитов как на оккупированных территориях, так и за их пределами – на территориях вне зоны оккупации, в частности в Эстонии и Ливонии. Предусматривалось, что «Россия берет на себя обязательство не оказывать прямого или косвенного давления на население этих территорий, чтобы добиться установления той или иной формы правления, а также не ограничивать их независимость посредством любых заключенных ими в прошлом тарифных или военных соглашений до того, как эти районы полностью и окончательно не определят свое положение на основе права на политическое самоопределение. Правительства Германии и Австро-Венгрии, в свою очередь, категорически подтверждают отсутствие любых претензий на территории бывшей Российской империи, находящиеся сейчас под оккупацией их армий, или же на так называемые «выправления» границ за счет этих районов».
Германия и Австро-Венгрия должны были также взять на себя обязательства, аналогичные российским, и в отношении территорий, лежащих за пределами зоны оккупации.
Эти предложения, направленные на то, чтобы загнать противника в угол и заставить его полностью раскрыться, явились для участников переговоров полной неожиданностью. В глазах стран Четверного союза они выглядели как условия, диктуемые Россией, вообразившей себя победителем, находящимся у ворот Берлина и Вены, побежденному противнику. У делегаций Центральных держав постоянно вызывало раздражение, что с прибытием в Брест-Литовск Троцкого советские представители не хотели осознавать, что именно Россия является страной, добивающейся мира и которой он необходим более, чем кому-либо.
После выступления Каменева воцарилось молчание. И в этот момент, не делая никаких комментариев, Кюльман тихо и спокойно сказал: «Слово предоставляется генералу Гофману».
Для Гофмана наступил очень важный момент, к которому он готовился усердно и тщательно. Он был раздражен выступлением Каменева, поэтому его ответ получился более жестким, чем он первоначально планировал. Полностью держа себя в руках, он говорил четкими отрывистыми фразами, не делая при этом никаких жестов. По общему свидетельству его коллег, присутствовавших на заседании, все разговоры о том, что он стучал кулаком по столу или клал на стол ноги в сапогах со шпорами, являются чистейшим вымыслом.
Выразив вначале протест против тона выступления Каменева, генерал подчеркнул, что, хотя советское правительство громко заявляет о самоопределении, оно само «держится исключительно на насилии и беспощадном подавлении всех инакомыслящих» и отказало в праве на самоопределение украинцам и белорусам, разогнав их представительные органы власти при помощи штыков и пулеметов. В довершение к этому, российское правительство продолжало грубо нарушать условия соглашения о перемирии, запрещавшего вмешательство во внутренние дела Центральных держав; большевистские агенты продолжают активное распространение пропагандистских материалов. «Германское Верховное командование в этой связи сочло необходимым предотвратить любую попытку вмешательства в дела оккупированных территорий. Также, по причинам технического и административного характера, германское Верховное командование отказывается вывести войска из Курляндии, Литвы, Риги, а также с островов в Рижском заливе».
Эффект от выступления генерала оказался совсем не тем, на какой он рассчитывал. Оно даже не привело к восстановлению его отношений с Верховным командованием; хотя Людендорф и одобрил его выступление, подчеркнув при этом, что надо и далее следовать в том же духе, только еще активнее и быстрее, но продолжал поддерживать контакты с Гофманом не напрямую, а по-прежнему через начальника оперативного отдела штаба Восточного фронта. Кюльман и Чернин были крайне расстроены выступлением Гофмана, поскольку в своей грубой прямоте он зашел гораздо дальше, чем они предполагали, и не скрывали от него, что своим выступлением он ничего не добился, а только взбудоражил общественное мнение в Германии и Австро-Венгрии и настроил его как против самого себя, так и против руководителей германской и австрийской делегаций. И действительно, единственным результатом этого выступления был вызванный им дружный хор возмущения среди тех политических кругов в Германии, которые все еще верили в возможность заключения мира на основе принципов мирной резолюции, принятой рейхстагом в июле 1917 г. В довершение к этому генерал дал прекрасную возможность органам пропаганды стран Антанты использовать его выступление как яркий пример прусского милитаризма в его обнаженном и неприукрашенном виде, чем они полностью и воспользовались.
Что же касается расчета на то, что это выступление смутит или выбьет из колеи Троцкого, то народный комиссар по иностранным делам лишь улыбался, слушая всю эту тираду Гофмана. Его темно-карие глаза сверкали, он слегка отклонился назад, твердо держа руки на ткани стола. Он выглядел очень довольным, поскольку знал, как можно использовать откровенную речь генерала как в Берлине, так и в Петрограде. Его ответ был язвительным и острым. В классовом обществе, сказал он Гофману, всякая власть держится на силе. Разница лишь в том, что друзья генерала используют эту силу для защиты крупных собственников, а большевики – для защиты рабочих. «Правительства других стран удивляет и возмущает, – сказал Троцкий, – что мы арестовываем не тех, кто участвует в забастовках, а капиталистов, которые выбрасывают рабочих на улицу; что мы не расстреливаем крестьян, которые требуют землю, а арестовываем помещиков и офицеров, которые пытаются стрелять в крестьян».
Завершив урок элементарных основ марксизма, Троцкий перешел к более конкретным обвинениям, выдвинутым Гофманом, в частности по поводу ведения пропаганды в Германии. Он не отрицал этого, но обратил внимание на то, что немецкие газеты свободно распространяются в России, независимо от содержания напечатанного там материала, при этом советское правительство не сочло возможным ограничить доступ в страну даже тех газет, которые разделяют мнение генерала Гофмана. «Не вызывает сомнения, – подчеркнул он, – что та поддержка, которую получают реакционные круги нашей страны публикуемыми в газетах определенными заявлениями германских официальных лиц, в значительной степени способствует продолжению гражданской войны в нашей стране, тем не менее мы не сочли возможным связывать этот вопрос с условиями перемирия».
Кюльман вмешался в дискуссию, подчеркнув, что Германия твердо придерживается принципа невмешательства во внутренние дела России; Троцкий с насмешкой ответил, что Германия, поступая так, просто отказывается от попыток морального наступления. Мы рассматривали бы как шаг вперед, сказал он, если бы правительство Германии свободно и откровенно высказало свою точку зрения относительно внутренней обстановки в России.
Кюльману был брошен вызов, и, если бы он его принял, он мог бы попытаться повернуть ситуацию в свою пользу. Если бы он принял предложение Троцкого высказаться по поводу внутренней ситуации в России, он мог бы заставить своего противника обороняться и при этом улучшить отношение к Германии в мире. Вместо того чтобы позволять Троцкому клеймить Германию как лицемера, лжеца и разбойника, ему следовало бы сорвать маску с большевиков и разоблачить их, как поработителей умов людей и разрушителей социальной ткани мировой цивилизации. Если бы Кюльман твердо следовал этой точке зрения и заявил, что Германия принципиально считает своим правом и своим долгом защитить тех, кто захотел высвободиться из хаоса революционной России, то, возможно, в этом случае он смог бы использовать тот устойчивый и постоянно увеличивающийся страх перед большевизмом, который существовал в странах Антанты. Германия, как лидер западной цивилизации, защищающий пограничные страны от гражданской войны, грабежей и кровавых убийств, как бастион на пути распространения большевизма в Европу, имела бы бесконечно более сильные позиции как внутри страны, так и извне, чем Германия, проводящая сугубо эгоистичную и циничную политику и пытающаяся использовать принцип самоопределения для прикрытия откровенных захватов. Таким образом, из рук стран Антанты выбивалось бы важнейшее орудие пропаганды, причем, возможно, удалось бы преодолеть и возражения Верховного командования, поскольку снимался бы вопрос о том, чтобы отдать приграничные государства на милость большевиков.
Но Кюльман не воспользовался этой поистине «золотой» возможностью и опять погрузился в бесконечный теоретический спор с Троцким, в котором он уже не имел никакого преимущества. Теперь от этих затяжных споров пользу получал лишь противник; в результате грубой откровенности Гофмана Центральные державы оказались перед своими противниками, как на переговорах, так и за их пределами, да и перед всем миром, в положении, когда они «сами себя высекли». Прозвучал голос настоящих хозяев Германии – Гофман ясно продемонстрировал, что он представляет не правительство Германии, а Верховное командование и не осталось никаких сомнений относительно истинных целей и намерений, которым Германия следует. Для Германии в таком случае было бы лучше с самого начала сформулировать тот подход, которого придерживались те, кто в действительности ею управлял, и предъявить другой стороне ультимативные требования.
А вот положение Троцкого было прямо противоположным. Его стратегия увенчалась полным успехом. Помимо того, что Кюльман согласился работать в рамках того же подхода, что и большевики, – затягивания переговоров посредством бесконечных дискуссий и обсуждений, Троцкому также удалось вынудить немцев открыть свои истинные намерения. В таких условиях, как вынужден был признать даже Людендорф, нужно быть глупцом, чтобы согласиться хоть на малейшую уступку. Из Австрии и Германии приходили сообщения о постоянном ухудшении внутренней обстановки. У Троцкого также были свои иллюзии. Он считал, что именно теперь, пусть чуть раньше или позже, должны произойти пролетарские революции, которые сметут империи Габсбургов и Гогенцоллернов. В последующие дни он взял ситуацию в свои руки и сам вел игру, причем искусно и мастерски, не упуская возможности, с одной стороны, заманить противника в ловушку, а с другой – не заходя при этом слишком далеко. Его поведение становилось все более и более вызывающим. Он покровительственно обращался к Чернину, всячески пытался вывести из себя Гофмана и в конце концов вынудил Кюльмана невольно признать, что германское правительство не может взять на себя обязательство вывести войска с оккупированных территорий даже год спустя после заключения мирного договора. В интервалах между работой на конференции этот неутомимый человек успел посетить Варшаву и продиктовать по памяти исторический очерк об Октябрьской революции («История русской революции до Брест-Литовска»), который был переведен на ряд языков и считался хрестоматийной работой на эту тему до запрещения его Сталиным в 1924 г.








