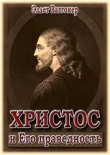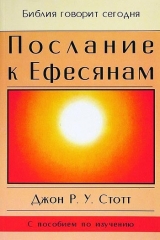
Текст книги "Послание к Ефесянам"
Автор книги: Джон Стотт
Жанр:
Эзотерика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
1. Картина отчужденного человека, или Кем мы некогда были (ст. 11, 12)
В ст. 1–3 Павел изображает всех людей (и евреев, и язычников) пребывающими в грехе и смерти. Здесь же, в ст. 11 и 12, он говорит, в частности, о языческом мире до прихода Христа, о тех, кого евреи (обрезанные) презрительно называли необрезанными. Обрезание было завещано Богом Аврааму как внешний признак принадлежности к Его народу, но физический обряд и само слово, его означавшее, стали наделять преувеличенным значением. Язычники и евреи постоянно давали друг другу унизительные имена. Павел подчеркивает здесь именно это – язычников называли «необрезанными» из-за отсутствия у них того, что было названо «обрезанием, которое наружно, на плоти». Все выглядит так, как если бы Павел провозглашал незначительность имен и званий в сравнении с реальностью, стоящей за ними, и говорил, что за обрядом, называемым «обрезанием, которое наружно, на плоти», подразумевается совершенно другое – обрезание сердца, духовное, а не физическое, которое в равной степени требовалось как евреям, так и язычникам (ср.: Рим. 2:28,29; Флп. 3:3; Кол. 2:11–13).
В ст. 12 апостол переходит к вопросу о жестокой реальности отчуждения язычников. В Послании к Римлянам (9:3–5) Павел перечислял привилегии евреев, а здесь он описывает отрицательные качества язычников. Во-первых, они были без Христа – трагичность их положения заключается еще и в том, что в гл. 1 Павел уже раскрыл великие духовные благословения тех, кто «во Христе», а в предыдущей части гл. 2 он объяснил, как Бог оживил, воскресил и посадил нас «со Христом». Но некогда, т. е. в период до рождества Христова, язычники не были ни «во Христе», ни «со Христом» – они были «без Христа», они даже не ждали Мессию.
Две следующих отрицательных черты язычников похожи одна на другую: они были отчуждены от общества Израильского и были чужды заветов обетования (вероятно, имеется в виду начальное обетование, данное Богом Аврааму). Израиль был «обществом», или народом, под водительством Божьим, где правило духовенство, и «народом завета», которому Бог дал Свое слово обещания. Таким образом Бог связал Себя с ними и правил над ними. Но язычники были лишены этого завета и исключены из царства.
Еще две черты ущербности язычников заключаются в том, что они не имели надежды и были безбожники в мире. Несмотря на то что Бог пожелал и пообещал однажды принять их, они «не имели надежды», потому что не знали об этом. Они были «безбожники» (atheoi), поскольку не приняли известную им истину и обратились к идолопоклонству, хотя Бог в природе открыл Себя всему человечеству и, таким образом, не оставил Себя без свидетеля (см.: Деян. 14:15идал.; 17:22 и дал.; Рим. 1:18 и дал.). Не будет преувеличением, если мы назовем античный мир, окружавший евреев, «не имеющим надежды» и «безбожным»: золотой век греческой цивилизации минул, а надежды так и не сбылись. Кроме того, боги греческого и римского пантеонов уже не могли удовлетворить голод человеческих сердец. Люди были «безбожны» (atheoi) не потому, что у них не было веры (напротив, они верили в существование большого количества богов), но потому, что у них не было истинного знания о Боге, которое имел Израиль (Пс. 147:9), и (поскольку они отвергали те знания, которые им пытались дать) личного общения с Ним.
Языческий мир перед приходом Христа находился в плачевном состоянии. Люди были отделены от Мессии, от Божьего правления и заветов, от надежды и Самого Бога. Уильям Хендриксен описывает жизнь язычников пятикратным «без»: «без Христа, без положения, без общества, без надежды и без Бога»[79]79
Hendriksen, p. 129.
[Закрыть].
Говоря же словами Павла, они были «далеко» (ст. 13), т. е. отчуждены от Бога и от Его народа.
Да и мы сами до принятия Христа находились в таком же положении – мы были отчуждены от Бога и от Его народа. Более того, и Павел еще будет говорить об этом, в наших сердцах жила та вражда, из-за которой мы противились власти Божьей и ничего или почти ничего не знали о человеческом обществе. Разве не то же самое происходит в сегодняшнем мире, мире без Христа? Люди все еще строят стены разделения, подобные берлинской, или сооружают металлические и деревянные заборы, или придумывают расовые, кастовые, национальные или классовые барьеры. Разобщенность становится постоянной характеристикой всякого общества без Христа, и мы знаем это по собственному опыту. В Писании часто говорится о вещах, которые нужно забывать (напр., о нанесенных нам обидах). Но одно из противоположных утверждений Павла гласит, что нужно всегда помнить и никогда не забывать, кем мы были до того момента, когда Божья любовь коснулась нас: итак помните (ст. 11). Ибо если мы будем помнить наше отчуждение (каким бы неприятным нам это порой ни казалось), мы будем помнить и величие благодати, которая простила и преобразила нас.
2. Изображение творящего мир Христа, или Что сделал Христос (ст. 13–18)
Единство двух частей гл. 2 Послания к Ефесянам очевидно – в каждой из них сначала идет описание жизни без Христа: «мертвы» (ст. 1–3) и «отчуждены» (ст. 11, 12), а затем следует противопоставление: «но Бог» (ст. 4) и «а теперь» (ст. 13). Главное различие между частями заключается в том, что во второй половине Павел уделяет внимание судьбе язычников – он дважды использует выразительное местоимение вы (hymeis): «Помните, что… вы были… отчуждены… А теперь во Христе Иисусе вы… стали близки».
Христос сотворил с вами нечто удивительное, произошла разительная перемена: вы, бывшие некогда далеко, стали близки. Использование терминологии пространства («далеко» и «близки») было распространенным приемом в Ветхом Завете. Бог и народ Израиля были «близки» друг другу, ибо Бог обещал ему стать его Богом и сделать его Своим народом, поэтому Моисей мог сказать: «Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем Его?» (Втор. 4:7). Эта особенность повторяется и в Пс. 148:14, где народ Израиля назван «народом близким к Нему»; язычники же были «далеко» и считались «народом дальним» (Ис. 49:1). Но Бог обещал, что однажды Он провозгласит «мир, мир дальнему и ближнему» – и это обещание цитируется здесь Павлом (Ис. 57:19, Еф. 2:17), ибо оно исполнилось в Иисусе Христе. Благодаря Христу христиане обладают привилегией «близости к Богу» и часто принимают ее за само собой разумеющееся. Наш Бог не чуждается нас и не считает ниже Своего достоинства общаться со Своими слугами, как некоторые восточные божества, а также не настаивает на каких-то сложных ритуалах или документальных подтверждениях нашей веры. Наоборот, через Иисуса Христа, наполнившись Духом Святым, мы получаем прямой «доступ» к Нему, как к нашему Отцу (ст. 18). Мы должны учить друг друга пользоваться этой привилегией (Евр. 10:22; Иак. 4:8).
Но в ст. 13 не просто утверждается, что язычники, бывшие «далеко», стали «близкими». Здесь содержится еще два важных замечания о Христе. Там говорится, что наша близость к Богу возможна во Христе Иисусе и Кровию Христовою. Если мы хотим быть верными апостольскому учению, чрезвычайно важно помнить о единстве этих двух положений и не преувеличивать значение одного за счет умаления значения другого. Выражение «Кровию Христовою» (как и в 1:7) означает Его жертвенную смерть за наши грехи на кресте, которой Он воссоединил нас с Богом и друг с другом. Слова «во Христе Иисусе» подразумевают личное единство с Христом, когда мы принимаем и осваиваем то воссоединение, которое Он приобрел для нас. Таким образом, эти два замечания словно две ступени, поднимаясь по которым бывшие «далеко» становятся «близкими»: первой является историческое событие на кресте, а второй – христианское обращение, или личное переживание единства с Христом. Что принесли нам страдания Иисуса на кресте, Павел объяснит в следующих стихах. А мы пока подробнее рассмотрим фразу «во Христе Иисусе», которой начинается повествование об искупительном подвиге Христа. Христос воссоединил не всю вселенную. Скорее Он добивался близости к Богу и друг к другу тех, кто находится рядом с Христом, в жизненно важном личном единстве с Ним, т. е. «в Нем». Это значит, как сказал Джон Маккей, комментируя эти стихи, что Божий объединяющий принцип, лежащий в основе единства людей, нельзя назвать ни интеллектуальным (философией), как в католичестве, ни политическим (завоеванием), как в исламе или марксизме, а только духовным (искуплением Христа, включающим единство между евреями и язычниками, человеком и Богом, землей и небом). Вот три альтернативных «власти»: одна – разума, вторая – силы и третья – царства Божьего.
Далее апостол рассказывает, что Христос сделал и как Он это сделал. То, что Он сделал, понятно: Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду (ст. 14). В этом предложении выделяется местоимение «Он» (autos). Именно Он, Иисус Христос, однажды проливший Свою кровь на кресте и предлагающий сегодня Своему народу объединиться с Ним, есть мир наш, т. е. миротворец, посланник мира, посредник между нами и Богом. Слово «обоих», из которых Он соделал… одно, означает воссоединение евреев и язычников. Но вся фраза несет гораздо большую смысловую нагрузку. Как мы уже отмечали раньше, стоявшая посреди преграда, которую Он разрушил, символизировала отчуждение язычников не только от Израиля, но и от Бога.
Заявление, которое делает Павел о разрушенной Иисусом Христом преграде, чрезвычайно важно. Ведь согласно историческим сведениям, эта стена была целой, пока римские легионеры не вошли в Иерусалим в 70 г. н. э. Итак, она все еще существовала, опоясывая храм и служа преградой для язычников, когда Павел писал это послание. Однако, оставаясь целой материально, в духовном смысле она была разрушена уже в 30 г. н. э., когда Иисус умер на кресте. Армитаж Робинсон так выразил это: «Стена все еще стояла, но уже устарела, обветшала, не имела прежнего значения с тех самых пор, как потеряла свою духовную силу. Предмет все еще оставался, но его сущность была уже разрушена»[80]80
Armitage Robinson, p. 60.
[Закрыть].
Рассмотрим теперь, как Христос совершил это. Как Его смерть на кресте уничтожила вражду между евреями и язычниками, между человеком и Богом? Ответ дается в ст. 15 и 16. Они тесно связаны с богословием, и мы постараемся раскрыть их значение. Возможно, чтобы лучше объяснить ход мысли апостола, стоит выделить три главных глагола, которые использует Павел: упразднить… создать… устроить. Апостол пишет, что Христос упразднил закон заповедей, чтобы создать совершенно нового человека и устроить мир, т. е. воссоединить обе его части с Богом.
1) Упразднение закона заповедей (ст. 15а)
Первое замечание Павла – о Христе, Который разрушил преграду, прекратил вражду, упразднив ее Плотию Своею, а закон заповедей – учением. На первый взгляд эти слова вызывают удивление, если не сказать больше. Почему апостол утверждает, что Христос упразднил закон, когда Сам Господь в Нагорной проповеди ясно провозгласил обратное – что Он пришел не нарушить, а исполнить его (Мф. 5:17)? Мы увидим, что противоречие это лишь кажущееся. По сути, оба заявления – это два подхода к одной проблеме.
Контекст Нагорной проповеди показывает, что Иисус говорит о моральном законе. Иисус учил о разнице между фарисейской праведностью и христианской и утверждал, что христианская праведность включает в себя полное подчинение закону. Слова же Павла относятся к церемониальному закону, к тому, что NEB называет «его правилами и установлениями», а именно к обрезанию (основному физическому отличию иудеев от язычников, ст. 11), к жертвоприношениям, к делению пищи начистую и нечистую и к правилам ритуальной «чистоты» и «нечистоты», определявшим социальные взаимоотношения. В параллельном отрывке в Послании к Колоссянам тоже упоминается об обрезании, вопросах «еды» и «пития» и предписаниях о «новомесячиях» и «субботах» (2:11, 16–21). Вероятно, это и был тот закон заповедей, на который ссылается здесь Павел и который служил серьезной преградой для объединения иудеев и язычников. Но Иисус упразднил весь этот церемониал. Он сделал это Плотию Своею (что означает Его физическую смерть), ибо в Его смерти на кресте отразились все контуры и тени ветхозаветной церемониальной системы.
Стоит обратить внимание на то, что Павел еще раз, пусть и косвенно, ссылается на моральный закон. Конечно же, Иисус не отменил моральный закон как норму поведения (он все еще в силе и исполняется Его последователями) – Он упразднил его как единственно верный путь спасения. Если рассматривать этот закон как единственно правильный путь, он становится преградой. Мы не можем следовать ему, как бы мы ни старались, значит, он отделяет нас от Бога и друг от друга. Но Иисус полностью исполнил закон Своей жизнью, а Его смерть была искуплением нашего непослушания. Он взял на Себя «проклятие закона» (т. е. осуждение, которое заслуживают его нарушители) для нашего освобождения (Гал. 3:10,13). Или, как говорится в Послании к Колоссянам, Бог простил наши преступления, потому что Христос, «истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас… взял его от среды и пригвоздил ко кресту» (2:13, 14). Теперь Бог принимает нас – евреев и язычников – по нашей вере в распятого за всех Иисуса. Закон разделял нас, но вера объединяет нас, так как все мы приходим к Богу через Иисуса, одним и тем же путем. Мысль о том, что все мы становимся равными у подножия креста Христова, была одной из главных в Послании Павла к Галатам.
Подводя итог, мы можем сказать, что Иисус отменил как установления церемониального закона, так и осуждение закона морального – оба они разделяли людей и оба были упразднены Его смертью на кресте.
2) Сотворение совершенно нового человека (ст. 15б)
Наконец, Павел переходит от негативного к позитивному, от упразднения старого (разделяющего закона) к сотворению нового (одного цельного человека). Во всех рассмотренных нами случаях следовать закону значило расширять и без того глубокую пропасть в человечестве – евреи и язычники были отчуждены друг от друга и враждовали друг с другом. Но то, что могло помешать объединению двух сторон человечества, исчезло, когда разделявший их закон был упразднен. Христос соединил их, создав нечто новое – буквально Он «соделал из обоих одно… нового человека… устрояя мир». «Этот новый человек, – пишет Ф. Ф. Брюс, – подобно „муж усовершенному” в Еф. 4:13, является типичным представителем христианской общины»[81]81
Bruce, p. 55.
[Закрыть]. На самом деле Павел говорит не о «новом человеке», а о новой человеческой расе, объединенной Иисусом Христом в Себе. Потенциально совершенно новый человек был создан Христом еще тогда, когда Он упразднил разделяющий закон на кресте. В действительности же новый человек появился только после личного единства с Самим Христом.
Это новое единство во Христе устраняет не только национальную вражду между евреями и язычниками, но также упраздняет половые и социальные отличия, о чем Павел говорит в других отрывках: «Нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». И еще раз: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Кол. 3:11; Гал. 3:28). Эти слова не означают, что стираются человеческие различия. Мужчина остается мужчиной и женщина – женщиной, евреи остаются евреями, а неевреи не становятся евреями. Исчезает лишь неравенство перед Богом, возникает новое единство во Христе.
3) Воссоединение евреев и язычников с Богом (ст. 16)
Воссоединение с Богом двух групп, составляющих ветхое человечество, произошло тогда, когда Христос упразднил разделяющий закон и создал цельного человека, убив вражду на кресте. Здесь имеется в виду «вражда» Бога и человека, тогда как в ст. 14 она главным образом касалась евреев и язычников. Я думаю, мы можем увидеть некоторую взаимность во вражде между человеком и Богом, подобно тому, как описанная в ст. 14 вражда была взаимной. Не только мы относились к Нему как бунтовщики, но и Его «гнев» был обращен к нам за наши грехи (ст. 3). И лишь посредством креста эта взаимная вражда была искоренена, ибо, когда Христос понес наши грехи и осуждение на кресте, Бог отвратил Свой гнев, и мы, видя эту великую любовь, отвратили свой. Таким образом Христос (буквально) «убил» вражду. «Христос был убит, – пишет Армитаж Робинсон, – но, уже убитый, Он и Сам убил»[82]82
Armitage Robinson, p. 65.
[Закрыть]. Со всякой враждой было решительно покончено, и наступило воссоединение.
Всего этого Христос достиг Своим подвигом на кресте. Во-первых, Он упразднил закон (его церемониальные постановления и моральное осуждение) как причину отделения людей от Бога и язычников от евреев. Во-вторых, Он создал совершенно нового человека из прежних двух половинок, «устрояя мир». В-третьих, Он воссоединил этого нового человека с Богом, убив на кресте всякую вражду между ними. Распятый Христос, можно сказать, сотворил новую, единую человеческую расу, объединенную со своим Творцом.
Это вовсе не значит, что теперь все человечество объединено и воссоединено. Собственный опыт подсказывает нам, что это не так. Да и Павел не говорит этого – напротив, он упоминает о существовании еще одной важной детали: Христос, придя, благовествовал мир (ст. 17). Нам уже говорилось, что Он есть мир наш (ст. 14) и что Он сотворил нового человека, устрояя мир (ст. 15). Но Он еще и благовествовал мир, проповедовал радостную весть о мире, который Он принес на кресте (ср.: Ис. 52:7). Сначала Он устроил мир, а потом – провозгласил его устройство. Поскольку мира можно было достичь только подвигом на кресте, а логически оглашение должно следовать за исполнением, то упоминаемое в ст. 17 благовестив нельзя относить к публичному служению Христа. Скорее оно относится к Его явлениям после воскресения, в которых первыми словами, обращенными к апостолам, были «мир вам» (Ин. 20:19–21). А это значит, что оно относится и к Его благовестию мира всему миру через апостолов и последующие поколения христиан (ср.: Деян. 10:36; Еф. 6:15). Иисус Христос все еще благовествует мир всему миру устами Своих последователей. И прекрасно, что, когда мы проповедуем мир, через нас проповедует Сам Христос.
Благая весть с самого начала адресовалась и «дальним», и «близким», т. е. в равной мере и язычникам, и евреям: мир вам, дальним и близким. Многие люди соединились с Богом и друг с другом – чрез Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе (ст. 18). Хотя «воссоединение» представляет собой событие, происходящее раз в жизни, оно ведет к длительным взаимоотношениям. Такая протяженность во времени выражена словом «доступ»: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, чрез Которого верою и получили мы доступ…» (Рим. 5:1,2). Слово prosagōgē (доступ) вызывает в воображении сцену из жизни восточного двора, когда подданным устраивается аудиенция с царем или императором и они предстают перед ним. Смысл этого слова остается тем же, но акцент меняется, когда речь заходит не просто о каком-то царе, а об Отце, к Которому «мы имеем дерзновение и надежный доступ» (3:12). В радости осознания такой близости к Богу мы не встречаем никаких практических затруднений, связанных с тайной предвечной Троицы. Ибо нам открыт доступ чрез Него (Сына, Который устроил мир и благовествовал его)… к Отцу, в одном Духе, Который возрождает, запечатлевает и пребывает в Его народе, Который свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи, Который подкрепляет нас в немощах наших и учит нас молиться и Который объединяет нас в молитвах. Поэтому сегодня мы, те и другие, евреи и язычники, став членами нового Божьего общества, вместе приближаемся к Отцу. Таким образом, величайшее достижение миротворца Христа заключается в этом тринитарном доступе народа Божьего к Богу, когда через Христа в одном Духе мы предстаем перед нашим Отцом.
3. Портрет нового Божьего общества, или Чем мы стали (ст. 19–22)
Итак – этим словом апостол Павел начинает подведение итогов. Все это время он объяснял шаг за шагом, что Христос совершил, чтобы сделать «ближе» к Богу и Его народу тех, кого в языческом мире называли «далекими». Христос упразднил закон заповедей и создал из двух частей совершенно новое человечество, соединив его с Богом и проповедовав мир дальним и ближним. Итак, чего же достиг Христос, провозгласив мир? Павел выражает это так: вы (язычники) уже не то, что были раньше, не чужие и не пришельцы, не «чужестранцы из иной земли» (NEB) и не приезжие, не имеющие никаких законных прав. Напротив, все совершенно изменилось – теперь с вами произошло то, чего не случалось никогда раньше – раньше вы были лишь беженцами, теперь же, по крайней мере, у вас есть дом.
Желая обозначить всю глубину этого изменения во Христе, Павел обращается за помощью к трем знакомым моделям церкви, о которых более подробно говорится во многих других местах Писания. Павел изображает новое языческо-еврейское сообщество как Царство Божье, Божью семью и храм Божий.
1) Царство Божье (ст. 19а)
Согласно ст. 12, раньше язычники были бесправными людьми, «отчужденными от общества (politeia) Израильского». Но теперь Павел говорит им: вы сограждане (sumpolitai) святым, т. е. евреям, «святым» или «святому народу». Слово politeia встречается в разговоре Павла с тысяченачальником в Иерусалиме (Деян. 22:25–29) при упоминании о римском гражданстве. Здесь же Павел пишет об ином гражданстве; не развивая этой метафоры, он говорит о гражданстве в Царстве Божьем. Это Царство не поддается описанию ни как территориальная юрисдикция, ни как некая духовная структура. Божье Царство есть Бог, правящий Своим народом и наделяющий его всеми теми правами и обязанностями, которые появляются с началом Его правления. К этому новому межнациональному обществу, управляемому Богом и заменившему ветхозаветную националистическую теократию, теперь на равных правах относятся и язычники, и евреи. Павел писал послание в то время, когда Римская империя процветала; ничто не предвещало ее грядущего упадка. И все же апостол уже видел другое царство – не еврейское, не римское, а межнациональное и безрасовое, нечто более прекрасное и непреходящее, чем любая другая империя[83]83
В 1 Кор. 10:32 Павел упоминает «церковь Божью» как трехчастное общество, состоящее из «евреев» и «эллинов». Несомненно, на основании такого текста, как этот, Климент Александрийский мог характеризовать христиан из эллинов и евреев как тех, кто поклоняется Богу «в трех формах» и «одной расе спасенных людей» (Собрание сочинений, VI, 5), и во II в. в «Письме к Дионисию» назвать христиан «новой расой» (гл. 1).
[Закрыть]. И он радуется гражданству в этом государстве как чему-то более значительному, чем римскому, ведь это гражданство гарантирует свободу и безопасность. Слова «уже не чужие и не пришельцы, но… сограждане» еще больше подчеркивают контраст между беспочвенностью жизни вне Христа и надежностью причастности к Божьему новому обществу. «Мы больше не живем по паспорту, но… действительно имеем свидетельство о рождении… мы на самом деле ему принадлежим»[84]84
Lloyd-Jones, God's Way, p. 302.
[Закрыть].
2) Семья Божья (ст. 19б)
Эта метафора изменяется и становится все более глубокой: вы… члены дома Божьего (свои Богу). Одно дело говорить о царстве, но совсем другое – о доме или о семье. Во Христе евреи и язычники становятся не просто согражданами под Божьим руководством, а чадами в Его семье. Павел только что написал в предыдущем стихе о новом доступе «к Отцу», появившемуся у евреев и язычников благодаря Христу (ст. 18), а еще раньше в этом же послании он упоминает о благословении «усыновления» в эту семью (1:5). Вскоре Павел опять вернется к теме всеобщего отцовства Бога (3:14, 15), «единого Бога и Отца всех нас» (4:6), но сейчас главной его заботой становится скорее братство, в которое входят все дети Божьи независимо от расовых различий. Слово «братья» (при обращении как к женщинам, так и к мужчинам) использовалось очень широко для обозначения христиан во всем Новом Завете, оно выражает тесные взаимоотношения любви, заботы и поддержки. Philadelphia, «братская любовь», навсегда останется отличительной чертой нового Божьего общества.
3) Храм Божий (ст. 20–22)
Павел подходит к третьему образу. По существу, Церковь есть сообщество людей. И все же в некотором смысле ее можно уподобить зданию, особенно храму. Храм в Иерусалиме – сначала Соломонов, затем храм Зоровавеля и Иродов – почти тысячу лет был тем центром, который помогал израильскому народу осознавать себя народом Божьим. Теперь же появился другой народ. Будет ли построен новый храм, о котором упоминал Иисус? Новый народ нельзя назвать новой нацией, потому что эти люди находятся вне национальных и расовых рамок, поэтому для них географические координаты не играют никакой роли. Что же тогда могло стать храмом, символом единства нового народа? В ст. 20–22 Павел раскрывает свое видение нового храма яснее, чем где бы то ни было, поэтому над его словами стоит подумать. Рисуя этот образ, Павел обращает наше внимание на основание, краеугольный камень, а также на его крепость и рост, роль и значение в настоящем и (хотя и не совсем четко) судьбу в будущем.
Поговорим об основании. Для любого сооружения нет ничего важнее прочного, надежного фундамента. Хорошо известная притча Иисуса о двух строителях, которой заканчивается Нагорная проповедь, особенно подчеркивает это. На какой же скале строится Церковь? Павел отвечает: бывши утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем (ст. 20).
Так как апостолы и пророки играют роль учителей, становится ясным, что основанием церкви считаются не ее члены или структура, а ее учение. Более того, мы должны считать апостолов и пророков богодухновенными учителями, органами божественного откровения, носителями божественной власти. Слово «апостол», употребляемое здесь, не может быть просто общим термином, которым обозначается любой миссионер или благовестник, епископ или другой член церкви. Следует отметить, что апостолами всегда назывались члены той маленькой группы людей, избранной Иисусом, которые получили власть учить во имя Его и были свидетелями Его воскресения. Эта группа состояла из Двенадцати, Павла, Иакова и, возможно, еще пары человек. Их учению верили, повиновались ему и хранили его. Слово «пророк» также подразумевает вдохновенных учителей, к которым приходило слово Божье и которые верно передавали это слово всем другим. Таким образом, слова «пророки и апостолы», как основание учения Церкви, вполне могут означать Ветхий Завет (пророк) и Новый Завет (апостол). Но обратный порядок слов («апостолы и пророки») предполагает, вероятно, что здесь имеются в виду новозаветные пророки. Если это так, тогда упоминание об апостолах, стоящее рядом, становится значительным для понимания основания Церкви – тогда это слово («пророки») должно относиться к маленькой группе богодухновенных учителей, имевших отношение к апостолам, которые совместно несли свидетельство о Христе и чье учение проистекало из откровения (3:5).
Практически это значит, что если Церковь построена на новозаветных Писаниях – тогда их нужно считать основополагающими документами. Подобно тому как однажды положенное основание с построенным на нем зданием нельзя переложить, так и Новый Завет, как основание Церкви, нерушим и не может быть изменен никакими добавлениями, изъятиями или исправлениями, предлагаемыми различными учителями, называющими себя современными апостолами и пророками. Церковь зиждется на полной зависимости от основания истины, которую Бог открыл Своим апостолам и пророкам и которая представлена в Писаниях Нового Завета.
В основание каждого здания закладывается краеугольный камень. Это очень важная часть основания, он помогает зданию крепко стоять, а также держит его, выравнивая его стены. В основание Иерусалимского храма были заложены массивные краеугольные камни. Армитаж Робинсон упоминает об одном древнем монолите, найденном под южной стеной храма, который был около двенадцати метров в длину[85]85
Armitage Robinson, p. 69.
[Закрыть]. Краеугольным камнем нового храма следует считать Самого Иисуса Христа. Во всех других местах Он называется камнем основания (ср.: Ис. 28:16; Пс. 118:22; 1 Кор. 3:11; 1 Пет. 2:4–8), но здесь Павел определенно подразумевает Иисуса Христа как Того, Кто держит весь растущий храм как одно единое целое. Ибо Он есть краеугольный камень, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает… Единство и рост церкви неразрывны, и Иисус Христос находится в их основании. Так как выражение «во Христе» касается органичного единства, самыми точными метафорами будут сравнения из области биологии, такие, как ветви «на» лозе и члены «в» теле. Здесь же используется образ построения здания. И, также как возведение и устойчивость здания зависят от краеугольного камня, так и краеугольный камень – Христос – неразрывно связан с ростом и единством Церкви. Пока этого единства с Христом не произойдет, не будет ни единства Церкви, ни ее роста.
Павел переходит от описания всего храма к описанию его составляющих. Единство же с Христом всегда остается главным: Христос… краеугольный камень, на котором все здание… возрастает… на котором и вы у стронетесь… Апостол Петр, который также использовал образ храма для описания церкви, обращается к членам церкви как к «живым камням», которым необходимо, «приступая к Нему [Христу]… устроять из себя дом духовный» (1 Пет. 2:4,5). У Павла мы видим, как в эту структуру встраиваются дополнительные камни, подразумевающие верующих из язычников, – и вы. Иерусалимский храм принадлежал исключительно евреям, язычникам даже не позволялось туда входить. Теперь же язычники получили возможность не только войти, но и стать частью храма Божьего. Одним из назначений краеугольного камня было соединив двух стен. Вполне вероятно, что Павел использует этот образ, желая подчеркнуть роль Христа в объединении евреев с язычниками.
Для чего строится этот новый храм? В принципе, цель строительства та же, что и при постройке старого храма – быть жилищем Божиим (ст. 22). Духовно развитые израильтяне понимали, что Бог не живет в построенных человеком храмах и что вся вселенная не может вместить Его Безначальное Существо (ср.: 3 Цар. 8:27; Деян. 7:48,49, 17:24). Тем не менее Бог обещал являть Свою славу (шехину) в святая святых храма, чтобы символизировать тот факт, что Он пребывает среди Своего народа. Но новый храм не стал ни материальным строением, ни национальной реликвией, и у него нет даже географических координат. Это духовное здание (дом Бога) и межнациональное сообщество (включающее какязычников, так и евреев), располагающееся по всему земному шару (везде, где только можно найти народ Божий). Вот где обитает Бог. Он не привязывается к какому-то святому месту, но пребывает со святым народом, со Своим новым обществом, с ним Он связан вечным заветом и живет в них, с каждым в отдельности и со всеми вместе[86]86
Это контрастирует с 1 Кор. 6:19; 3:16 и Еф. 2:21,22, где храм Божий отождествляется, соответственно, с телом христианина, поместной церковью и Вселенской церковью.
[Закрыть]. Что же тогда стало символом Божьего присутствия вместо шехины святая святых храма? Павел дает нам ответ на этот вопрос – Церковь одновременно есть и святой храм в Господе (имеется в виду «в Господе Иисусе», что видно из других примеров использования этого выражения в Новом Завете), и жилище Божие. Наше внимание снова приковывается к Святой Троице – Бог обитает в Своем народе как в храме, «в Господе» и «в Духе», или с помощью Своего Сына и Своим Духом.