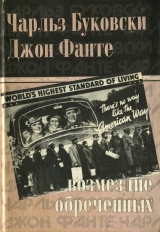
Текст книги "Из книги «Большой голод» рассказы 1932–1959"
Автор книги: Джон Фанте
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Мы вошли вслед за ними в гостиную, наполненную сигарным дымом, разгоряченными потными людьми и резким запахом крепкого вина. В почтительной тишине все пережидали мамины бурные рыдания на кухне. Дядюшка Тони старательно хмурил глаза и покусывал губу, выказывая сильное сопереживание. Мама билась в истерике на руках у моих четырех тетушек. Женщины причитали и охали. Тетушка Луиза ударилась в воспоминания из жизни Минго: как хорош он был в церковном хоре, какое он был невинное дитя, как элегантно он играл на пианино, и как мама и папа (мои бабушка и дедушка) перевернутся в своих могилах, если Минго женится на этой рыжеволосой. Все уже рыдали и выли. Однако тут послышалось шипение закипающей воды, и из печи полыхнуло пламя. Женщины вмиг прекратили рыдания и ударились в действие. И только когда огонь был обуздан и приготовление пищи направлено в нормальное русло, они продолжили стенания, но теперь уже с яростью и негодованием.
– Я бы вешала таких, как эта, – хрипела Филомена. – Повесить и пусть висит, пока не сгниет!
– Повешение слишком здорово для нее, – возражала Тереза. – Надо поставить ей клеймо на груди, как на корове, и таскать на веревке по улицам! И чтобы все плевали на нее!
Она плюнула.
– Я разорву ее на части! – кричала тетушка Луиза. – Пусть только попадется мне! Я выцарапаю ей глаза вот этими вот ногтями! Вырву с корнем! Я ее так сделаю, что ни один мужик больше даже не посмотрит в ее сторону!
Папа расположился в гостиной на софе, предварительно со свойственным ему мужским презрением удалив с нее несколько розовых и зеленых подушек, на которых были запечатлены виды Национального конгресса, горные вершины и руины Помпеи. На некоторых подушках были даже стихотворения. Одно из них называлось «Дом Сладкий Дом», а другое было поэмой «Мама». На стенах висели картины и портреты родственников, живых и усопших. Среди них висела и потрясающая фотография первого ребенка тетушки Терезы, умершего в шесть месяцев. Снимок был сделан во время его похорон.
Под картинами расположилась вся наша родня. Дядюшка Джулио, мясник, хозяин дома. Дядюшка Клито, парикмахер. Дядюшка Паскуале, камнерез. Дядюшка Тони, водитель грузовика. Дядюшка Аттилио, рабочий. Мой отец, каменщик. Втиснутые в эту богато украшенную гостиную, они пили вино и курили сигары, и под опрятными шерстяными костюмами парились и потели их короткие квадратные тела.
Никто не заговаривал о цели собрания. Они ворчали на погоду, на трудные времена, и их неприязнь друг к другу, казалось, вот-вот перерастет в перепалку. Мой отец, каменщик, очень презирал работу Паскуале – камнереза. Дядюшка Тони, водитель грузовика, взял себе за правило ничего не перевозить родственникам. За это все его ненавидели. Дядюшка Джулио, мясник, считался хвастуном и лицемером. Дядюшку Аттилио, рабочего, приводили в бешенство жалобы всех на огромные долги, поскольку это лишало его возможности занять денег. И только две вещи объединяли их: они боготворили дядю Минго, потому что он был свободным артистом и ничем не обремененным холостяком; и они ненавидели дядюшку Клито за его бесовский язык. Никто не знал, что чувствует и переживает дядюшка Клито, потому что он был всецело поглощен жизнью окружающих.
Дядюшка Тони снял нарастающее напряжение текущей беседы:
– Ох, как пахнут равиоли-то!
– Какие равиоли? – спросил дядюшка Джулио. – Я что – из золота сделан? Это спагетти.
– Да? А я думал…
– Мне без разницы, что ты думал! Все знают, зачем мы здесь собрались. Что с женщинами-то делать будем?
– Я поговорю с Минго сам, – сказал Паскуале. – Я знаю, как его урезонить.
– Ты?! – крякнул Джулио. – Да не смеши ты меня!
– Я не хочу ни во что вмешиваться, – сказал дядюшка Тони, никогда не перевозивший родственников.
– Может, ты и прав, – сказал папа. – Может, нам не стоит вмешиваться.
– Замечательный способ, – усмехнулся Паскуале. – Я полагаю, ты будешь просто в восторге от такой невестки.
Голос папы заклокотал:
– Да уж не меньше, чем от некоторых, что у меня уже есть.
Паскуале вскочил на ноги. Папа тоже. Они бросились друг на друга. Их тела безобидно столкнулись, но их тут же принялись растаскивать в разные стороны. При этом они очень эффектно дискутировали.
Папа:
– Да он не камнерез, а рвань подзаборая!
Паскуале:
– Ну, а ты-то уж самый что ни на есть каменщик, без сомнения!
Женщины выскочили из кухни и поспешили к своим ряженым.
Порхая вокруг, как колибри, они умоляли их успокоиться. Схватка обошлась без мордобития. Мужчины выпроводили женщин из гостиной.
Мужское корпоративное сознание вновь сплотило их ряды. Они снова расселись по местам, и конфликт был исчерпан. Папа ослабил галстук, Паскуале снял пиджак, Тони забросил ноги на чайный столик, а дядюшка Аттилио скинул ботинки. Мощное благоухание его ступней разлилось по комнате. Дядюшка Клито наполнил стаканы, и беседа была продолжена.
Кузина Делия, младшая дочь дядюшки Тони, на неокрепших еще ножках вбежала в комнату и положила головку на колени дядюшки Джулио.
– Скоро плохая-плохая тетя придет? – спросила она.
– Нет, – ответил Джулио.
– Почему?
Ворвалась тетушка Луиза, схватила Делию, подтянула к стулу, перевалила себе через коленки и стала звонко шлепать по попе. Крик Делии разносился по всему дому.
– Я покажу тебе, как говорить здесь о плохих женщинах! – горланила еще пуще Луиза. – Я научу тебя, как себя вести!
– Ты тоже плохая! – вопила Делия. – Ты ужасная!
Я взял Делию за руку и отвел в подвал, где собрались мои братья и сестры. Это был недружелюбный лагерь: девочки – против мальчиков. Девочки были высокомерны и слишком горды, чтобы драться, и мальчики позволяли себе гадкие замечания.
Наверху на кухне хлопотали женщины. Макароны были готовы, разложены по тарелкам, политы соусом и посыпаны сыром.
Накрыли столы: в обеденной зале для взрослых, и на кухне – для детей. На часах было час тридцать.
– Ему стыдно приходить, – сказала Луиза.
– И это неудивительно, – заметила Роза.
Мужчины с забрызганными вином животами были угрюмы. Только дядюшка Клито выглядел беззаботным. Он сидел у окна, не пил, а, деликатно мусоля палец, перелистывал дамский журнал. Папа заснул на софе с широко открытым ртом.
В два часа дядюшка Джулио сказал:
– Давайте есть.
Мужчины, потрескивая костьми, поднялись, переместились в обеденный зал и расселись тесным полукругом за столом. Напротив расположились жены и стали настаивать, чтобы мужья сели напротив жен. Мужчины нахмурились и отказались пересаживаться. Дети на кухне были рассажены за столом и столиками для бриджа, сдвинутыми в центр. Макароны были горячими и слипшимися, томатный соус уже высох, и сыра было явно недостаточно. Когда же мы узнали еще, что кроме мороженых яблок на десерт больше ничего не будет, все стало совсем плохо. За столиками для бриджа началась драка.
В обеденном зале горько сетовал дядюшка Джулио: никогда он не едал более похабной пищи. Он осведомился о мнении других мужчин на этот счет. Их набитые макаронами уста засвидетельствовали его совершенную правоту. Тетушка Тереза расплакалась, и женщины принялись утешать ее. Это все из-за этой рыжеволосой, несомненно, она была причиной всему. В конце концов все успокоились, и стало слышно только чавканье, посасывание, глотание и рыгание.
И тут входная дверь открылась, и вошли дядя Минго и женщина. Минго был высоким, с золотистыми глазами забияки. У него были кукурузного цвета шелковистые волосы и свисающие по бокам длинные руки, покрытые рельефными голубыми венами. Он напоминал моего прадедушку, чья мать была русской, и был единственным среди родни не смуглым, не черноглазым и не толстым. Он был морковкой среди картошек.
Женщина была маленькой, с нарумяненным лицом. Минго успокаивающе прижимал ее к себе. Ей было около тридцати двух, высокие скулы и раскосые метисские глаза на приятном лице, бывшем когда-то прекрасным.
– Не бойся, – улыбнулся ей Минго.
Женщины за столом обменялись взглядами отвращения, а в лицах мужчин можно было заметить некоторое замешательство. Дядя Минго снял пелерину из красной лисицы с плеч женщины. Под ней была зеленая блузка, заправленная в оранжевую юбку. Стройная, с худыми ногами и розовыми от мороза руками. Дядя Минго взял ее кисти и слегка помассировал.
Это было уже слишком для женщин. Они встали, задрали подбородки, вышли друг за другом в спальню и захлопнули дверь за собой. Дядя Минго рассмеялся.
– Что я тебе говорил? – сказал он.
Женщина испуганно посмотрела на него.
Тут двери спальни открылись, и выглянула тетушка Роза.
– Аттилио, – сказала она, – зайди-ка. Я не хочу, чтобы ты оставался там. Ты слышишь меня?
Аттилио почти встал со стула, но, глянув на дядю Минго, опять сел. Женщина улыбнулась. У нее были белые, как у собаки, зубы. Тетушка Роза громко хлопнула дверью. Дядя Минго положил руку на талию женщины, подвел ее к столу и представил ей мужчин. Избегая ее взгляда, они холодно кивали. Она же улыбалась каждому и говорила:
– Очень рада знакомству.
Когда очередь дошла до дядюшки Клито, она воскликнула:
– О, а вас я знаю! Вы – мой парикмахер!
Клито сощурился и ничего не ответил.
Дядя Минго повернулся к нам, детям, сгрудившимся в дверях на кухню, и сказал:
– Дети. Это мисс Каваноф.
Одновременно с этим двери спальни распахнулись, и женщины набросились на свое потомство, собирая нас, как несмышленых котят, кого за шею, кого за шиворот, и утаскивая за собой в спальню. Мы с Альбертом избежали этой участи. Мама воззвала к отцу, и тетушка Филомена приказала Паскуале удалить Альберта. Мужчины пожимали плечами, боясь обидеть дядю Минго.
Из спальни доносились звуки ударов, воспитательных шлепков, и вопли возмущения и боли. Яростные женские крики пронизывали стены, как колючий ледяной ветер: эта шлюха, эта уличная девка, эта хулиганка…
Мужчины смущенно покашливали, но Минго и мисс Каваноф казались невозмутимыми. Они даже сели, в то время как тетушка Тереза вопила:
– Я перебью всю посуду, к которой она притронется!
– А я вырву ей глаза! – визжала Луиза.
Затем последовали нечеловеческий рев, топот шагов, дверь с грохотом распахнулась, и Луиза – со всклоченными волосами, в почти расстегнутой блузке и со щеткой для волос в руке – бросилась к мисс Каваноф. На ее пути встали папа и дядюшка Джулио.
– Я убью тебя, если ты сейчас же не уберешься отсюда! – орала она. – Я вышибу тебе мозги!
Женщина в ужасе скрылась за дядю Минго. Папа и дядюшка Джулио с трудом выпроводили Луизу назад в спальню. Щетка для волос была с хрустом сломана о голову Джулио. Они закрыли дверь и вернулись к столу. Дядюшка Джулио потирал свой череп. Челюсти дяди Минго были крепко сжаты, глаза полны негодования, но он все еще пытался улыбаться.
– Не беспокойся, дорогая, – говорил он женщине.
– Давай уйдем, – сказала она, – они ненавидят меня.
– Тебе здесь рады, – сказал Минго. – В доме моих братьев рады каждому гостю. Так ведь, Джулио?
– Да-а, – ответил Джулио, – полагаю, что так, Минго.
– Никто тебе здесь не рад! – закричала Филомена из спальни.
Губы мисс Каваноф задрожали, ее пальцы сжали шею. Казалось, она вот-вот закричит. Она заметила стакан с вином на столе и опорожнила его залпом. Потом села, положила локти на стол, скрестила руки, оглядела мужчин, обвела взором стены, посмотрела на свои колени и… встала.
– Нет, я не могу! – выдохнула она. – Нет, Минго, ничего не выйдет! Ничего!
Она бросилась в гостиную, схватила свое пальто и выбежала на улицу. Минго побежал за ней, призывая ее вернуться. Он догнал ее, когда она была уже за рулем машины. Наполовину просунувшись в салон, он тряс руками и, судя по всему, умолял ее остаться. Потом он отступил, и машина рванула прочь по улице.
К дому он шел, держа руки в карманах. На крыльце закурил сигарету. Две или три минуты стоял, присев на перила, и курил. Потом затушил сигарету и вошел в дом.
Мужчины за столом не отрывали взгляда от своих тарелок. В спальне было тихо. Минго сел и налил вина в стакан. Дядюшка Джулио тронул его за плечо.
– Извини за то, что так вышло, Минго.
– Заткнись, – ответил Минго.
Он обвел всех взглядом, горечь и страдание переполняли его глаза. Оставив его одного пить за большим столом, все вышли в гостиную, где разговаривали только шепотом. Минго задумчиво пил стакан за стаканом. Спустя некоторое время скрипнула дверь спальни, и бесшумно вошли женщины. Они подошли к столу и остановились в безмолвии. Их гнев рассеялся, и только нежность и жалость теперь исходила от них и укрывала Минго. Тетушка Тереза спустилась в подвал и вернулась с бутылкой бренди.
– Попробуй вот это, Минго. Я берегла его для…
Он налил и выпил. Тетушка Луиза отважно стояла рядом с ним и поглаживала его светлые волосы.
– Да, это тяжело, – говорила она. – Я знаю, это очень тяжело.
Он продолжал пить, ничего не говоря. Женщины несли свое дежурство над погибающей любовью. Скоро большая часть бренди была выпита, и голова бедолаги упала на стол. Они подняли его и перетащили в спальню, сняли башмаки, одежду и уложили в постель. Спал он тяжело, его тревожный сон то и дело сопровождался стонами. Тетушка Луиза поглаживала его лоб.
– Он еще молодой, – сказала она. – Все это пройдет.
Неожиданно он сел на кровати. Его глаза были красны и дики, невыносимая мука блуждала в них, сжатые кулаки побелели от напряжения. Все присутствующие – женщины у кровати, мужчины и мы – дети – замерли.
– Клито! – закричал он. – Ах, Клито, Клито, зачем ты так поступил со мной?!
На вздохе его глаза закатились, он откинулся на спину и снова забылся в своем беспокойном сне. Женщины опустили занавески, на цыпочках вышли из спальни и осторожно закрыли за собой дверь. Душераздирающий вопль Минго все еще звучал в наших ушах. Все смотрели на дядюшку Клито. Он стоял бледный и потерянный. Тетушка Роза – руки в боки – некоторое время испепеляла изверга своим взглядом, потом изогнулась и плюнула прямо ему в лицо. В тот же момент женщины стали яростно теснить его в угол.
– Ханжа! – кричала мама.
– Позорный сплетник! – голосила Филомена.
– Я вырву тебе глаза! – визжала Луиза.
Мужчины сдержали женский натиск и отвели перепуганного Клито к входной двери.
– Давай, – сказал ему папа, – вали отсюда, пока не поздно.
И с такой силой пихнул дядюшку Клито в раскрытую дверь, что парикмахер, потеряв равновесие, слетел с крыльца, рухнул в снег и некоторое время даже не мог встать. Потом он все-таки поднялся и пошел прочь.
После этого события мы больше не боялись дядюшки Клито – никто из нас. А когда надо было стричься, мама водила нас в парикмахерскую Джо – как раз напротив заведения позорного родственника.
Большой голод
Он слышал, как его мать в мягких шлепанцах поднимается по лестнице. Он уже час как бодрствовал, перелистывая Криминальные Комиксы, которые были запрещены для него, потому что мама считала их вредными для детей. Но Дэн Крейн на самом деле не мог читать, потому что ему едва исполнилось семь – отвратительный возраст, на два года младше брата Ника, который читал уже очень хорошо, мерзавец.
– Вставай, Дэнни, мальчик, – сказала миссис Крейн, появившись в дверях. – Завтрак готов.
Завтрак. У Дэна скрючило живот. Каждое утро одна и та же канитель – завтрак. Он не был голоден. Он лег в кровать с кульком слив и съел их все до единой, схоронив косточки за батареей. И вот она опять за свое – завтракать. Он лежал, уставившись в потолок, и очень серчая на мать.
– Ты слышишь меня, сынок?
– Хорошо, Мама.
– И помой лицо. И почисть ногти.
Эти указания были настолько низменными, что он даже не удостоил их ответа. Главное, и это становилось все более очевидным, что Дэн Крейн не мог больше выносить подобного надругательства. Завтрак. Помой лицо. Почисть ногти. Почисть зубы. Причеши волосы. Смени трусы. Повесь свитер как следует. Иди спать. Вставай. Не шуми. Говори. Помолчи. Двигайся. Открой рот. Покажи язык. Закрой рот. Целых семь лет Дэн Крейн стойко держался, семь лет – всю его жизнь – жизнь раба.
Стягивая покрывало, он с удовольствием констатировал сочные темные разводы грязи на пятках. Прими ванну. Пользуйся щеткой. А положим, он послал бы ее подальше? Тогда бы ему пришлось иметь дело со стариком. Ну и что? Хо! Он полностью держал его под контролем. У него были для этого свои способы: загадочная улыбка, невинный взгляд в пол, слеза к месту – все это безотказно расплавляло гнев отца.
У другой стены в комнате стояла кровать его брата. Покрывало заправлено, под подушкой – аккуратно сложенная пижама. Ник любил носить пижаму! С деланным безразличием он подошел к его кровати, выдернул пижаму и, удерживая ее на расстоянии вытянутой руки, презрительно ухмыльнулся.
Сейчас Ник был там, где и должен быть – в его надежном кулаке; во всей своей красе – такой очаровательный, такой умный, такой помощник матери, такой находчивый в любой компании. Умный мальчик собственной персоной. Пижама заплясала в воздухе под ударами Дэна Крейна. Потом пижама бросилась в контратаку, и Крейн, пошатнувшись, упал на пол. Ник одолевал его, и он с трудом переводил дыхание. Он катался по полу, пытаясь выбраться из-под противника. Наконец нечеловеческим усилием ему удалось оторвать от шеи душившие его руки и поворотить ход поединка. Теперь уже Ник был внизу, и его запрокинутое лицо принимало удары по губам и носу. Кровь брызнула из его ноздрей, а в глазах заполыхал ужас. Последний сокрушительный удар Крейна – и Ник бездыханно отвалился на сторону. Дэн Крейн ткнул указательным пальцем ему в глаз. Тот не шелохнулся. Он был мертв. Покачиваясь, Крейн встал и осмотрел собственные раны: кровоподтеки на лице, вывихнутые руки, разбитые губы. Он стоял, пошатываясь, тяжело дыша и не предлагая никаких объяснений, когда вошел шериф и принялся осматривать место зверского преступления.
– Ты убил его, Крейн, – сказал шериф. – Ты сделал из своего брата отбивную. Боже, какое побоище.
– Я вынужден был сделать это, шериф, – выдавил Крейн. – Или он – или я, выхода не было. Ты знаешь Ника, он поднял нож на меня.
Шериф выставил вперед указательный палец.
– Он был последним подонком, Дэн. Вся страна должна выразить тебе свою признательность.
Шериф исчез, и Дэн Крейн, выпятив грудь, пошагал голышом в ванную. Наступающий день обрел теперь, когда Ник был убит, новые праздничные краски. В окно он увидел яркое светлое утро, солнечные лучи отражались от белой штукатурки гаража и слепили глаза. Часы в ванной показывали восемь тридцать. Он внимательно вгляделся в положение стрелок. Ник всегда дразнил его за то, что он не знает никогда, сколько времени. Ха, – какая ерунда! Ну, без четверти двенадцать, или десять минут седьмого, или одиннадцать – какая разница!
С лестницы опять долетел ее голос:
– Дэниел Крейн. Ты слышишь меня? Завтрак!
– Ладно, ладно.
Он обмакнул угол мочалки в теплую воду, шаркнул ею по пяткам, потом плеснул водицы на лоб и щеки. Это была отвратительная процедура. Стиснув зубы, он утерся полотенцем. Зеркало подсказало ему, что причесываться нет нужды, все в порядке, волосы убраны и с лица, и с глаз. Может, торчат малость по бокам, ну и что из этого? Он осмотрел ногти. Дэн был докой по части чистых ногтей. Многолетние наблюдения привели его к заключению, что ногти бывают всегда двуцветные: розовые с серо-черной полоской по краю. Иногда, вопреки его волеизъявлению, мать уничтожала эту серо-черную окантовку. В эти драматические моменты Дэн голосил, как припадочный, уверенный в том, что у него из-под ногтей выдирают живое мясо.
Снизу заползал запах бекона, яиц, тостов с маслом и оладьей, и на мгновение это порадовало его. Но тут же он взял себя в руки, и представил себе тарелку с клейкими скользкими яйцами и беконом, и покрытые слизистым медом оладьи. Такая инверсия привела к желаемому эффекту. Вверх по пищеводу побежал прогорклый сок съеденных ночью слив. Его стошнило. Теперь он был болен, слишком болен для того, чтобы завтракать.
С горечью он очертил себе свою жалкую участь. В этом пропащем доме нет ни кукурузных хлопьев, ни йогуртов, ни мюслей – ничего из тех восхитительных вещей, которые показывают по ТВ. Его мать ничего не покупает в магазине, кроме всякой дряни. Эта дрянь, видите ли, сохраняет и укрепляет зубы. Неужели? Крейн усмехнулся и коснулся языком своих зубов, только на прошлой неделе запломбированных стоматологом. Через улицу жил Дэвид Калп, девяти лет, он не ел ничего, кроме попкорна на завтрак, и у него были большие, белые, абсолютно здоровые зубы.
Угрюмо и неохотно, проигнорировав приготовленные для него чистые трусы, свежие выглаженные джинсы, футболку и пару новых носков, он напялил старые вещи. Они подходили ему гораздо лучше, почти как собственная кожа, да и пахли его собственным запахом – запахом Дэна Крейна. Его вчерашняя футболка хранила в себе приятные воспоминания приключений под домом Дэвида, где они с другом в укромном уголке спрятали собранные на пляже ракушки. Кстати, преобладающим запахом, исходящим от Дэна Крейна, был запах моря, старого, уставшего от шторма моря. Его джинсы плотно, как парусина, облегали его ноги, жир и смола делали их очень похожими на сшитые из оленьей кожи штаны Даниэля Буна. Его носки были в меру эластичными, как использованная ветошь, с удобными и соответствующими большим пальцам отверстиями. Он знал, что мать будет ворчать по поводу его старых теннисных носков. Он поднес один к носу и понюхал. Ничего, кроме запаха ног, он не почувствовал. С невероятным усилием и стоном он натянул башмаки, шнурки которых были спутаны в такие замысловатые узлы, что ни одна мать на свете не смогла бы развязать их.
Он подумал, следует ли ему появляться в таком виде. Мать могла послать его обратно, но ведь могла и не послать. Стоило попробовать. Он медленно спускался по лестнице, скользя грудью по перилам. И тут он увидел внизу ее – свою двухлетнюю сестру Викторию, и его стало наполнять чувство опасности, так как она явно ждала брата. В ее огромных карих глазах таился подвох. Она была мукой всей его жизни, той единственной особой, которую он давно хотел растерзать на мелкие кусочки.
– Мир сейчас, Вики, – предупредил он. – Осторожнее. Я просто тебе говорю: будь осторожнее.
Она сидела на нижней ступеньке лестницы и улыбалась ему.
– Дэнни, – она засмеялась. – Дэнни!
Ее пухлые розовые пальчики тянулись к нему с любовью. Но Дэн Крейн знал ее только как хитрую и коварную женщину, которая сначала целует и тут же следом наносит удар. Хуже всего было то, что ему не дозволялось защищать себя. Старикан издавал великое множество приказов, большинство из которых можно было не выполнять, но выполнения одного он добивался всегда: никто не мог поднять руку на Викторию – даже если она проткнет тебе глаз, сломает палец или огреет тебя клюшкой для крокета. Она же, в свою очередь, постоянно все это проделывала, и более всего в отношении Дэна Крейна.
– Дэнни… – она обняла своей ручонкой его ногу.
Он почувствовал мягкость ее волос и запах ее утренней свежести, и ему стало вдруг стыдно, что он испытывал такое несправедливое презрение к ней. Ее губки цветочком продолжали лопотать его имя, а волшебные глазки смотрели на него с восхищением.
– Дорогая Вики, – пробормотал он. – Маленькая дорогуша моя.
Он сел на ступеньку рядом с ней. Она дотронулась до его лица и погладила его руку, мурлыкая от радости, что видит его снова. Ее абсолютная наивность очаровала его, и теперь он был в полной ее власти снова. Он обнял ее нежно и поцеловал вьющиеся на шее кудряшки.
– Целую, – попросила она. – Целую братика.
Подобно благоухающей розе, ее губы приближались к нему, и он закрыл глаза в предвосхищении наслаждения. Но демон ворвался в нее, и ее острые зубы, как клещи, вцепились в его нижнюю губу. С диким криком он выбросил вперед руки и грохнулся на лестницу, скатился вниз и, закрыв лицо руками, громко зарыдал.
– Виктория! – сказала мама. – Плохая девочка!
Это испугало ребенка, и она тоже начала плакать. Миссис Крейн наклонилась, чтобы осмотреть губу у сына. Дэн принялся рыдать пуще прежнего, потому как знал, что этот укус спасет его – ему не придется возвращаться наверх и переодеваться, и даже не надо будет есть завтрак. Все, что от него требовалось – это как можно громче реветь и страдать, пока его мать подозрительно обследует его и утешит.
Как избитый, он поплелся на кухню и грохнулся на скамью в уголке для завтрака. Сквозь слезы он разглядел бекон и яйца, овсянку, апельсиновый сок и стакан молока. Такого ему было не вынести. Новые потоки страданий хлынули из него, сотрясая все его тело.
– Пожалуйста, мама. Ох, мама, мама! Я умоляю тебя, мама, не проси меня съесть что-нибудь!
Она пригладила его грязные вихры. На пальцах остались песчинки и следы гудрона.
– Конечно, нет, Дэнни.
Он не сразу встал и выбежал вон. Он еще немножко повсхлипывал. Даже терзаемая теперь муками совести Вики была тронута его страданиями. Она проскользнула к нему и потерлась мокрой от слез щекой об его руку. Он хотел обнять ее, но передумал, вспомнив, на что она бывает способна. Тяжело вздохнув, он вышел из кухни, слегка покачиваясь, но не переигрывая особенно. И только на крыльце он сбросил маску страдания, и его глаза заблестели перспективами грядущего великого дня. Передразнивая мать, он издал несколько негромких гортанных звуков.
– Балда, – сказал он, усмехнувшись. – Какая балда.
Покачивающаяся у гаража фигура привлекла его внимание. Это был Джонни Штриблинг – сосед. Он был вооружен до зубов: ружье в руках, два, как у Джина Оутри, револьвера сорок пятого калибра на бедрах и резиновый тесак в зубах. Джон Штриблинг был заклятым врагом закона и порядка на Западе. Днем и ночью он шатался по округе, отстреливая констеблей, вырезая шерифов и устраивая засады пожарным. За две недели с начала летних каникул Штриблинг оставил страшный кровавый след убийств и диверсий. Его ружье во время налетов то и дело издавало звонкое – тдж! тдж! В случае попадания добавлялся еще щелчок языком.
Крейн сам немало преуспел в терроре. Ему хватило двух секунд, чтобы оценить ситуацию, и он тут же включился в действие. С изрыгающим искры ружьем в одной руке и шестизарядным, с позолоченной рукояткой, «Хоппи» в другой, он спрыгнул с крыльца и отсалютовал соседу.
– Ты на кого, Джонни?
Такая фамильярность раздосадовала Штриблинга, вернув его неожиданно к мерзкой реальности южно-калифорнийского двора с его натянутыми от забора к забору веревками с застиранным бельем Крейнов.
– А тебе-то что?
– Хочешь, я буду с тобой играть?
Штриблинг внимательно осмотрел его.
– Хочешь быть Законом?
– Не. Я Малыш Билли.
– Нет, это не для тебя. Ты должен быть Законом.
– И быть убитым! Не выйдет.
– Значит, и игры не выйдет.
Джон Штриблинг поплелся к воротам, клацая своей артиллерией.
– Подожди, Джонни. Я буду играть.
По-бандитски развернувшись и зверски усмехнувшись, Штриблинг прохрипел:
– Я только что грохнул банк в Сан-Хуане. Завалил трех. Раненых не считал. Туча копов гонится за мной. Ты – один из них. Досчитай до ста и лови.
Дэн Крейн не мог считать до ста. После девятнадцати он просто молол всякий вздор, но он знал примерно, сколько сто по времени. Роль Закона доставляла ему очень мало удовольствия. Закон – это дрянь. Закон – это старые люди, такие, как его мать и отец, как учитель, который постоянно талдычит ему, что надо делать, что кушать и когда это надо кушать. Закон укладывает тебя в постель и заставляет вставать утром. Закон моет твое лицо, сует мочалку в уши, гонит тебя в школу и в церковь. Закон обижает тебя, вызывает боль в животе и оскорбляет. И в довершение всего, Закон уничтожает тех, кто вне закона. С тяжелым сердцем он стоял, не желая принимать участия в победных акциях персонажа, которого он должен был представлять.
Сплюнув, он выдвинулся на обнаружение противника. Он знал, где заныкался Штриблинг, так как они играли в эту игру уже сто раз. Штриблинг должен был быть через пять домов вниз по аллее, среди больших ветвей инжирового дерева Бекера. Ему следовало только обогнуть дом, войти во двор с улицы, тихо на цыпочках пробраться по дороге к гаражу – и накрыть Штриблинга из своего дробовика. Но Крейн был подавлен выпавшей незавидной участью, и инстинкт охотника покинул его. На негнущихся ногах он протопал вниз по аллее, не сделав ничего для маскировки, с сердцем, готовым почти с радостью принять пулю преступника.
– Тдж! Тдж! – долетели звуки смертельного огня с инжирового дерева.
Крейн пошатнулся, режущая боль обожгла сердце. Дробовик выскользнул из рук, и он завалился, как пьяный, на землю. С победным воем Штриблинг спрыгнул с дерева и подскочил к нему. Крейну было очень больно. Пуля прошла насквозь, и из раны хлестала кровь. Слабеющей рукой он потянулся к своему шестизарядному револьверу. С дьявольской улыбкой предвкушаемого наслаждения Штриблинг ждал, когда Крейн коснется оружия. Он дал ему достать его, и тут же набросился сверху с резиновым тесаком. Удары были жестокими и беспощадными. Тело Крейна забилось в предсмертной агонии и затихло. Он умер. Игра была окончена. Пора начинать все сначала.
Крейн погибал еще два раза в это утро. Как и у Хопалона Кэссиди, его сердце было вырезано и брошено на съедение аризонским шакалам. А кончина его в роли Лона Рэйнджера была еще более умопомрачительной. Штриблинг привязал его к дереву и прострелил ему оба глаза, а когда и после этого он все-таки не выдал места хранения партии золота, бандит резиновым ножом отрезал ему нос. И хотя Крейн бился в конвульсиях в луже собственной крови, задыхаясь и глухо завывая, но он унес тайну с собой в вечность.
Убийства продолжались бы все утро, если бы они не нашли бутылки из-под эля. Десять бутылок в джутовом мешке. Они были спрятаны кем-то в высокой траве в аллее. Абсолютно все целые, по пять центов за штуку. Ребята погрузили трофеи на тележку и потащили на приемный пункт. Когда они вышли оттуда – каждый с четвертаком, они были богачами, щедрой рукой разбрасывающими деньги на жвачку и шоколадные плитки в ближайшей кондитерской.
Это была задушевная, секретная оргия. Забравшись на крышу гаража Крейна, они легли на животы и по-свински безмолвно пожирали приобретенное. Горячее солнце плавило шоколад, им приходилось зубами соскабливать его с обертки и облизывать измазанные пальцы. Потом они перевернулись на животы и принялись за восхитительную теплую жвачку, медленно разжевывая ее, закрыв глаза от слепящего солнца и наслаждаясь божественным вкусом стекающего по пищеводу сока.
– Дэнни!
Это мать звала его с заднего крыльца.
– Чио ты хошишь?
– Обед готов.
Крейн застонал. Одна только мысль об обеде сделала жвачку горькой. Он сплюнул ее с отвращением. Они сползли к краю крыши, перебрались на забор и спустились на землю. Штриблинг ушел к себе. Крейн открыл кран на шланге, омыл губы струей воды и утерся рукавом. Он посмотрел на дверь кухни и задумался на мгновение. Скорее всего, жирный томатный суп, сэндвич и стакан молока. Выхода не было, только мятеж. Настроение было паршивым, в животе – тяжесть. С угрюмым видом он вошел на кухню. Томатный суп, молоко и сэндвич. Ник уже заканчивал. Он выпил залпом молоко и откинулся на стуле.







