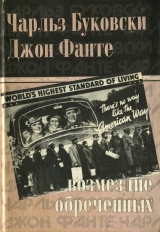
Текст книги "Из книги «Большой голод» рассказы 1932–1959"
Автор книги: Джон Фанте
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Мамин сон
Мама Андрилли готовит за кухонным столом ужин. Горячее белое солнце Долины Сакраменто врывается в комнату через южные окна. Каскады солнечного потока рассыпаются по линолеуму на полу, где спят Папины кошки – Филомина и Констанца. Обе они мужского пола, но Папа признает только один пол у кошек.
Не прошло еще и часа, как он пришел с работы. Папе сейчас семьдесят, и здоровье уже не то, но если бы не слабеющее зрение, он бы до сих пор клал камни и кирпичи так же споро, как и молодые каменщики. Но годы – несмотря на Папины яростные богохульные опровержения – берут свое, и Мама уже оставила мечту о спокойной тихой старости.
Когда мужчина достигает семидесяти, думаете, он становится сдержаннее и спокойнее? Ничего подобного: последние десять лет со свадьбами трех сыновей и их уходом из дома были наихудшими. Теперь Папа никогда не смягчается и не становится ласковым. До своего последнего дыхания он будет беситься и орать, и Маме придется терпеть все это до самого конца. Так продолжается уже сорок лет. Сейчас Маме шестьдесят восемь, волосы уже совсем белы, и частенько ее мучают ужасные боли в слабеющих руках. У Папы же по-прежнему рыжие усы, и седина только слегка коснулась его висков. Он до сих пор неистово молотит себя в грудь, призывая Господа сразить его наповал и забрать из этой каторжной долины. Когда-то, когда Мама была еще молодой и сильной, она находила успокоение в мечтах, что оставит своего шумного мужа, как только вырастут дети. Надежда была на крохотное ювелирное украшение, которое она хранила в глубоком секрете. Но оно где-то затерялось, спрятанное в каком-то чайнике для заварки, и Мама забыла о нем.
На столе стояла чаша с крупными плодами сочного зеленого перца. Мама нарезала их ломтиками для жарки и вспоминала сон прошедшей ночи. Папа спал плохо, его мучили почки, заставляя вставать из кровати несколько раз. Ему всегда недоставало перца в его пище. Папа был человеком простонародной ортодоксальной медицины с доисторическими понятиями о диете. Рыба, по его мнению, нужна была для мозгов, сыр для зубов, баклажаны для крови, бобы для кишечника, цикорий для нервов, чеснок для чистоты, оливковое масло для силы, а перец для почек. Без этого человек очень быстро дряхлеет и старится.
Уже неделю он безуспешно требовал перца. И вот – результат. Каждый раз, возвращаясь измученным в кровать, он обвинял ее в стремлении сжить его со свету, умышленно не добавляя перца в пищу, чтобы его почки вконец отказали, как отказали они у кузена Рокко в возрасте тридцати пяти, поставив крест на карьере человека, который делал лучшие надгробные памятники в Калифорнии.
Потом пришел сон, урывочный, просочившийся сквозь ворчание ее мужа. Мама увидела себя обнаженной на хайвэе-99. На большой скорости приближался автомобиль. За рулем сидел ее старший сын – Ник. Рядом – его жена Хилд. Она истерично хохотала, уткнувшись носом в какую-то кружевную тряпицу. Из-за того, что Мама была нага и ей было стыдно, она не разглядела в ужасе, что тряпица была на самом деле стихарем алтарного мальчика. Хилд выкинула стихарь из проносившейся машины, Ник бешено засигналил, и стихарь приземлился рядом с Мамой. В тот же момент машина скрылась за поворотом, и до нее донесся крик Ника: «Мама, Мама!»
Неожиданно осознав свою наготу и испугавшись, Мама бросилась прочь в поле, прикрываясь стихарем. Ее бедра предательски светились в лучах лунного света. Скоро она достигла кладбища, где заметила занятых работой служителей похоронной службы.
В опускаемом в могилу открытом гробу она увидела своего сына Ника. Он стоял на коленях перед пишущей машинкой и исступленно отстукивал на желтом бланке Вестрен Юнион телеграмму. Сообщение гласило: Они не дали мне отпущения грехов. Мама закричала, призывая священника, но плакальщики у могилы так свирепо глянули на нее, что она снова осознала свою наготу и от стыда бросилась прочь. Ее ягодицы сверкали как бриллианты в лунном свете. На этом сон заканчивался.
Мама дорезала остатки перца и пыталась осмыслить значение сна. Она была одинокой женщиной, и сны озадачивали ее. Она не верила в сны с тех пор, как церковь запретила это, но желание разгадать их предзнаменование все-таки осталось.
Ника за пишущей машинкой она понимала, так как ее сын был писателем. Стихарь означал юность Ника, когда он был алтарным певчим. Отвратительный и кощунственный спектакль ее невестки, сморкающейся в стихарь, символизировал тот факт, что Ник женился на протестантке. Относительно похорон Мама не смела даже строить догадок. Это могло означать, что Ник умер там – в Лос-Анджелесе, – так же, как в свое время сны с гробами стали предвестниками смерти ее отца и матери, ее брата Джино и ее сестры Кати. А вот телеграмма была, без сомнения, дурной вестью. Мама всегда страшилась телеграмм во сне. Но наиболее шокирующей частью сна была ее собственная нагота. Последние лет десять Мама в своих сновидениях повсюду разгуливала, не прикрытая ни единым лоскутом одежды, и это было уже совершенно из ряда вон. Одно время она предполагала, что это означает наступление простуды. Она укрепляла себя аспирином и надевала свой самый теплый свитер, но простуда никогда не материализовалась, и с каждым сном ее потерянность и конфуз набирали все большую силу.
Перец был дорезан и готов к жарке. Мама поставила сковороду Кати на плиту и зажгла газ. Сковорода Кати не была ни сковородой, ни принадлежала Кати никогда. Это была тяжелая чугунная кастрюля с большой ручкой, которую сестра Мамы – Кати – сорок лет назад подарила ей на свадьбу, и все это время она именовалась не иначе как сковородка Кати. В Мамином хозяйстве было полно вещей, характеризуемых подобным образом. За долгие годы самопожертвования из жизни Мамы Андрилли ушло чувство стяжательства, и у многих знакомых часто возникало обманчивое впечатление, что все здесь позаимствовано у кого-нибудь.
На самом же деле все вещи в доме были ее – большинство – подарками ее сыновей, братьев и сестер. На этих подарках не было никаких надписей, они целиком и полностью принадлежали ей, но Мама Андрилли давно потеряла чувство собственности, и поэтому в их маленьком трехкомнатном бунгало обретались простыни Стеллы, радио Ника, полотенца Майка, лампа Ральфа, кофейник Розы, одежда Тони, туфли Беттины и купальный халат Вито. Были здесь также коврики Анджело, чемодан Майка, скатерть Нетти и посуда Джо. Игнорировалось только то, что принадлежало Папе, за исключением, конечно, Папиного завтрака, Папиного белья и Папиного овощного рагу. Но это были уже и не вещи как таковые, это были объекты, входящие в сферу Маминых обязанностей.
Сейчас это был Папин перец. Он должен был быть приготовлен с исключительной аккуратностью. И хотя Мама всегда готовила все сама и была искушена в Неаполитанской кухне, Папа неизменно вносил поправки в рецептуру и процесс приготовления, дабы вкус продукта соответствовал его абруцианскому происхождению. Разница всегда заключалась в количестве. Там, где Мама использовала один зубок чеснока, он требовал два.
Опустив нарезанные дольки перца в кипящее на сковороде Кати оливковое масло, Мама с превеликой осторожностью добавила сладкого базилика и розмарина. На протяжении всех сорока лет Папа с угрюмой подозрительностью контролировал процесс приготовления его женой пищи, дабы она не состряпала какую-нибудь несъедобную бурду, чтобы унизить его.
Сбрасывание перца на сковороду сопровождалось яростным шипением масла. Прикрыв лицо рукой, она обратила внимание, что дремавшие коты вскочили, изогнули дугообразно спины и зашипели как змеи. Филомина и Констанца знали, что Мама плоховато слышит, и всегда занимали подобные агрессивные позы, когда кто-нибудь приближался к входной двери.
На сей раз это был человек из Вестерн Юнион. Его появление было подобно явлению Матушки Смерти с косой. Мама уставилась на него широко распахнутыми глазами и побелела как снег.
– Телеграмма мистеру Андрилли, – сказал он.
Он открыл дверь и протянул ей желтый конверт, но она не решалась взять его, ее руки бессильно обвисли пред этим посланием, символизирующем смерть кто-нибудь из родни. Воспоминания обо всех подобных телеграммах в прошлом парализовали ее руки, и она так и стояла с вытаращенными глазами, в то время как переполошившиеся коты терлись об ее ноги и шипением выказывали всю свою ненависть человеку на крыльце. В конце концов, он всунул послание ей в руки, и вышел.
В его сумке она заметила несколько конвертов, и когда он уходил, она подумала о том, как много еще, кроме Ника, пожаловало сегодня к Господу. Ник! Ее Никола, первенец! Теперь она понимала значение сна этой ночи. Ее сын умер! Она доплелась до кухонного стола и зарыдала тем плачем, который способна вызвать только смерть. Смятая телеграмма упала, как мячик на пол, и коты стали гонять ее по комнате.
Тридцать минут спустя Папа Андрилли вошел во двор из прилегающей аллеи и тут же ощутил запах горелого перца. На нем была валяная войлочная шляпа, коричневые штаны и рубашка. Все перемазано серым известковым раствором, поскольку он только что слез с лесов, где вел все утро кладку. Его ноздри сердито затрепетали от запаха гари. Уже ощущая во рту вкус своего горелого обеда, он пихнул с треском ворота и прогрохотал по ступеням крыльца.
В кухне было черным-черно от дыма. За столом сидела его всхлипывающая жена, не замечающая удушливого дыма. Он поспешно потушил пламя под кастрюлей. Перец почернел и свернулся, но трагическое лицо Мамы Андрилли сдержало приступ его гнева.
– Что случилось? – спросил он.
Ее подбородок задрожал, а ливень, хлынувший из глаз, заставил его испугаться. Его глаза тоже напряглись, но он взял себя в руки и опустился на стул напротив нее. Сидя в удушливом мареве, он барабанил пальцами по столу и готовился к самому худшему.
– Что такое, mia moglia? – снова спросил он. – Скажи своему мужу, что за беда?
– Наш Никола.
Это прозвучало зловеще. В несчастье он всегда был Николой, в любом другом случае просто Ник.
– И что он на этот раз натворил?
– Вон – телеграмма. Он умер.
Папа поискал телеграмму, но потрясение от услышанного ослепило его потоком слез. Комок смятого уведомления катался по гладкому полу, преследуемый неугомонными котами. Он наклонился, чтобы поднять его, но парализованный нахлынувшей болью, так и остался сидеть напротив жены. Когда очередной приступ рыданий охватил жену, он стиснул челюсти и решил взять себя в руки, поскольку, не взирая ни на что, он и в этот момент считал, что рыдания – это для женщин.
Однако невыносимая боль в груди не оставила его даже тогда, когда он настежь открыл окна, чтобы проветрить комнату. Страшная телеграмма каталась резво по полу, коты хватали ее и хрипели друг на друга. Мама Андрилли вздрагивала, укрыв лицо руками. Папа смотрел на нее с участием, искренне желая утешить. Но итальянцу Андрилли были неведомы сантименты – он никогда не практиковался в нежности.
Пристыженный своей беспомощностью, он открыл холодильник и вытащил графин красного вина. Пил он быстро и отчаянно, но когда вспомнил лицо своего сына, его ладные руки и ноги, холодное вино встало поперек горла. Другого, такого как Ник, не было. Он был первым и любимым из его сыновей, и так преждевременно ушел. На нем даже лежала печать гения, настоящего писателя – с его книгами, дикими идеями и безрассудными тратами денег. Папа Андрилли не все одобрял в книгах своего сына, рассказы об их семье и друзьях, в частности. Его приводила в бешенство тема одной книги Ника, рассказ о неверии, обуявшем одного каменщика и его жену. И несмотря на то, что рассказ был довольно правдивым, он разорвал книгу пополам и сжег, и даже хотел возбудить уголовное дело против своего сына. Но все это было в прошлом. Все было прощено сейчас, прощено и забыто. Плохо ли, хорошо ли, но не каждому дано быть увековеченным в книгах своих сыновей.
К тому же смерть Ника безвозвратно разрушила одно из затаенных намерений последних дней итальянца Андрилли. Вспомнив об этом, он вышел в гостиную и вытащил из своего стола папку с планами дома. Он чертил эти наброски карандашом на скрученных в рулоны листках рисовальной бумаги. Он поставил графин с вином на стол и развернул планы. На них четкими черными линиями была вычерчена схема будущего дома для Ника и его жены. Неделями в редкие свободные минуты он работал над этими планами, надеясь показать их сыну, когда тот приедет в гости в Сакраменто.
Папа скрупулезно просмотрел их и горько всхлипнул. Из кухни доносились жалостливые стоны его жены. Выпив залпом полграфина, Папа зарыдал в голос безо всякого стеснения. Но нарастающее возмущение пересилило его горе. Это несправедливо, что Ник должен был умереть таким молодым! Ни один человек не должен умирать в тридцать семь, даже плохой человек, а Ник был хорошим! С воздетыми кулаками он возопил к Богу и потребовал объяснений этой ужасной трагедии. Его изъеденные известкой пальцы впились в чертежи, разорвали их на куски и раскидали в разные стороны.
Со стороны аллеи послышались чихание и фырканье мотора. Только одна машина в Сакраменто производила такой шум – машина его сына Тони.
Он был на два года моложе Ника, и его темперамент полностью соответствовал его рыжему цвету волос. Он тоже был каменщиком, работал подмастерьем у отца. Они вместе занимались одним делом, что делало их партнерство взрывоопасным, ибо даже малейшая загвоздка становилась неразрешимой проблемой. В отличие от Ника или Вито, Тони всегда стоял насмерть в спорах с Папой, что частенько приводило к кулачным боестолкновениям. Несмотря на свои семьдесят, Папа достойно противостоял 35–летнему сыну, правда, как правило, не без помощи лопаты или мастерка.
Тони женился в семнадцать и вскоре развелся. Это стало шаблоном его жизни: сейчас он жил уже с пятой женой. Мужчина неописуемой ревности, неверный ни одной из своих жен, он упорно работал, но никогда не был удовлетворен исполненным. Он всегда нуждался в деньгах, но его честность и прямота полностью исключали занятие торговлей, где шустрость и хитрость являются залогом успеха.
Тони и его последняя жена жили в отеле неподалеку, потому что Тони всегда стремился селиться как можно ближе к тому месту, где кашеварит его мать. Его страсть к итальянской пище, на которой он вырос, приводила его домой по крайней мере на одну трапезу в день, но Мама Андрилли никогда не знала, когда он придет, и его страшно раздражало, когда она спрашивала об этом.
Когда Тони открыл дверь в кухню, Мама издала такой горестный вопль, что тот просто остолбенел в дверном проеме. Она потянулась к нему, ее волосы расплелись, лицо вспухло от слез. С неистовой силой она вцепилась в него, обвила его шею, и ее измученные губы покрыли поцелуями его лицо. Он пытался отстраниться и узнать причины ее истерики. Крича и поскальзываясь на скользком линолеуме, он сумел-таки высвободиться из ее объятий.
– Что случилось?! – завопил он. Тут он унюхал запах сгоревшего перца и увидел, что комната до сих пор еще наполнена дымом.
– Ради Бога, что тут происходит?!
Неожиданно Мама обмякла и повисла у него на руках. Он осторожно усадил ее обратно на стул, подул ей в лицо и помахал, как веером, рукой. Ее глаза были закрыты, подбородок опустился на грудь.
– Мама, – взмолился он, – Ну, Мама, ну, пожалуйста!
Она открыла глаза, и снова начала плакать. Из гостиной приковылял Папа. С налитыми кровью глазами он прислонился к дверному косяку. Графин с вином в руке его был уже почти пуст.
– Ах, вот оно что! – заключил Тони.
Мгновенно он пересек комнату, схватил Папу за шиворот и затряс, что было мочи.
– Что ты сделал моей матери?! – заорал он. – Ты, алкаш, грозный старикан!
Это задело Папу. Он закрыл глаза и тихо заплакал. Тони опешил. Ошеломленно он переводил взор с одного родителя на другого. Недоразумение переполнило чашу его терпения. Он закусил себе большой палец и двинул головой о косяк, сначала виском, потом челюстью, так что левая часть его лица стала пурпурной. Угомонившись, он повалился на колени перед Мамой Андрилли и тронул ее нежно за руку.
– Скажи мне, Мама, что случилось?
Она сидела, тяжело дыша и не в состоянии говорить.
– Это Ник, – вмешался Папа, – твой родной брат.
– Он болен?
Мама распростерлась по столу и опять зарыдала. Губы Папы задрожали, и он не смог произнести больше ни слова. Тони ждал, когда Мама успокоится. Она скрестила руки на груди, подняла глаза к небесам и заговорила, тщательно взвешивая каждое слово.
– Этой ночью у меня был сон, – начала она. – Там был Ник, в гробу, с его пишущей машинкой…
Тони взмыл на носки ботинок, закусил большой палец и снова стал истязать себя.
– Сны! – кричал он. – Опять сны! Какое мне дело до твоих снов?! Я хочу знать, что произошло! С Ником все в порядке?! Он жив, или мертв, или в тюрьме, или что?!
Но Мама продолжила все так же отрешенно и методично.
– А потом пришла телеграмма.
– Телеграмма? Какая телеграмма?
Все посмотрели вокруг. Телеграммы нигде не было. Тони опустился на колени и заглянул под печь. Один из котов играл с измочаленным посланием. Тони откинул кота прочь и подобрал скомканный желтый комок.
– Во! – изумился он. – Да она даже не распечатана!
– Не надо, Тони, – взмолилась Мама, – Ради всего святого, не читай ее!
Тони вскрыл конверт и прочитал послание вслух. Он прочел его сосредоточенно, гневно и с отвращением:
– Приезжаем завтра. Готовьте равиоли. Любим и целуем. Ник.
На мгновение повисла тишина в комнате. Затем Мама отбросила руки и голову назад, и из самой глубины ее души вырвался долгий пронзительный вопль. Даже коты опешили, их спины выгнулись.
– Спасибо тебе, Господи! – вскричала Мама. – Благодарю тебя, Благословенный Боже, за это небесное чудо!
Папа вздохнул с облегчением и улыбнулся тоже с благодарностью. Отвращение Тони было невыразимым. В изнеможении он свалился на стул и стал тягать себя за свои рыжие волосы. Мамино слегка припухшее от слез лицо переполняла радость. Глянув на нее, Тони закатил глаза, как от подкатывающей тошноты.
– Приготовь мне что-нибудь поесть, – сказал он.
Папа Андрилли допил вино и взялся перечитывать телеграмму. Его глаза щурились от яркого солнца, а щеки и нос, по мере того, как он постепенно наливался яростью, становились пунцовыми.
– Он сумасшедший! – выпалил он, смяв телеграмму. – У него никогда не было мозгов!
– В чем теперь-то дело? – спросил Тони.
– В нем! – гаркнул Папа, размахивая телеграммой. – Пишет книжки, пишет телеграммы, пугает людей до смерти! Что он о себе думает?! Кто он такой вообще, чтобы слать телеграммы?!
– А что такого?
Папа подошел к окну и уставился на инжировое дерево с зелеными чуть больше желудей плодами. Вино быстро делало свое дело на жаре. Он тряхнул головой в недоумении.
– Что творится в этом мире? – обратился он к инжировому дереву. – Телеграммы, войны, гамбургеры по восемьдесят центов за фунт. Когда я был мальчиком, я работал за одну лиру в неделю. Я никогда не получал никаких телеграмм в то время. И сам никому не посылал. Одну лиру в неделю я получал.
– Последний раз это была одна лира в день, – поправил Тони.
– Давай выпьем по стаканчику, – предложил Папа.
Он открыл люк около печи, и холодный затхлый воздух из подвала проник в комнату. Он спустился вниз по ступенькам, и Тони услышал, как забулькало вино из крана. Через мгновение Папа возвратился, рубиново-красные капли вина сверкали на графине.
Они пили молча, отец и сын. Мама положила новую партию перца на сковороду Кати, и аромат чеснока, розмарина и оливкового масла наполнил кухню. Папа достал круглую голову овечьего сыра из холодильника и нарезал толстых ломтей домашнего хлеба. Они сели и пили в тишине, думая о Нике.
Плохая женщина
Мы ужинали, когда пожаловал дядюшка Клито. На улице была метель. Он снял калоши, подышал на замерзшие руки и вошел в гостиную.
Папа предложил ему спагетти. Вежливо отказавшись, он сел на стул и обвел внимательным взглядом стол. Все было тут же запротоколировано его зорким глазом: и толщина намазанного на хлеб масла, и количество выпитого папой вина, и бледность томатного соуса. Мама машинально одернула блузку и поправила волосы. Надо было быть очень осторожным в присутствии дядюшки Клито. У него был талант во всем обнаруживать непорядок. Мы – дети – попрятали под стол руки, чтобы он не заметил грязь под нашими давно не стрижеными ногтями.
Дядюшка Клито был парикмахером. Он был старшим братом мамы и единственным, рожденным в Италии. Его салон считался лучшим в Денверской Маленькой Италии. Говорил он на ломаном английском и, будучи человеком состоятельным, оставался все-таки холостяком, оправдывая это тем, что жена ему не по карману.
Все боялись его. Он мог диагностировать непорядок по любому пустяковому симптому. Когда мы отправлялись к нему на стрижку, мама заставляла нас надевать воскресную одежду. Это повелось с тех пор, как однажды он, увидев мои изношенные ботинки, пришел к заключению, что папа опять просаживает деньги в покер. И он не ошибся. Мамины братья и сестры осадили наш дом, требуя ответа – действительно ли папа перестал заботиться о нас?
Проходя мимо салона дядюшки Клито на Осэдж-стрит, мы должны были обязательно засвидетельствовать ему, работающему за первым от окна стулом, свое почтение. И на это были веские основания. Как-то раз тетушка Тереза, не подав приветственного знака рукой и не глядя в его сторону, прошла мимо и перешла улицу. Незамедлительно последовал звонок дядюшке Джулио, ее мужу. Джулио закрыл свою мясную лавку, и встретился с Клито у парикмахерской. Вместе они двинули вниз по Осэдж, заглядывая во все бары и кафе. И конечно, у Зукаса они накрыли Терезу за выпивкой с букмекером Тони Монгоном. Тетушка Тереза снова играла на скачках. Джулио вытащил ее на улицу, отхлестал по щекам и отправил домой на такси. Позже дядюшка Клито, хитро улыбаясь, объяснял всем, как он по походке Терезы, ее нервозности и, конечно, по тому, что она не помахала ему рукой, сразу вычислил, что она опять играет на скачках.
И вот теперь дядюшка Клито, преодолев метель, оказался у нас, чтобы что-то поведать нам.
– Как дела? – спросил папа.
Дядюшка пожал плечами. Потом он кивнул на нас – детей, давая понять, что он хотел бы, чтобы мы покинули комнату. Мы вышли с презрением. Нам-то что! Самое большее, что мы получали от этого старого скряги – это кальсоны, носки и прочий хлам на Рождество. Мы протопали на кухню, и папа прикрыл дверь за нами. Мы тут же привалились к ней, прижавшись ушами к щели. Дядюшка Клито заговорил.
– Кто-нибудь видеть Минго последние несколько дней?
– Он не появлялся здесь, – ответил папа.
Минго был наш любимый дядя. Младший брат мамы, самый знаменитый член семьи – он играл в Денверском Симфоническом Оркестре. На Рождество он дарил нам воздушные ружья, электрические поезда, бейсбольные биты и санки.
– Очень скоро Минго станет жениться, чтобы иметь жену, – сказал Клито.
– Минго? – засомневался папа.
– Ты подожди, ты увидишь.
Через замочную скважину я видел загадочную улыбку дядюшки. Лицо его светилось самодовольством.
– На ком он женится? – спросила мама.
– На какой-нибудь путане, наверняка, – ответил дядюшка на итальянском. – Какой-нибудь шлюха или такой же.
– Откуда ты знаешь?
– Я знаю много вещей, – он улыбнулся. – Много, много вещей.
Мама и папа замолчали, остерегаясь его мудрости. Папа отпил вина. Слышно было, как оно булькает у него по пищеводу.
– Я рада, что Минго женится, – сказала мама. – Он так одинок, живя сам по себе в этом ужасном отеле «Рим».
– Одинок? – усмехнулся дядюшка Клито. – Живет совсем сам по себе? – он кивнул. – Минго не так совсем одинок, как вы думать. Этот отель «Рим» – она всего в полквартала от моя парикмахерская. Я вижу вещи. Я ничего не говорю, но я вижу, что куда идет.
– Что ты видишь?
– Я вижу кое-что, у нее рыжие волосы.
Мама хлопнула по столу.
– Клито, ты мне надоел уже! Ты болтун!
Клито прижал обе руки к сердцу.
– Это потому, что я болтун, я хочу, чтобы мой брат женился на путана? Потому, что я болтун, она такая женщина, которая бегать по номерам Фламинго? Ох, нет! Это потому, что я любить мой маленький брат Минго. Я – парикмахер. Они приходят для стрижки – четыре девушка, одна женщина. Я ничего не говорю, я режу волосы, они дают деньги. Но когда эта женщина хочет жениться мой маленький брат Минго, я не болтун! Я защищать Минго!
– Минго не поженится на такой женщине, – сказал папа. – У него вкус лучше.
– Минго – сумасшедший. Он большой артист.
– Не такой уж и сумасшедший, – ответил папа. – Минго просто молодой. Водится со всякими. Ну, это его дело.
Дядюшка Клито опять загадочно улыбнулся.
– Никто не покупать бриллиантовое кольцо для всяких с рыжая голова.
– Что?! – воскликнула мама.
Клито сложил свои руки на груди и сощурил глаза, как кот.
– Может быть, кольцо предназначено кому-нибудь другому, – высказал предположение папа.
Этот скептицизм задел Клито.
– Я разговаривать с Фрэнк Палладино. Он говорил все. Это кольцо, она для рыжая голова.
Этого довода нельзя было оспорить. Палладино держал ювелирный магазин в нескольких шагах от парикмахерской.
– Он не может жениться на такой женщине, – сказала мама. – Я ему не позволю!
– Слишком поздно, – улыбнулся Клито. – Птичка вылетел из клетка…
Клито покинул нас и поставил в известность остальную часть нашей родни. Весь следующий день мама сидела на телефоне. В обед она делилась с отцом деталями происходящего. Тетушка Роза, – жена Аттилио, была в прострации от огорчения. Тетушка Филомена была настолько поражена всем, что не смогла даже говорить ни о чем – факт сам по себе иронический, потому что они с мамой беседовали около часа. Тетушка Тереза желала знать, почему Минго не хочет жениться на красивой, чистокровной итальянской девушке, как все его братья. Тетушка Луиза грозилась выцарапать глаза у женщины Минго, как только ее увидит.
Следующие три дня вся наша родня пребывала в состоянии массового психоза. Тетушка Тереза приходила окропить слезами мамино плечо. Мама и тетушка Луиза ходили в церковь и молились, чтобы Господь наставил Минго на путь истинный. Тетушка Филомена тоже приходила к нам. Она завалилась на кушетку и причитала. Мама сидела рядом, взяв ее за руки, и плакала. Папа вызвался сходить в Номера Фламинго – поговорить с женщиной, которая устроила весь этот переполох, но мама схватила его за подтяжки и закричала:
– Не сметь! Только через мой труп!
Через три дня к нам снова пожаловал Клито. Он ходил в полицию и познакомился с досье рыжеголовой женщины. Стали известны ужасные факты: ее звали Джоан Каваноф; тридцать два года; несколько лет уже под наблюдением полиции; дважды содержалась под арестом. Настоящее имя – Мерседес Лопез.
– Мексиканка, что ли? – спросил папа.
– Нет, – сказал Клито. – Португалка.
– Португалка? – озадачился папа. – Хм-м. Это плохо.
– Церковь не допустит этого, – возмутилась мама. – Его заставят пожениться на протестантке.
– Если она португалка, то, возможно, она тоже католичка, – сказал папа.
– Эта женщина – католичка?! – воскликнула мама. – Никогда в жизни!
Тут папа вдруг вышел из себя. Может быть, потому, что он всегда не любил своего шурина, может быть, потому, что он ненавидел дядюшку Клито, а может быть, потому, что он очень любил дядюшку Минго, с которым они вместе рыбачили. Как бы там ни было, папа встал и, замолотив кулаками по столу так, что запрыгали тарелки, закричал в негодовании:
– Мне без разницы – мексиканка, американка, португалка, католичка, протестантка! Абсолютно без разницы! Человек должен сам строить свою судьбу! Оставьте его в покое! Может быть, он любит эту женщину! Может, ему наплевать, кто она такая! Может быть, он хочет забрать ее из Номеров Фламинго и дать ей дом. Вы не подумали об этом?!
Клито посмотрел на маму с печальной улыбкой. Наконец-то папа был разоблачен, наконец-то он выявил грязный либерализм своего кредо. Обессиленный папа сел и жадно глотнул вина. Клито задумчиво смотрел на маму, на лице его была печаль. Потом он встал со вздохом и вышел. Никто не пошелохнулся и не проронил ни слова.
Папа оставался за столом. Мама мыла тарелки, пронзительно и методично гремя ими, чтобы показать, как ей стыдно за своего мужа. Три часа папа сидел безмолвно и пил, изредка покручивая стакан в руке. Два раза он ходил в подвал, чтобы наполнить графин вином. Когда он отправился в постель, его покачивало. Но не слушались только ноги. Сам он был трезв и только сильно подавлен и грустен.
На следующий вечер Клито прискакал снова. Стоя посреди гостиной и держа шляпу в руках, он сообщил, что сегодня дядя Минго приходил к нему в парикмахерскую бриться. На лице у него была трехдневная щетина, и выглядел он очень бледным и утомленным. На вопрос, где он пропадал, он ответил: «Да там-сям…». А на вопрос, чем занимался, – «Да так – то да сё…». Когда же дядюшка Клито поинтересовался, не собирается ли он жениться, он сказал: «Да когда как». Накрыв его, чтобы пропарить щетину, горячим полотенцем, дядюшка Клито выскочил на цыпочках в подсобку и позвонил дядюшке Джулио, мяснику. Через две минуты Джулио был в парикмахерской.
– Что-то тебя не видно было давненько? – справился как бы невзначай дядюшка Джулио.
– Ну, так вот он я, – улыбнулся Минго.
– Завтра у меня юбилей свадьбы, – сказал дядюшка Джулио. – Ужин с равиоли. Придешь?
– Да, я буду, – ответил Минго и после поздравлений с юбилеем скоренько откланялся и ушел.
Таково было сообщение дядюшки Клито.
– Юбилей у Джулио не завтра, – сказала мама. – Он поженился в ноябре, через два дня после того, как Аттилио вырвал себе зуб.
– Завтра в час дня, – постановил Клито. – В доме у Джулио. Все соберутся.
Он улыбнулся загадочно и удалился.
На следующий день напудренная мама бегала из комнаты в комнату с заколками в зубах, задыхаясь в тисках перетянутого корсета. Папа, наряженный в новый костюм, сидел на кухне, потягивал кларет и кричал, что ему вовсе незачем переться в этот дурацкий поход к дядюшке Джулио. Но зачем же тогда он побрился? И напялил свой новый костюм? Несмотря на довольно бурный протест, он оделся и собрался раньше всех.
Тоненькой цепочкой мы проследовали друг за другом по проложенной в глубоком снегу узенькой тропинке к сараю. Там папа держал свой грузовик. Мама села с ним, а мы – все трое – расположились в грузовом отсеке.
Одноэтажный домишко дядюшки Джулио располагался в миле от нас. Когда мы приехали туда, все уже были в сборе, кроме дяди Минго. Мама тяжело дышала, когда мы поднимались по ступенькам крыльца, и неожиданно разрыдалась. Дядюшка Джулио, открывший дверь, обнял ее.
– Ну, ну, Колетта, – сказал он. – Теперь уже не о чем волноваться.







