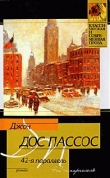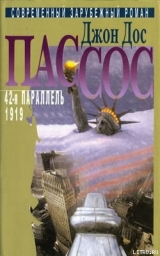
Текст книги "1919"
Автор книги: Джон Дос Пассос
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
В Чикаго она часто встречалась с Дирком Мак-Артуром. Провожая ее домой, он всегда целовал ее на прощание и во время танцев тесно прижимал к себе и иногда брал за руку и говорил, какая она чудная девочка, но о браке не заикался.
На одном балу, где она была с Дирком, она встретилась с Салли Эмерсон, и ей пришлось признаться, что она совершенно забросила живопись, и у Салли Эмерсон было такое разочарованное лицо, что Эвелин почувствовала себя совсем пристыженной и быстро заговорила о Гордоне Крейге и о выставке Матисса, которую видела в Париже. Салли Эмерсон собиралась уходить. Один молодой человек ждал, когда Эвелин освободится, чтобы пойти с нею танцевать. Салли Эмерсон взяла ее за руку и сказала:
– Не забывайте, Эвелин, что мы возлагаем на вас большие надежды.
И пока Эвелин танцевала, в ее голове пронеслось, кем для нее была Салли Эмерсон и какой удивительной она ей казалась; но, когда она ехала домой с Дирком, все эти мысли растаяли в ярком свете фар, в резком рывке снявшегося с места автомобиля, в жужжании мотора, в его объятии, в мощной силе, валившей ее на него на крутых поворотах.
Была жаркая ночь, он мчал ее бесконечными, похожими друг на друга пригородами на запад, в степь. Эвелин знала, что ей надо домой, все уже вернулись из Европы, дома заметят, как она поздно возвращается, но она не произнесла ни слова. Только когда он остановил автомобиль, она заметила, что он очень пьян. Он достал фляжку и предложил ей выпить. Она покачала головой. Они остановились у белого сарая. В свете фар пластрон его рубашки и его лицо и растрепанные волосы казались белыми как мел.
– Вы не любите меня, Дирк, – сказала она.
– Нет, люблю… Больше всех, за исключением себя самого… В этом все мое горе… Я люблю себя больше всего на свете.
Она взъерошила ему волосы костяшками пальцев.
– Вы ужасно глупый, вам это известно?
– Ой, – сказал он.
Пошел дождь, и он поворотил машину и поехал в Чикаго.
Эвелин после никак не могла вспомнить, каким образом разбился автомобиль, помнила только, как вылезала из-под сиденья, и ее платье было разорвано, и она не ушиблась, только дождь сек фары автомобилей, выстроившихся вдоль шоссе по обе стороны от них. Дирк сидел на крыле первой машины в ряду.
– С вами ничего не случилось, Эвелин? – крикнул он нетвердым голосом.
– Нет, только платье, – сказала она.
Со лба у него текла кровь, и он прижимал руку к животу, словно ему было холодно. Все дальнейшее было как с кошмаре: звонок к папе, перевозка Дирка в больницу, приставания репортеров, обращение к мистеру Мак-Артуру с просьбой принять меры, чтобы эта история не попала в утренние газеты. Было восемь часов жаркого весеннего утра, когда она вернулась домой в одолженном у сиделки дождевике поверх изорванного вечернего платья.
Вся семья сидела за завтраком. Никто ничего не говорил. Потом папа поднялся и пошел к ней с салфеткой в руках.
– Дорогая моя, я не стану говорить сейчас о твоем поведении и тем более умолчу о нашем горе и стыде, причиной которых ты явилась… Могу только сказать, что если ты получила во время этой эскапады какие-либо серьезные повреждения, то ты их заслужила. Пойди наверх и отдохни, если можешь.
Эвелин поднялась наверх, дважды повернула ключ в замке и, рыдая, бросилась на кровать.
Мать и сестры при первой возможности увезли ее в Санта-Фе. Там было жарко и пыльно; и она возненавидела Санта-Фе. Она не могла забыть Дирка. Знакомым она говорила, что она сторонница свободной любви, и часами валялась на кровати в своей комнате, читая Суинберна и Лоренса Хопа и мечтая о приезде Дирка. Она доводила себя до того, что явственно ощущала его губы, его настойчивую руку на пояснице, как в ту ночь в «вороньем гнезде» на «Крунленде». Ей положительно повезло, что она заболела скарлатиной и слегла в кровать на восемь недель; она лежала в изоляторе местной больницы. Все посылали ей цветы, и она прочла уйму книг о живописи и о внутренней отделке квартир и писала акварели.
Когда она в октябре приехала в Чикаго на свадьбу Аделаиды, она была бледна и выглядела зрелой женщиной. Элинор, целуя ее, воскликнула: «Дорогая моя, ты удивительно похорошела!» Она думала только об одном – как бы повидаться с Дирком и поговорить с ним начистоту. Ей удалось встретиться с ним только через несколько дней, так как папа позвонил ему и отказал от дома, и у них произошла целая сцена по телефону.
Эвелин встретилась с Дирком в вестибюле «Дрейка». Она с первого взгляда увидала, что он все это время вел очень беспорядочный образ жизни. Он был слегка пьян. У него было сконфуженное, мальчишеское лицо; она чуть не разревелась, когда увидела его.
– Ну как живете, старина? – спросила она смеясь.
– Погано! А вот вы чудно выглядите, Эвелин… Знаете, У нас гастролируют «Фолли девятьсот четырнадцать», нью-йоркская сенсация… У меня есть билеты, хотите пойти?
– Замечательно.
Он заказал все самое дорогое, что было в меню, и шампанского. Но в горле у нее застрял какой-то комок, мешавший ей глотать. Она решила поговорить с ним, пока он не опьянел окончательно.
– Дирк… Вероятно, это не очень женственно, но ничего не поделаешь, мне вся эта история начинает действовать на нервы… Судя по вашему поведению прошлой весной, вы были ко мне неравнодушны… Ну так вот – в какой степени? Я хочу знать.
Дирк поставил бокал на стол и покраснел. Потом он глубоко вздохнул и сказал:
– Эвелин, вы же знаете, я не из тех, кто женится… Любить и бросать – это для меня самое подходящее. Таков я, ничего не поделаешь.
– Я ведь не настаиваю, чтобы вы на мне женились. – У нее сорвался голос, она теряла власть над собой. Она усмехнулась: – Я вовсе не хочу, чтобы вы покрывали мое бесчестье. Да это, впрочем, и не нужно. – Ей удалось рассмеяться более естественно. – Забудем об этом… Я больше не буду к вам приставать.
– Вы чудный парень, Эвелин. Я всегда знал, что вы чудный парень.
Когда они приехали в театр и шли по проходу на свои места, он был уже до того пьян, что ей пришлось ухватить его за локоть, чтобы он не споткнулся. Музыка, и дешевые краски, и колыхающиеся тела хористок – все бередило в ней какую-то рану; все, что она видела, действовало на нее, как сладкое на больной зуб. Дирк все время бормотал:
– Поглядите вон на ту девочку… вторую слева в заднем ряду… Это Куини Фрозингхем… Вы все поймете, Эвелин. Но одно я вам скажу: я еще не совратил ни одной невинной девушки… В этом я не могу себя упрекнуть.
Билетерша подошла к нему и попросила не разговаривать вслух – он мешает прочим зрителям наслаждаться спектаклем. Он дал ей доллар и сказал, что будет нем, как мышь, как маленькая немая мышка, и вдруг заснул.
После первого акта Эвелин сказала, что ей пора домой: доктор предписал ей как можно больше спать. Он увязался за ней и довез ее до дому в такси, а потом вернулся в театр, к Куини. Эвелин не спала всю ночь и не сводила глаз с окна. Утром она первая вышла к завтраку. Когда папа вошел в столовую, она сказала, что хочет взяться за работу, и попросила у него тысячу долларов взаймы – она решила открыть ателье по внутренней отделке квартир.
Ателье по внутренней отделке квартир, которое она открыла в Чикаго совместно с Элинор Стоддард, не приносило того дохода, на который рассчитывала Эвелин, и Элинор была ей, в общем, в тягость; но зато они перезнакомились со множеством интересных людей и ходили на вечеринки, и премьеры, и вернисажи, и Салли Эмерсон позаботилась о том, чтобы они все время вращались в самом лучшем чикагском обществе. Элинор постоянно жаловалась, что молодые люди, которых Эвелин собирает вокруг себя, – все до одного бедняки и представляют собой не столько актив, сколько пассив их предприятия. Эвелин же твердо верила, что все они рано или поздно прославятся, и когда Фредди Серджент, бывший для них тяжелой обузой и неоднократно занимавший у них денег, получил постановку «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» в Нью-Йорке, Эвелин пришла в такой восторг, что чуть не влюбилась в него. Фредди был по уши влюблен в нее, и Эвелин не знала, как ей быть с ним. Он был душка, й она очень его любила, но не могла себе представить, как она выйдет за него замуж, и вдобавок это был бы ее первый серьезный роман, а Фредди вовсе не вскружил ей голову.
Но ей нравилось засиживаться с ним допоздна за бокалом рейнвейна и сельтерской в кафе «Бревурт», где всегда была такая масса интересной публики. Эвелин сидела, глядя на него сквозь извилистый сигаретный дым, и размышляла – начать с ним роман или не начать. Он был высок ростом и худощав, лет около тридцати, с сединой в густых черных волосах и длинным, бледным лицом. У него были изысканные манеры, свойственные скорее всего литератору, и он так произносил «а», что очень многие принимали его за бостонца и думали, что он из семьи известных Серджентов.
Однажды вечером они сидели и строили планы о своей будущности и будущности американского театра. Если они добудут финансовую поддержку, они создадут постоянный театр и подлинный американский репертуар. Он будет американским Станиславским, а она – американской леди Грегори,[59]59
Грегори Изабелла Августа (1852–1932) – ирландский драматург, создательница (совместно с У.-Б. Йитсом) первого ирландского театра «Театр Аббатства» (1904) в Дублине.
[Закрыть] а то еще и американским Бакстом.[60]60
Бакст Л. С. (1866–1924) – русский живописец, театральный художник.
[Закрыть] Когда кафе закрылось, она сказала ему, чтобы он поднялся в ее номер черным ходом. Она волновалась при мысли о том, что останется в номере гостиницы с глазу на глаз с молодым человеком, и представляла себе, как была бы шокирована Элинор, если бы узнала. Они курили и довольно рассеянно болтали о театре, и в конце концов Фредди обнял ее за талию, и поцеловал, и попросил разрешения остаться на всю ночь. Она позволила ему целовать ее, но все время думала только о Дирке и сказала, что сегодня, пожалуйста, не надо, и он был страшно пристыжен и со слезами на глазах попросил у нее прощения за то, что опошлил это дивное мгновение. Она сказала, что она вовсе не то имела в виду и пускай он завтра приходит к ней завтракать.
Когда он ушел, она готова была пожалеть, что отпустила его. Все ее тело горело, как в те минуты, когда ее обнимал Дирк, и ей ужасно хотелось узнать, что такое настоящая любовь. Она приняла холодную ванну и легла в постель. Когда она проснется и опять увидит Фредди, она решит, влюблена она в него или нет. Но наутро она получила телеграмму – ее вызывали домой. Папа серьезно заболел диабетом. Фредди проводил ее на вокзал. Она думала, что ей будет тяжело расстаться с ним, но почему-то это оказалось не так.
Доктору Хэтчинсу стало лучше, и Эвелин увезла его поправляться в Санта-Фе. Мать ее почти все время была больна, и так как Маргарет и Аделаида были обе замужем, а Джордж работал за границей в гуверовском Комитете помощи Бельгии, то ей пришлось взять на себя заботу о стариках. Она провела в Санта-Фе целый год, томительный и безрадостный, несмотря на внушительные суровые пейзажи, и поездки верхом, и акварельные портреты мексиканцев и индейцев. Она бродила по дому, заказывала завтраки и обеды, помогала вести хозяйство, возмущалась тупостью служанок, записывала сдаваемое в стирку белье.
Единственным человеком, в присутствии которого она оживлялась, был Хосе О'Рили. Несмотря на ирландскую фамилию, он был испанец, стройный молодой человек с лицом табачного цвета и темно-зелеными глазами; почему-то он был женат на дородной мексиканке, которая каждые девять месяцев рожала ему крикливого коричневого младенца. Он был художник, но зарабатывал себе пропитание тем, что плотничал и иногда позировал художникам. Эвелин случайно заговорила с ним, когда он красил двери их гаража, и попросила его позировать ей. Он так долго глядел на пастельный портрет, который она с него писала, и так долго объяснял ей, почему он никуда не годится, что она в конце концов не выдержала и расплакалась. Жестко произнеся английские слова, он попросил у нее прощения и сказал, что она не должна огорчаться: талант у нее есть, и он сам возьмется учить ее рисованию. Он повел ее к себе, в неопрятную хибарку в мексиканском квартале, и познакомил со своей женой Лолой, поглядевшей на нее испуганными, недоверчивыми глазами, и показал ей свои произведения – огромные, писанные на гипсе фрески, напоминавшие итальянские примитивы.
– Вы видите, я пишу мучеников, – сказал он, – но не христианских; я пишу мучеников эксплуатируемого рабочего класса. Лола ничего не понимает. Она хочет, чтобы я писал богатых дам вроде вас и зарабатывал большие деньги. Что, по-вашему, лучше?
Эвелин вспыхнула: ей было неприятно, что он причисляет ее к богатым дамам. Но его картины потрясли ее, и она сказала, что она будет рекламировать его среди своих друзей; она была уверена, что открыла гения.
О'Рили поблагодарил ее и с тех пор не хотел брать с нее денег ни за позирование, ни за критику ее картин; вместо этого он иногда по-дружески занимал у нее небольшие суммы. Еще до того, как он начал ухаживать за ней, она решила, что на этот раз у нее будет серьезный роман. Она сойдет с ума, если в ее жизни не произойдет какая-то перемена,
Главное затруднение было в том, что им негде было встречаться. Ее ателье находилось непосредственно за домом, и там их в любую минуту могли накрыть ее отец или мать или какие-нибудь знакомые, пришедшие в гости. Кроме того, Санта-Фе был небольшой городок, и соседи сразу заметили бы, что он часто ходит в ее ателье.
Однажды вечером, когда шофер Хэтчинсов ушел со двора, они забрались в его комнату над гаражом. Там было темно как в могиле и пахло трубочным табаком и грязным платьем. Эвелин пришла в ужас, когда заметила, что потеряла власть над собой; у нее было такое чувство, словно она нанюхалась эфира. Он очень удивился, когда увидел, что она девушка, и сразу стал нежным и внимательным, словно он был в чем-то виноват. Лежа в его объятиях на кровати шофера, она, однако, не испытала ожидаемого экстаза; ей даже казалось, что все это уже один раз было. Потом они лежали на кровати и долго разговаривали тихим, интимным шепотом. Его поведение изменилось, он обращался с ней серьезно и снисходительно, как с маленьким ребенком. Он сказал, что ему неприятно и унизительно встречаться тайком, это мучительно для них обоих. Он найдет место, где они смогут встречаться на открытом воздухе и на солнце, а не тайком, точно преступники. Он будет писать ее, дивная стройность ее тела будет вдохновлять его и ее прелестные маленькие круглые груди также. Потом он внимательно осмотрел ее, не измялось ли на ней платье, и сказал, чтобы она шла домой и ложилась спать; пусть она примет какие-нибудь меры предосторожности, если она не хочет иметь ребенка, хотя он лично будет только горд, если она забеременеет от него, тем более что она достаточно богата, чтобы кормить ребенка. Она пришла в ужас и подумала, как это грубо и бесчувственно с его стороны – говорить об этом так легкомысленно.
В течение зимы они встречались по два, по три раза в неделю в маленькой, заброшенной сторожке, в стороне от загородного шоссе, на дне небольшого скалистого каньона. Она ездила туда верхом, а он ходил пешком другой дорогой. Они называли эту сторожку своим необитаемым островом. А потом Лола однажды заглянула в его папки и нашла сотни рисунков, изображающих одну и ту же голую девушку; она явилась к Хэтчинсам, трясясь и крича, с падающими на глаза волосами; она искала Эвелин и вопила, что убьет ее. Доктор Хэтчинс был точно громом поражен; но Эвелин, несмотря на то что она внутренне тряслась от ужаса, сумела сохранить наружное спокойствие. Она сказала отцу, что позволяла О'Рили делать с нее наброски, но что ничего между ними не было и что его жена – тупая, невежественная мексиканка, – естественно, не представляет себе, что мужчина и женщина могут остаться вдвоем в ателье, не помышляя при этом ни о чем дурном. Папа выругал ее за бесстыдство, но поверил ей, и им общими усилиями удалось скрыть от мамы всю историю, но после этого ей удалось только один раз повидаться с Пепе. Он пожал плечами и сказал «ничего не поделаешь», не может же он бросить жену и детей на произвол судьбы, как он ни беден, а жить с ними он должен, и надо же человеку иметь жену, чтобы она работала и стряпала на него; он не может жить романтическими иллюзиями, ему надо есть, и Лола – хорошая женщина, хоть и тупая и неряшливая, и она взяла с него слово, что он больше не будет встречаться с Эвелин. Эвелин повернулась на каблуках и ушла прежде, чем он успел договорить. Она была рада, что могла вскочить на лошадь и ускакать.
Камера-обскура (31)
матрац покрытый какой-то тканью заменяет диван в ателье фотографии мы сидим на диване и на подушках на полу и длинношеий актер-англичанин ритмически читает Песнь Песней
а фотографша в нагрудниках и шелковых шароварах ритмически танцует Песнь Песней
девочка со свирелью Пана классическая танцовщица а фотографша с волосами выкрашенными хной ритмически танцует Песнь Песней в восточном стиле вращая животом и гремя нагрудниками
подкрепите меня вином освежите меня яблоками
ибо я изнемогаю от любви
левая рука ее у меня под головою а правая обнимает меня[61]61
«…Подкрепите меня вином…» – стихи из книги «Песнь Песней» Соломона, гл. 2, ст. 5.
[Закрыть]
актриса уединенно живущая наверху кричит раз потом другой Налетчики Господи помилуй ее насилуют
мы мужчины бежим наверх несчастная женщина у нее истерика Не тот этаж Лестница полна шпиков на улице стоит полицейский автомобиль Так-так мужчины стало быть сюда а женщины туда это что у вас тут за чертова лавочка? Шпики лезут во все окна шпики вылезают из кухни
крашенная хной фотографша преграждает им путь закутавшись в портьеру размахивая телефоном Это кабинет м-ра Уикершема? Окружная прокуратура возмутительная история несколько человек друзей интимный вечер танцы декламация грубейшим образом выдающаяся актриса в истерике вот пожалуйста господин офицер поговорите с окружным прокурором он вам скажет кто я такая и кто такие мои друзья
Шпики смываются автомобиль с грохотом сворачивает в соседнюю улицу актер-англичанин говорит Только благодаря величайшему самообладанию я сдержался этакая свинья я страшен в гневе страшен и турецкий консул со своей приятельницей присутствовавшие инкогнито
воюющая держава министерство юстиции шпионаж облава на радикалов германофилов тихонько выскользнули и мы двое помчались вниз по лестнице и быстро пошли в нижний город и поехали в Уихокен на пароме была чудовищно туманная ночь сквозь туман неуклюже проталкивались большие слепые силуэты пароходных сирен из нижней бухты
на носу парома мы вдохнули заплесневелый речной бриз громко болтая оглушительно хохоча
со спокойных улиц Уихокена неправдоподобно крутые виадуки вели наверх в туман
Эвелин Хэтчинс
Она была как помешанная до той минуты, пока не села в поезд, уходивший на Запад. Мама и папа не хотели отпускать ее, но она показала им телеграмму от Элинор, которую та прислала по ее просьбе; Элинор предлагала ей высокий оклад в ее ателье по внутренней отделке. Она сказала, что такое выгодное предложение нескоро повторится и что она непременно должна принять его, тем более что Джордж проведет отпуск дома и они уже не будут одиноки. Всю первую ночь после отъезда она лежала без сна на верхней полке и, дрожа от радости, прислушивалась к завыванию ветра и дробному стуку колес. Но после Сент-Луиса она начала волноваться: она решила, что беременна.
Она страшно перепугалась. Большой центральный вокзал казался таким огромным, он был полон пустых лиц, глядевших ей вслед, когда она шла за красной шапкой, несшей ее чемодан. Она боялась, что упадет в обморок прежде, чем успеет сесть в такси. Всю дорогу в нижнюю часть города ее тошнило и мутило от тряски такси и грохота уличного движения. В «Бревурте» она выпила чашку кофе. Рыжее солнце светило в высокие окна, в зале стоял теплый ресторанный запах; ей стало лучше. Она пошла к телефону и позвонила Элинор. Горничная-француженка ответила, что мадемуазель еще спит, но что она передаст ей, кто звонил, как только она проснется. Потом Эвелин позвонила Фредди, который, судя по голосу, очень обрадовался и сказал, что сию же минуту примчится из Бруклина.
Когда она увидела Фредди, ей показалось, что она вовсе и не уезжала. Он уже почти нашел капиталиста, согласившегося финансировать его балет из быта индейцев майя, и был причастен к одной новой музыкальной драме и предложил Эвелин делать для его постановки костюмы. Он был, однако, весьма озабочен перспективой войны с Германией и говорил, что он – пацифист и, вероятнее всего, сядет в тюрьму, если только не произойдет революция. Эвелин рассказала ему о своих беседах с Хосе О'Рили и какой он гениальный художник и сказала, что она, скорее всего, анархистка. Фредди явно забеспокоился и спросил, уж не влюблена ли она в этого человека, и она вспыхнула, и улыбнулась, и сказала «нет», и Фредди сказал, что она выглядит в сто раз лучше, чем в прошлом году.
Они вместе пошли к Элинор, которая жила на одной из тридцатых Восточных улиц в очень элегантной и дорогой на вид квартире. Элинор, сидя в кровати, писала письма. Она была тщательно причесана и одета в розовый атласный капот, отороченный кружевами и горностаем. Они выпили вместе с ней кофе и съели горячие булочки, испеченные горничной-негритянкой с Мартиники. Элинор была рада видеть Эвелин и сказала, что она очень хорошо выглядит, и очень загадочно говорила о своих делах и обо всем. Она собиралась стать театральным режиссером и говорила «мой финансовый советник» то, «мой финансовый советник» другое, третье. Эвелин не знала, что и думать, так или иначе было очевидно, что дела ее хороши. Эвелин хотела поговорить с ней о средствах против беременности, но никак не могла начать, и, может быть, это было даже к лучшему, потому что, как только заговорили о войне, они немедленно поругались.
Днем Фредди повел ее пить чай к одной пожилой даме, жившей на Восьмой восточной улице, убежденной пацифистке. Ее гостиная была полна спорщиков и молодых людей и женщин, сдвигавших головы и шептавшихся с важным видом. Там она разговорилась с тощим светлоглазым молодым человеком, по имени Дон Стивенс. Потом они вдруг заметили, что все ушли и они остались одни с хозяйкой, полной, одышливой, экзальтированной женщиной, которая действовала Эвелин на нервы. Она попрощалась и ушла. Только она вышла из подъезда, как Стивенс нагнал ее и пошел рядом расхлябанной походкой, волоча за собой пальто.
– Где вы собираетесь ужинать, Эвелин Хэтчинс?
Эвелин сказала, что еще не решила, и не успела опомниться, как уже сидела с ним в итальянском ресторане на Третьей улице. Он очень быстро съел уйму спагетти и выпил очень много красного вина и познакомил ее с официантом, которого звали Джованни.
– Он максималист, как и я, – сказал он. – Эта юная дама, по-видимому, анархистка с философским уклоном, но мы ее переубедим.
Дон Стивенс был родом из Южной Дакоты и еще на школьной скамье работал в провинциальной прессе. Кроме того, он был у себя на родине сельскохозяйственным рабочим и участвовал во многих выступлениях ИРМ. Он с нескрываемой гордостью показал Эвелин свою красную карточку. Он приехал в Нью-Йорк для того, чтобы работать в «Призыве», но как раз только что ушел оттуда, потому что эта чертова газетка была слишком прекраснодушна, по его словам. Он сотрудничал также в журнале «Метрополитен» и в «Мэссиз» и выступал на антивоенных митингах. Он сказал, что вступление Соединенных Штатов в войну – дело решенное; немцы берут верх, рабочий класс всей Европы накануне восстания, российская революция – это начало мировой социальной революции, и банкиры это знают, и это знает Вильсон; весь вопрос в том, допустят ли войну промышленные рабочие Востока и фермеры и батраки Среднего Запада и Запада. Вся пресса либо подкуплена, либо на нее надет намордник. Морганы должны воевать, или они обанкротятся.
– Это самый грандиозный заговор на всем протяжении мировой истории.
Джованни и Эвелин слушали затаив дыхание. Джованни время от времени нервно оглядывался, не сидит ли за соседним столиком переодетый шпик.
– Черт побери, дай-ка нам еще бутылку вина, Джованни! – крикнул Дон в середине подробного анализа заграничных инвестиций «Куна, Лэба и компании». Потом он внезапно обратился к Эвелин, наполняя ее стакан: – Где вы были все эти годы? Я так нуждался в милой девушке вроде вас. Давайте повеселимся сегодня ночью, может, это наше последнее пиршество, через месяц мы, по всей вероятности, будем сидеть в тюрьме или стоять у стенки, верно, Джованни?
Джованни совсем забыл о других столиках, и хозяин выругал его. Эвелин все время смеялась. Когда Дон спросил, чего она смеется, она сказала, что не знает, только он ужасно забавный.
– Но ведь это же действительно Армагеддон,[62]62
Армагеддон – предсказанная в Откровении Иоанна Богослова решающая битва между силами Добра и Зла (гл. XVI, ст. 16).
[Закрыть] черт побери. – Потом он покачал головой. – Какой смысл? Еще не родилась та женщина, которая разбирается в политике.
– А вот я разбираюсь… По-моему, все это ужасно. Я не знаю, что делать.
– «Я не знаю, что делать»! – подхватил Дон гневно. – Я не знаю, выступать ли мне против войны и гнить в тюрьме или поехать на фронт военным корреспондентом и любоваться этой гнусной бойней. Если бы можно было опереться на кого-нибудь, тогда другое дело… Ну к черту, пойдем отсюда.
Он подписал счет и попросил у Эвелин полдоллара взаймы, чтобы оставить на чай Джованни; он сказал, что у него нет ни гроша в кармане. Каким-то образом она очутилась с ним в холодной неубранной комнате где-то около Петчин-плейс; она поднялась по грязной деревянной лестнице на третий этаж, чтобы выпить еще один, последний стакан вина. Он стал наседать на нее, и, когда она заметила, что они всего семь часов как знакомы, то сказал, что это очередная буржуазная тупость, от которой ей следует раз и навсегда отвыкнуть. Когда она спросила его относительно мер против беременности, он сел рядом с ней и полчаса говорил о том, какая великая женщина Маргарет Сенджер[63]63
Сенджер Маргарет (1883–1966), американский врач, популяризировавшая контроль над рождаемостью и противозачаточные средства, за что неоднократно привлекалась к суду. Много писала по этому поводу: «Бунт женщин» (1915), «Женщина и новая раса» (1920), «Поворот в истории цивилизации» (1922) и др.
[Закрыть] и что меры против беременности – величайшее и единственное благодеяние, оказанное человечеству с того дня, как люди научились добывать огонь. Когда он опять начал с самым деловитым видом приставать к ней, она рассмеялась и, краснея, позволила ему раздеть себя. Только в три часа вернулась она в «Бревурт» в свой номер, чувствуя себя слабой и виноватой и запачканной. Она приняла громадную порцию касторки и легла спать, но не могла заснуть до рассвета и все думала, что она скажет Фредди. Она условилась встретиться с ним вчера в одиннадцать после его репетиции и поужинать с ним. Она больше не боялась беременности, она точно очнулась от кошмара.
Всю зиму она, Элинор и Фредди носились с планами всевозможных постановок и убранства квартир, но ничего из этого не вышло, и через некоторое время Эвелин стало в Нью-Йорке не по себе – война была объявлена, улицы полны флагов и военных мундиров, все ее знакомые сходили с ума от наплыва патриотических чувств и искали шпионов и пацифистов под каждой кроватью. Элинор устроилась в Красный Крест. Дон Стивенс поступил на службу в Квакерский комитет помощи. Фредди ежедневно принимал какое-нибудь новое решение, но в конце концов заявил, что ничего не будет решать окончательно, покуда его не призовут. Муж Аделаиды получил назначение в Вашингтон, в обновленное Судовое ведомство. Папа через каждые два-три дня писал ей, что Вильсон – величайший президент после Линкольна. Иногда ей казалось, что она потеряла рассудок, до того глупо вели себя все окружающие. Когда она попыталась поговорить об этом с Элинор, та высокомерно улыбнулась и сказала, что она уже выхлопотала разрешение взять ее с собой в качестве помощницы в ее парижскую контору.
– В твою парижскую контору?
Элинор кивнула.
– Мне все равно, что делать, я охотно возьмусь за любую работу, – сказала Эвелин.
Элинор уехала в субботу на «Рошамбо», а две недели спустя Эвелин последовала за ней на «Турени».
Был душный летний вечер. Она почти грубо уклонилась от прощальных объятий Маргарет и Аделаиды и мужа Маргарет, Билла, который тем временем уже получил чин майора и обучал стрельбе новобранцев на Лонг-Айленде, – ей не терпелось расстаться с этой Америкой, которая действовала ей на нервы. Пароход отходил с двухчасовым опозданием. Оркестр не переставая играл «Типперери», «Аèргез de ma blonde»[64]64
«Подле моей блондинки» (фр.).
[Закрыть] и «La Madeion».[65]65
«Мадлон» (фр).
[Закрыть] Палуба кишела молодыми людьми в разнообразнейших мундирах, по большей части пьяными. Маленькие французские матросики с детскими лицами и красными помпонами перекрикивались на картавом, гнусавом бордоском жаргоне. Эвелин ходила взад и вперед по палубе, пока у нее не заболели ноги. Казалось, что пароход никогда не отплывет. И Фредди, появившийся в последнюю минуту, не переставая махал ей рукой с пристани, и она боялась, что Дон Стивенс явится провожать ее, и вся ее жизнь за последние годы была ей отвратительна.
Она спустилась в свою каюту и принялась читать «Огонь» Барбюса – книгу ей дал Дон. Она заснула, и, когда седая, костлявая дама, ехавшая с ней в одной каюте, завозилась и разбудила ее, первое, что она почувствовала, было биение пароходных машин.
– Знаете, вы пропустили обед, – сказала седая дама.
Ее звали Элайза Фелтон, и она была иллюстраторшей детских книжек. Она ехала во Францию, чтобы получить должность шофера грузовика. Сначала она действовала Эвелин на нервы, но мягкие, теплые дни шли один за другим, и она ей понравилась. Мисс Фелтон очень привязалась к Эвелин и иногда бывала ей в тягость, но зато она любила пить вино и хорошо знала Францию, она там прожила несколько лет. Кроме того, она училась живописи в Фонтенбло, в добрые старые времена импрессионистов. Она негодовала на гуннов за Реймс и Лувен и бедных бельгийских младенцев, которым они отрезали руки, но правительства, состоявшие из мужчин, она тоже презирала и называла Вильсона трусом, Клемансо – животным, а Ллойд Джорджа – ханжой. Она издевалась над мерами предосторожности против подводных лодок и говорила, что французская пароходная линия абсолютно безопасна, так как по ней ездят все германские шпионы, ей это точно известно. Когда они высадились в Бордо, она оказала Эвелин множество услуг.
Они не поехали в Париж вместе с прочей публикой из Красного Креста и Комитета помощи и на день задержались в Бордо, чтобы осмотреть город. Ряды серых домов XVIII века были неописуемо прекрасны в бесконечных розовых летних сумерках, и цветы в киосках, и вежливые приказчики в лавках, и нежные узоры чугунных решеток, и изысканный обед в «Шапон-Фен».
Одно только было неприятно: когда она гуляла с Элайзой Фелтон, та ни на шаг не подпускала к ней мужчин. На следующий день они уехали в Париж дневным поездом, и Эвелин с трудом сдерживала слезы, до того прекрасны были эти поля, и дома, и виноградники, и ряды высоких тополей. На каждой станции толпились маленькие солдатики в светло-голубых шинелях, и пожилой почтительный проводник был похож на университетского профессора. Когда поезд наконец нырнул в туннель и плавно подкатил к перрону Орлеанского вокзала, у нее так сжалось горло, что она с трудом могла говорить. У нее было такое чувство, словно она никогда раньше не бывала в Париже.