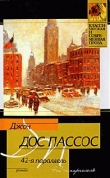Текст книги "1919 (др. изд.)"
Автор книги: Джон Дос Пассос
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)
– Папа, ложись спать, – сказала она твердо. – Ты очень скверно выглядишь.
– Да, пожалуй, я пойду... Все равно ничего уже нельзя сделать, – сказал он.
– Подожди меня, Джо, я пойду уложу папу, – сказала она тихо, проходя мимо него. Она проводила папу в его номер, оставила за собой соседний номер, погладила папу по голове, очень нежно поцеловала и оставила одного.
Когда она вернулась в вестибюль, Джо сидел в той же позе и с тем же выражением лица. Его вид чуть не свел ее с ума.
Она удивилась своему резкому, повелительному тону:
– Выйдем на минутку, Джо, я хочу чуточку пройтись.
Воздух очистился после дождя. Была прозрачная весенняя ночь.
– Послушай, Джо, кто отвечает за исправность аэропланов? Мне нужно знать.
– Дочка, как ты смешно говоришь... Тебе надо выспаться, ты переутомлена.
– Ответь мне на мой вопрос, Джо.
– Ну как ты не понимаешь, Дочка: никто не отвечает. Армия – сложный аппарат. Ошибки неизбежны. Тот или иной поставщик зарабатывает огромные деньги. Что ни говори, авиация еще находится в младенческом возрасте... Все мы, вступая в авиацию, знаем, чем мы рискуем.
– Если бы Бад разбился во Франции, у меня не было бы этого чувства... Но тут... Джо, кто-то несет непосредственную ответственность за смерть моего брата. Я хочу пойти и поговорить с ним, вот и все. Я не стану делать глупости. Вы все считаете меня сумасшедшей, я знаю, но я думаю о всех других девушках, братья которых учатся в авиационных школах. Человек, принимавший эти аэропланы, – изменник родины, его следует расстрелять как собаку.
– Послушай, Дочка, – сказал Джо, приведя ее в гостиницу, – мы воюем. Жизнь отдельных индивидуумов не может идти в счет, сейчас не время давать волю личным чувствам и заниматься критикой властей. Когда мы поколотим гуннов, у нас будет сколько угодно времени на разоблачение невежд и негодяев... Такова моя точка зрения.
– Хорошо, спокойной ночи, Джо... Смотри береги себя... Когда ты начинаешь летать?
– Недели через две.
– Как Глэдис и Банни?
– Спасибо, очень хорошо, – сказал Джо, его голос как-то странно дрогнул, и он покраснел. – Они в Талсе у миссис Хиггинс.
Она легла в кровать и лежала неподвижно, охваченная спокойным, холодным отчаянием, она так устала, что не могла заснуть. Когда забрезжило утро, она пошла в гараж и вывела свою машину. Она сунула руку в карман на дверце, чтобы убедиться, там ли ее сумочка, в которой всегда лежал маленький револьвер с перламутровой рукояткой, и поехала на аэродром. Часовой у ворот отказался пропустить ее, и она послала записку полковнику Морриси, папиному другу, о том, что ей необходимо немедленно повидаться с ним. Капрал был очень любезен и предложил ей стул в маленькой конторке у ворот и через несколько минут сообщил, что полковник Морриси просит ее к телефону. Ода заговорила с ним, но не знала, что сказать. Письменный стол, и комната, и капрал закружились перед ней, и она потеряла сознание.
Она пришла в себя в штабной машине. Джо Уошберн вез ее обратно в гостиницу. Он гладил ее руку, приговаривая;
– Ничего, ничего, Дочка.
Она уцепилась за него и расплакалась, как маленькая. В гостинице ее уложили в кровать и дали ей брому, и доктор позволил ей встать только после похорон.
С тех пор про нее говорили, что она чуточку помешанная. Она осталась в Сан-Антонио. Там было весело и оживленно. Весь день она работала в питательном пункте, а по вечерам развлекалась, ужинала и танцевала, каждый вечер с другим офицером-летчиком. Все ее знакомые очень много пили. Она чувствовала себя, как в те времена, когда ходила на школьные балы, она жила в ослепительно ярком тумане ужинов, и огней, и танцев, и шампанского, и разноцветных лиц, и одинаково деревянных мужчин, танцевавших с ней, только теперь в ее голосе звучала ироническая нотка, и она позволяла тискать и целовать себя в такси, в телефонных будках, на задних дворах.
Однажды вечером она встретила Джо Уошберна на вечере, который устраивала Ида Олсен в честь нескольких мальчиков, отправлявшихся в Европу. Она впервые видела Джо пьющим. Он не был пьян, но было видно, что он выпил очень много. Они ушли на кухню и в темноте сели рядышком на ступеньки заднего крыльца. Была ясная жаркая ночь, полная звона кузнечиков, и резкий жаркий ветер шевелил сучья деревьев. Вдруг она взяла Джо за руку:
– Ах, Джо, как это ужасно.
Джо заговорил о том, что он очень несчастен в браке, что он зарабатывает большие деньги на арендованных им нефтяных участках, но что его это нисколько не трогает, что он устал от военной службы. Его назначили инструктором и не отпускают в Европу, и в лагере он прямо сходит с ума от скуки.
– Ах, Джо, я тоже хочу в Европу. Я веду здесь такую глупую жизнь.
– С тех пор как умер Бад, ты ведешь себя довольно странно, Дочка, услышала она мягкий низкий протяжный голос Джо.
– Ах, Джо, я бы хотела умереть, – сказала она и положила ему голову на колени и заплакала.
– Не плачь, Дочка, не плачь, – заговорил он и вдруг начал целовать ее. От этих поцелуев, жестких и яростных, она беспомощно обвисла в его руках.
– Я никого, кроме тебя, не люблю, Джо, – сказала она неожиданно спокойно.
Но он уже овладел собой.
– Прости меня. Дочка, – сказал он спокойным, адвокатским голосом, – не знаю, что со мной случилось... Должно быть, сошел с ума... Эта война всех нас сведет с ума... Спокойной ночи... Вот что... ты... э-э... вычеркни все это из памяти, понимаешь?
Ночью она не сомкнула глаз. В шесть утра села в свой автомобиль, накачала газолину и масла и укатила в Даллас. Было яркое осеннее утро, в лощинах лежал голубой туман. Сухие маисовые стебли шелестели на желтых и красных осенних холмах. Она приехала домой поздно вечером. Папа еще не ложился, в пижаме и халате он читал известия с театра войны.
– Ну, теперь уже скоро. Дочка, – сказал он, – линия Гинденбурга поддается. Я знаю – если наши ребята возьмутся за дело, они доведут его до конца. – Папино лицо было изборождено морщинами, волосы совсем побелели, таким старым она его еще никогда не видала. Она подогрела мясные консервы с супом, так как по дороге не успела поесть. Они уютно поужинали вдвоем и прочли забавное письмо Бестера из лагеря Меррит, где его часть ожидала отправки в Европу. Когда она легла в кровать в своей комнате, она вновь почувствовала себя девчонкой, она всегда бывала счастлива, когда ей выпадал случай уютно посидеть и поболтать вдвоем с папой, она уснула, как только положила голову на подушку.
Она осталась в Далласе и ухаживала за папой; только изредка, вспоминая о Джо Уошберне, начинала чувствовать, что больше не выдержит. Пришло известие о ложном перемирии, потом о настоящем, в течение недели все сходили с ума, точно во время Нью-Орлеанского карнавала. Дочка решила остаться старой девой и вести папино хозяйство. Бестер приехал домой очень загорелый и говорил только на солдатском жаргоне. Она стала посещать лекции в Южном методистском университете, занималась благотворительностью, брала книжки из библиотеки, пекла безе; когда к ним в гости приходили юные приятельницы Бестера, она вела себя как пожилая компаньонка.
В День благодарения у них обедали Джо Уошберн и его жена. Старуха Эмма была больна, так что Дочка сама изжарила индейку. Только когда все сели за стол, на котором горели желтые свечи в серебряных подсвечниках, и на маленьких серебряных подносах лежали соленые орешки, и были рассыпаны розовые и багряные кленовые листья, она вспомнила Бада. Она внезапно почувствовала головокружение и выбежала из-за стола. Она лежала ничком на кровати, прислушиваясь к их размеренным голосам. Джо подошел к двери узнать, что случилось. Она вскочила смеясь и смертельно испугала Джо, поцеловав его прямо в губы.
– Все в порядке, Джо, – сказала она. – А у тебя как?
Потом она сбежала в столовую и всех развеселила, так что обед всем очень понравился. Когда пили кофе в соседней комнате, она сообщила, что подписала контракт на шесть месяцев с Комитетом Помощи Ближнему Востоку, вербовавшим добровольцев в Южном методистском университете, и уезжает за границу. Папа пришел в бешенство, а Бестер сказал, что лучше ей сидеть дома, война все равно уже кончилась, но Дочка сказала, что другие жертвовали собой, чтобы спасти мир от немцев, стало быть, она, несомненно, может пожертвовать шестью месяцами, чтобы оказать помощь нуждающимся. Когда она это сказала, все вспомнили о Баде и замолчали.
Собственно говоря, она еще не подписала контракта, она сделала это на следующее утро, а потом подлизалась к мисс Фрейзьер, которая некогда была миссионершей в Китае, а теперь организовала все это дело, и в результате ее на той же неделе отправили в Нью-Йорк с предписанием немедленно отбыть с канцелярией в Рим – первый этап ее службы. Все время, что она получала паспорт и шила форменное платье, она была так возбуждена, что даже не замечала, какие пасмурные лица у папы и Бестера. В Нью-Йорке она пробыла только один день. Когда завыла сирена, и пароход отчалил от пристани, и пошел вниз по Норт-Ривер, она стояла на палубе, ее волосы развевались по ветру, она вдыхала сложный запах парохода, порта, открытого моря и чувствовала себя двухлетней девочкой.
НОВОСТИ ДНЯ XXXII
ЗОЛОТОЙ ГОЛОС КАРУЗО ВОСПЕВАЕТ ПОБЕДУ ПЕРЕД УЛИЧНОЙ ТОЛПОЙ
Айайай что за чудная война
Как не позавидовать солдату
от пика Умбраль к северу от Стельвио она пролегает по хребту Ретийских Альп до истоков Этча и Эйзака, затем по горам Рэшену и Бреннеру и горной цепи Этцтальских и Циллертальских Альп, затем спускается к югу, пересекая Тоблах 78 78. Отрывок из Версальского договора, устанавливающий австро-итальянскую границу.
[Закрыть]
Пусть трубит горнист сколько хочет
Ей-богу нам нынче не встать
Пускай принесет нам фельдфебель
Горячего чаю в кровать
ЗАГИПНОТИЗИРОВАН ЖЕНЩИНОЙ ИЗ ПРОСТОНАРОДЬЯ
общие потери, включая 318 выбывших из строя сегодня, достигают 64305; 11760 пали на поле брани, 6193 тяжело ранено
Айайай что за чудная война
Как не позавидовать солдату
За такое дело совестно брать плату
в крестьянских избах американцев принимают как гостей, им отводят лучшие комнаты, и хозяйки подают им самые лучшие начищенные самовары или чайники
в густо населенных районах празднества имели особенно живописный вид благодаря появлению союзников в национальных костюмах. Повсюду царило поистине карнавальное настроение
БРИТАНЦЫ РАЗГОНЯЮТ СОВЕТЫ
Le chef de gare il est соси
Qui est cocu? Le chef de gars
Sa femme elle l'a voulu
[Начальник станции рогат.
Кто рогат? Начальник станции.
Так хотела его жена (франц.)]
у нас нет никаких оснований предполагать, что эти должностные лица, стоявшие во главе солиднейшей организации, снабжавшей сведениями многочисленные органы печати во всех концах нашей страны, в столь важный для родины момент забыли о лежащей на них ответственности. Даже попытки предварить события следует в этих условиях рассматривать как тягчайшую ошибку, виновники которой должны быть привлечены к ответственности
Есть ли у вас претензии?
Нет, хныкать нам недосуг.
Только зачем в нашем чае
Постоянно плавает лук?
МИССИС ВИЛЬСОН ПОЛУЧИЛА В ПОДАРОК БРИЛЛИАНТОВОГО ГОЛУБЯ МИРА
и водораздел Предиля, Подланиски и Идрии. От этого пункта граница сворачивает на юго-восток к Шнейбергу, выделяя весь бассейн Савы со всеми ее притоками. От Шнейберга она спускается к побережью, охватывая Кастую, Маттулью и Волоску.
КАМЕРА-ОБСКУРА (38)
подписано заштемпелевано выдано на руки весь Тур пропах липами в цвету жарко китель прилипает к телу воротник натирает шею
еще четыре дня тому назад дезертир прополз под товарными вагонами на станции Сен-Пьер-де-Кор ждал в станционном буфете когда военный полицейский отвернется чтобы выскользнуть с папиросой во рту потом в крошечном номере гостиницы переправил дату на старом командировочном удостоверении, а сегодня отпуск подписанный заштемпелеванный выданный на руки сыплет искры в моем кармане точно римская свеча
я прохожу мимо канцелярии Интендантского управления Эй рядовой застегните мундир и бегом по затененной липами улице в баню там есть дворик с цветами зеленая горячая вода хлещет из медных лебединых голов в цинковую ванну я раздеваюсь донага намыливаюсь с ног до головы кислым розовым мылом скольжу в теплую темно-зеленую ванну сквозь белую занавеску окна палец полуденного солнца удлиняется на потолке полотенце сухое и теплое пахнет паром из чемодана достаю штатский костюм одолженный мне одним знакомым парнем рядовой из последнего взвода Санитарного корпуса Дяди Сэма (номер... никак не мог запомнить номер все равно я уронил его в Луару) с журчаньем и шипеньем стекает по фановой трубе и щедро дав на чай и перемигнувшись с толстой женщиной собирающей полотенца
я выхожу в липовое благоуханье июльского послеобеда и захожу в кафе с маленькими столиками на открытом воздухе где только господа офицеры имеют право греть свои защитного цвета задницы и в ожидании парижского поезда заказываю коньяк лицам в военной форме подача запрещается и уверенно сажусь на железный стул
никому не известный штатский.
НОВОСТИ ДНЯ XXXIII
ОТКАЗЫВАЕТСЯ СОЗНАТЬСЯ В УБИЙСТВЕ СЕСТРЫ, ВОЗБУЖДАЕТ ИСК
Меня мутит
Меня мутит
Меня мутит с перепою
УГРОЗА МЫЛЬНОГО КРИЗИСА
с первыми бодрящими лучами солнца и возобновлением скачек в Париже возродилась нормальная жизнь. Десятки тысяч флагов всех наций свисают с веревок, протянутых от мачты к мачте, производя удивительное, поистине сказочное впечатление
ОБНАРУЖЕНЫ УГРОЖАЮЩИЕ ПИСЬМА
Я тебя обожаю родная страна
Но меня измотала война
Я бороться не прочь коль бороться судьба
Но какая же это борьба
в прихожей полиция обнаружила несколько таинственного вида пакетов, в каковых при вскрытии было найдено множество брошюр на еврейском, русском и английском языках и членских билетов союза Индустриальных Рабочих Мира
СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР УСУГУБЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ
ПОКУДА ОНИ БОЛТАЮТ О МИРЕ МИРОВАЯ ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТ СВИРЕПСТВОВАТЬ
агенты заявили, что аресты эти производятся по предписанию министерства иностранных дел. Операция была произведена столь неожиданно, что никто из задержанных не успел взять с парохода своего багажа. Вслед за тем был получен телеграфный протест двух коммерсантов из Люра; груз прибыл, мешки оказались вскрытыми и содержали обыкновенный строительный гипс. Огромная машина повисла колесами кверху на деревьях, а находившиеся в ней пассажиры свалились с высоты двадцати футов в поток
Боже боже война это ад
С тех пор как встретили спиртное
РЕЗНЯ В СЕУЛЕ 79 79. В марте 1919 г. в Корее произошло общенациональное восстание против господства в стране японских империалистов. На его подавление японские власти бросили войска и полицию; к концу апреля восстание было жестоко подавлено.
[Закрыть]
Меня мутит с пепеперепою
Верховный Прокурор Палмер Сообщает Что Министерство Юстиции Намерено Привлечь к Ответственности Консервных Фабрикантов
L'Ecole du Sfalheur Nous Rend Optimistes
[Школа несчастья сделала нас оптимистами (франц.)]
Единство Свободных Народов Обеспечит Справедливый Исход Парижской Мирной Конференции
более чем ясно, что Лига Наций лежит, разбитая вдребезги, на полу отеля "Крийон" и что скромный союз, который может с успехом заменить ее, представляет собой лишь черновой набросок
КАК ПОСТУПАТЬ С БОЛЬШЕВИКАМИ? РАССТРЕЛИВАТЬ ИХ!
НАСЕЛЕНИЕ ГАМБУРГА СТЕКАЕТСЯ ПОСМОТРЕТЬ НА ФОРДА
СЛУХИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ КРУПНОГО СИНДИКАТА
ПО РАЗРАБОТКЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ БОГАТСТВ АЗИИ
Когда паек урезать нам Гувер 80 80. Гувер, Герберт Кларк (1874-1964) – государственный деятель США, крупный промышленник. В 1919 г. возглавлял Американскую администрацию помощи, в задачи которой входило оказание продовольственной помощи европейским странам, пострадавшим в первую мировую войну.
[Закрыть]приказал
Я даже не поморщился и слова не сказал
Он нам урезал уголь и это нипочем
Теперь он собирается зарезать нас живьем
Allons-nous Assister и la Panique des sots?
[Примем ли мы участие в панике глупцов? (франц.)]
град камней обрушивался на крышу и разбивал окна, озверелые люди свистели в замочную скважину в то время как им предстояло принять ряд ответственнейших решений, которые настоятельно требовали спокойствия и рассудительности Президент не принял лидеров демократического движения
ЛИБКНЕХТ УБИТ ПО ДОРОГЕ В ТЮРЬМУ
ЭВЕЛИН ХЭТЧИНС
Эвелин переехала в маленькую квартирку на рю-де-Бюсси, на которой каждый день устраивался уличный базар. В доказательство того, что между ними ничего, в сущности, не произошло, Элинор подарила ей несколько раскрашенных итальянских панелей, чтобы оживить ими темную гостиную. В начале ноября возникли слухи о перемирии, а потом в один прекрасный день майор Вуд влетел в комнату, где работали Элинор и Эвелин, и вытащил их из-за стола и расцеловал обеих и заорал: "Наконец-то свершилось!" Эвелин не успела опомниться, как повисла на шее майора Мурхауза и поцеловала его прямо в губы. Управление Красного Креста превратилось в студенческое общежитие в ночь выигрыша футбольного первенства: ПЕРЕМИРИЕ.
У всех каким-то образом оказались бутылки коньяка, и все запели "Долгий путь туда ведет" и "La Madel-lon pour nous n'est pas severe" ["Мадлон к нам не строга" (франц.)].
Она, и Элинор, и Джи Даблью, и майор Вуд сели в такси и поехали в "Кафе-де-ла-Пе".
Почему-то они все время выпевали из такси, и на их место садились другие люди. Они хотели попасть в "Кафе де-ла-Пе", но, как только усаживались в такси, толпа останавливала их и шофер куда-то исчезал. Когда они наконец добрались до кафе, все столы оказались занятыми и во все двери вливались толпы поющих и танцующих людей, Тут были греки, польские легионеры, русские, сербы, албанцы в белых юбочках, шотландец с волынкой и множество девиц в эльзасских костюмах. Они никак не могли найти столика, и это их раздражало. Элинор предложила пойти куда-нибудь в другое место. Джи Даблью был рассеян и все рвался к телефону.
Один только майор Вуд, очевидно, получил удовольствие. Он был сед, носил маленькие седоватые усы и все время повторял: "Сегодня все позволено". Он и Эвелин поднялись наверх посмотреть, нет ли свободного места, и налетели на двух австралийцев, сидевших на бильярдном столе в окружении дюжины шампанского. Через несколько минут они уже пили шампанское с австралийцами. Им не удалось достать никакой закуски, хотя Элинор пожаловалась, что умирает от голода, и, когда Джи Даблью попробовал проникнуть в телефонную будку, он обнаружил там сплетенных в объятии итальянского офицера и какую-то девицу. Австралийцы были пьяны в лоск, и один из них утверждал, что это перемирие, по всей вероятности, не что иное, как новое гнусное измышление в целях пропаганды, поэтому Элинор предложила попробовать поехать к ней и там закусить. Джи Даблью сказал: да, они могут остановиться у Биржи, и он оттуда отправит кое-какие телеграммы. Ему необходимо снестись со своим маклером. Австралийцам не понравилось, что компания уходит, и они стали хамить.
Они долго стояли перед Оперой в центре мечущейся толпы. Уличные фонари были зажжены, серые очертания Оперы были обведены по карнизам мерцающими язычками газа. Их толкали и теснили. Не было ни автобусов, ни автомобилей, изредка они проходили мимо такси, застрявшего в толпе, словно камень в потоке. Наконец они натолкнулись в каком-то переулке на порожнюю машину Красного Креста. Шофер, бывший под мухой, сказал, что он пытается попасть в гараж и что он их, пожалуй, сначала завезет на набережную де-ла-Турнель.
Эвелин уже садилась в автомобиль, как вдруг все это показалось ей ужасно нудным и скучным. Через минуту она уже шагала под руку с маленьким французским матросом в толпе каких-то людей, одетых по большей части в польские мундиры и маршировавших за греческим флагом с пением "Брабансоны" 81 81. «Брабансона» – бельгийский национальный гимн.
[Закрыть].
Еще через минуту она заметила, что потеряла из виду автомобиль и свою компанию, и струсила. Она не узнавала даже улиц в этом новом Париже, полном дуговых фонарей, и флагов, и оркестров, и пьяных. Она плясала с маленьким матросом на асфальтовой площади перед церковью с двумя колокольнями, потом с французским колониальным офицером в красном плаще, потом с польским легионером, который немножко говорил по-английски и жил когда-то в Ньюарке, штат Нью-Джерси; потом она внезапно очутилась в кольце молодых французских солдат, которые плясали вокруг нее, взявшись за руки. Вся соль заключалась в том, что нужно было поцеловать кого-нибудь из них, чтобы вырваться из кольца. Поняв, что от нее требуется, она поцеловала одного из них, и все захлопали в ладоши и закричали "ура" и "vive l'Amerique". Подоспела еще одна ватага и тоже начала плясать вокруг нее, так что она в конце концов испугалась. У нее закружилась голова, но тут она заметила в толпе американский мундир. Она прорвала кольцо, опрокинув при этом маленького толстого француза, и повисла на шее американского солдата, и поцеловала его, и все кругом захохотали и заорали "ура" и "encore" [еще (франц.)]. Солдат, по-видимому, сконфузился, его спутник оказался Полом Джонсоном, приятелем Дона Стивенса.
– Понимаете, мне надо было кого-нибудь поцеловать, – вспыхнув, сказала Эвелин.
Солдат рассмеялся и был, очевидно, доволен.
– Надеюсь, вы не рассердились, мисс Хэтчинс, надеюсь, вы не рассердитесь – толпа, знаете ли, и все такое, – извинялся Пол Джонсон.
Народ прыгал, плясал и орал вокруг них, и, прежде чем их отпустили, ей пришлось поцеловать и Пола Джонсона. Он опять торжественно извинился и сказал:
– Не правда ли, это замечательно – быть в Париже во время перемирия и видеть все... не надо только сердиться на этих людей и вообще... право же, мисс Хэтчинс, они, в сущности, предобродушные ребята. Ни драк, ничего... А Дон сидит в кафе.
Дон стоял в кафе за небольшой цинковой стойкой и смешивал коктейли для целой кучи вдребезги пьяных канадских солдат и австрийских офицеров.
– Я не могу вытащить его оттуда, – шепнул Пол. – Он выпил больше чем следовало.
Они извлекли Дона из-за стойки. Никто из пьющих, по-видимому, не платил. В дверях он сорвал с головы серую фуражку и заорал: "Vive les quakers... и has la guerre!" [Да здравствуют квакеры... долой войну! (франц.)], и все закричали "ура!". Они долго бродили без цели, время от времени их окружала пляшущая толпа, и Дон целовал Эвелин. Он был шумно пьян, и ей не нравилось его поведение, он обращался с ней так, словно она была его девушкой. Когда они добрались до Плас-де-ла-Конкорд, она почувствовала усталость и предложила перейти на ту сторону реки и зайти к ней – дома у нее есть холодное мясо и салат.
Когда Дон умчался вслед за компанией эльзасских девушек, с пением и плясками шедших по направлению к Елисейским полям, Пол смущенно сказал, что, может быть, ему лучше не идти.
– Нет уж, теперь вы должны пойти со мной, – сказала она, – чтобы меня больше не целовали чужие мужчины.
– Только не думайте, мисс Хэтчинс, что Дон убежал нарочно. Он очень легко возбуждается, особенно когда пьян.
Она рассмеялась, и они молча пошли дальше.
Когда они дошли до ее дома, старуха консьержка вылезла, ковыляя, из своей будки и пожала обоим руки.
– Ah, madame, c'estla victoire [ах, мадам, мы победили (франц.)], сказала она, – но кто вернет мне моего убитого сына?
Эвелин почему-то не нашла ничего лучшего, чем дать ей пять франков, и она заковыляла обратно, певуче бормоча:
– Merci, m'sieur, madame [спасибо, мсье, мадам (франц.)].
Очутившись в маленькой квартирке Эвелин, Пол, по-видимому, окончательно сконфузился. Они съели все, что у нее было, до последней корки черствого хлеба, и завели довольно бессвязный разговор. Пол сидел на краешке стула и рассказывал о своих служебных командировках. Он сказал, что для него это было прямо чудом – попасть за границу и увидеть фронт и европейские города и познакомиться с такими людьми, как она и Дон, и он надеется, что она не сердятся на него за то, что он не разбирается во всем том, о чем она разговаривает с Доном.
– Если это действительно мир, то я просто не знаю, что мы все будем делать, мисс Хэтчинс.
– Зовите меня Эвелин, Пол.
– Я думаю, что это действительно мир, Эвелин, согласно четырнадцати пунктам Вильсона. Я лично считаю Вильсона великим человеком, что бы Дон ни говорил. Я знаю, что он в сто раз умней меня, и все-таки... Может быть, это была последняя война на земле, подумайте только...
Она надеялась, что он, уходя, поцелует ее, но он только неловко пожал ей руку и сказал одним духом:
– Надеюсь, вы не рассердитесь на меня, если я в следующий своей приезд в Париж опять зайду к вам.
На все время мирной конференции Джи Даблью получил в "Крийоне" номер, состоявший из нескольких комнат, его белокурая секретарша, мисс Уильямс, сидела за бюро в маленькой приемной, а Мортон, камердинер-англичанин, подавал под вечер чай. Эвелин любила, пройдя по дороге со службы под аркадами рю-де-Риволи, заглянуть вечерком в "Крийон". Старенькие коридоры отеля были полны снующих взад и вперед американцев. В большой гостиной Джи Даблью Мортон бесшумно разносил чай, расхаживали господа в мундирах и сюртуках, и в синем от папиросного дыма воздухе носились рассказанные вполголоса анекдоты. Джи Даблью пленял ее своим серым костюмом из шотландского твида с безукоризненной складкой на брюках (он больше не носил формы майора Красного Креста) и своими сдержанными, приятными манерами, смягченными рассеянным видом очень занятого человека – его то и дело звали к телефону, секретарша подавала ему телеграммы, время от времени он исчезал в нише окна, выходившего на Плас-де-ла-Конкорд, и шептался там с каким-нибудь важным посетителем или на минутку выходил из номера поговорить с полковником Хаузом, и все же, когда он передавал ей коктейль с шампанским, перед тем как они всей компанией отправлялись обедать, в те вечера, когда он бывал свободен от занятий, или спрашивал ее, не угодно ли ей чашку чаю, она на миг чувствовала на себе прямой взгляд его голубых мальчишеских глаз, в них было какое-то смешное, откровенное, несколько насмешливое выражение, которое интриговало ее. Ей хотелось узнать его поближе; Элинор, она это чувствовала, следила за ними, как кошка за мышью. "В конце концов, – все это время, твердила про себя Эвелин, – она не имеет никакого права. Ведь между ними, вероятней всего, ничего серьезного нет".
Когда Джи Даблью бывал занят, они часто выезжали с Эдгаром Роббинсом, который бил чем-то вроде помощника Джи Даблью. Элинор терпеть его не могла, она говорила, что в его цинизме есть что-то оскорбительное, но Эвелин любила слушать его. Он говорил, что мир будет еще страшней войны и хорошо, что никто никогда ни о чем не спрашивает его мнения, иначе он наверняка сел бы в тюрьму. Любимым местопребыванием Роббинса был трактир Фредди на Монмартре. Там они просиживали долгие вечера в тесных, прокуренных, переполненных комнатах, а Фредди, носивший большую белую бороду, как у Уолта Уитмена, играл на гитаре и пел. Иногда он напивался и угощал всех за свей счет. Тогда из задней комнаты появлялась его жена, сварливая баба, похожая на цыганку, и ругалась, и орала на него. Люди вставали из-за столиков и декламировали длинные стихотворения о La Grand'route, La Misere, L'Assassinat или пели старинные французские песни, как, например; Les Filles de Nantes [Большая дорога, Нищета, Убийство... Дочери Нанта (франц.)]. По окончании номера все присутствовавшие дружно аплодировали. Это называлось – устраивать бенефис. Фредди пригляделся к ним и, когда они появлялись, шумно приветствовал их – "Ah les belles Americaines" [А, прекрасные американки (франц.)]. Роббинс уныло пил кальвадос за кальвадосом, время от времени отпуская едкие замечания о текущих событиях и мирной конференции. Он говорил, что этот трактир липовый, кальвадос – мерзкий, а сам Фредди – грязный старый бродяга, но почему-то его постоянно сюда тянет.
Джи Даблью два раза ходил туда вместе с ними, и иногда они брали с собой какого-нибудь члена мирной делегации, на которого их знакомство с интимным парижским бытом производило огромное впечатление. Джи Даблью пришел в восторг от старинных французских песен, но сказал, что в этом трактире ему все время хочется чесаться, он убежден, что там водятся блохи. Эвелин любила смотреть на него, когда, полузакрыв глаза и откинув назад голову, он слушал пение. Она чувствовала, что Роббинс недооценивает богатых возможностей его натуры, и, когда он начинал говорить саркастическим тоном о "шишке", как он называл Джи Даблью, неизменно приказывала ему замолчать. Она считала, что в этих случаях Элинор не стоило смеяться, тем более что Джи Даблью так искренне предан ей.
Когда Джерри Бернхем вернулся из Америки и узнал, что Эвелин часто встречается с Дж.Уордом Мурхаузом, он ужасно возмутился. Он повел ее завтракать на левый берег в "Медичи грилл" и заговорил с ней об этом.
– Право же, Эвелин, я никак не предполагал, что вы поддадитесь на такой явный блеф. Этот тип не что иное, как обыкновеннейший рупор... Честное слово, Эвелин, я вовсе не требую от вас, чтобы вы влюбились в меня, я очень хорошо знаю, что я вам глубоко безразличен, да и как могло бы быть иначе?.. Но, черт возьми, этот рекламных дел мастер...
– Послушайте, Джерри, – сказала Эвелин с набитым ртом, – вы прекрасно знаете, что я вас обожаю... То, что вы говорите, просто-напросто скучно.
– Вы любите меня не так, как мне бы хотелось... Но к черту, не в этом дело... Вам вина или пива?
– Закажите приличное бургундское, Джерри, и велите его чуточку подогреть... Послушайте, ведь вы же сами написали статью о Джи Даблью... Я читала ее в "Геральде".
– Валяйте, валяйте, добивайте меня... Ей-богу, клянусь вам, Эвелин, я брошу это гнусное занятие и... ведь это же была ординарнейшая, старомодная болтовня, и я думал, что у вас хватит ума это понять. Черт возьми, до чего хороша рыба!
– Чудесная рыба... Но послушайте, Джерри, именно у вас должно быть побольше здравого смысла...
– Не знаю, я воображал, что вы не похожи на других светских дам, вы живете самостоятельно и все такое.
– Не будем ссориться. Джерри, давайте лучше веселиться, ведь мы в Париже, и война кончилась, и сегодня – чудесный зимний день, и все здесь...
– Война кончилась, как же! – грубо сказал Джерри.
Эвелин почувствовала, что он ей действует на нервы, и стала любоваться багряным блеском зимнего солнца, и старинным фонтаном Медичи, и нежно-лиловым кружевом обнаженных деревьев за высокой чугунной решеткой Люксембургского сада. Потом она поглядела на красное, напряженное лицо Джерри, на его вздернутый нос и редкие, мальчишески-курчавые, уже кое-где седеющие волосы; она нагнулась к нему и потрепала его по руке.
– Я понимаю, Джерри, вы видали вещи, которых я даже представить себе не могу... Вероятно, это пагубное влияние Красного Креста.
Он улыбнулся, подлил ей вина и сказал со вздохом:
– Эвелин, вы самая привлекательная женщина на свете... Но, как и всем женщинам, вам импонирует власть... Если главное для вас – деньги, то это деньги, если слава, то слава, если искусство, то вы – пламенная поклонница искусства... Вероятно, я такой же, но просто больше обманываю себя.
Эвелин сжала губы и ничего не сказала. Ей вдруг стало холодно, и жутко, и одиноко, и она не знала, что сказать. Джерри залпом выпил бокал вина и заговорил о том, что он бросит свое ремесло, и поедет в Испанию, и напишет книгу. Он не питает к себе ни малейшего уважения, но быть в наши дни газетным корреспондентом – нет, черт возьми, это уж слишком. Эвелин сказала, что она ни за что не вернется в Америку, она уверена, что поело войны там совсем невыносимо станет жить.