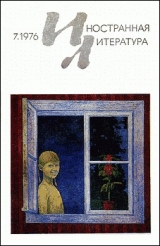
Текст книги "Жители пригорода"
Автор книги: Джон Чивер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Джон Чивер
Жители пригорода
Начать надо с того, что самолет, на котором Франсис Уид летел из Миннеаполиса в Нью-Йорк, попал в бурю. Небо сперва было мутно-голубое, а внизу сомкнуто лежали облака, так что земли не было видно вовсе. Потом за окнами замглился туман, и самолет влетел в белую тучу такой плотности, что на ней отражалось пламя выхлопа. Из белой туча стала серой, и самолет начало болтать. Франсису доводилось уже попадать в болтанку, но не в такую. Сидевший рядом пассажир вытащил из кармана фляжку и отпил. Франсис улыбнулся соседу, но тот отвел глаза, не собираясь ни с кем делиться своим успокоительным напитком. Самолет кидало вниз и в стороны. Плакал ребенок. Воздух в салоне был перегретый и спертый; левая нога у Франсиса затекла. Он раскрыл книжку, которую купил в киоске в аэропорту, но буря, свирепевшая снаружи, мешала сосредоточиться на чтении. За иллюминаторами было черно. Из выхлопных труб выпыхивал огонь, летели во тьму искры; а внутри тут абажуры, духота и шторы придавали салону несуразный густо домашний оттенок. Затем свет замигал и погас.
– Я ведь о чем всегда мечтал? – неожиданно произнес сосед. – Мечтал купить ферму в Нью-Гэмпшире и разводить мясной скот.
Стюардесса объявила, что сейчас будет произведена вынужденная посадка. Над всеми зримо распростер крылья Ангел Смерти; только ребенок не ощутил их взмаха. Стало тихо. Слышно стало, как пилот в кабине напевает: «У меня шесть пенсов, серебряных шесть пенсов. Как бы ухитриться и прожить на них весь век...»
Заглушив песенку пилота, взвыли гидравлические клапаны, вверху что-то визгнуло, как тормоза автомобиля, и самолет лег на брюхо среди кукурузного поля – тряхнуло так, что старик, сидевший впереди, застонал: «Ох, спина моя! Почки мои!» Стюардесса распахнула дверь, кто-то открыл аварийный задний люк, и в салон вошел отрадный шум продолжающегося существования, ленивый плеск и запах ливня. Один за другим они выскочили из самолета и рассыпались по полю кто куда, оберегая жизнь, молясь, чтобы не оборвалась ее нить. И нить не оборвалась. Когда стало ясно, что самолет не загорится и не взорвется, стюардесса и другие члены экипажа собрали пассажиров и повели под крышу ближнего сарая. Приземлились они неподалеку от Филадельфии, и вскоре вереница такси доставила их в город. «Как в войну на Марне», – проговорил кто-то; однако подозрительность, с которой многие американцы относятся к своим дорожным спутникам, почти вся и теперь осталась, как это ни удивительно.
В Филадельфии Уид сел в поезд. Доехал до Нью-Йорка, пересек его с юга на север и как раз поспел на электричку, которой пять вечеров в неделю ездил со службы домой.
В вагоне он сел рядом с Трейсом Бирденом.
– А знаете, – сказал он, – я сейчас с самолета, что чуть не разбился под Филадельфией. Мы сделали посадку на поле...
Он опередил и газеты и дождь, погода в Нью-Йорке стояла солнечная, тихая. Был конец сентября, день круглился и пахнул, как яблоко. Трейс выслушал рассказ без волнения. Да и откуда возникнуть волнению? Воспроизвести словами эту встречу со смертью Франсис был не в силах – тем более в электричке, идущей трущобными и солнечными предместьями, где в тесных садиках уже начинался сбор плодов. Трейс развернул газету, и Франсис остался один со своими переживаниями. На остановке Тенистый Холм он простился с Трейсом, сел в свой подержанный «фольксваген» и поехал домой.
Дом стоял на участке Бленхоллоу, стилем своим подражая коттеджам голландских поселенцев колониальных времен. Он был просторнее, чем кажется, когда подъезжаешь к нему. Общая комната была обширна и делилась на три части, как Галлия [1]1
«Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря начинаются словами: «Вся Галлия делится на три части...»
[Закрыть]. В загибающейся влево части был длинный, на шестерых, стол со свечами и с фруктовой вазой посредине. Из открытой в кухню двери шел аппетитный запах и доносилось скворчанье: Джулия Уид готовила вкусно. Центром средней, самой большой, части служил камин. Справа были книжные полки и рояль.
Комната блистала чистотой и спокойным порядком, и в окна, выходящие на запад, еще тек ясный свет предосеннего солнца, прозрачный, как вода. Ничто здесь не было в забросе, глянец был на всем. На столике здесь не наткнешься на жестяную коробку с тугой крышкой, где внутри вместо сигарет – старая пуговица от рубашки и потускневший пятак. В камине не увидишь вчерашней золы. На рояле стояли розы, отражаясь в лакированной широкой крышке; на пюпитре – альбом шубертовских вальсов. Луиза Уид, девятилетняя хорошенькая девочка, смотрела в закатное окно. Ее младший брат Генри стоял рядом. Самый же младший, Тоби, присел у каминного ящика для дров и разглядывал на его отполированной меди выпуклые фигуры католических монахов, пьющих пиво. Франсис снял шляпу, положил газету; не то чтобы он сознательно любовался этой сценой – он вдаваться в созерцание не привык. Здесь было его гнездо, родное, созданное им, и он возвращался сюда с тем чувством облегчения и обновления сил, с каким всякое живое существо возвращается к себе домой.
– Привет, ребята, – сказал он. – Самолет, на котором я...
В девять вечеров из десяти ребята встречают отца радостно; однако сегодня они перессорились. Не успел Франсис досказать о самолете, как Луиза получает от Генри пинок ниже спины. Она оборачивается к нему с возмущенным: «У, проклятый!»
– Стыдно ругаться, – укоряет ее Франсис и совершает этим ошибку – прежде надо было одернуть Генри. Луиза вскидывается на отца: Генри – его любимчик, Генри всегда прав, а ее обижают, и никто не заступится; несчастная ее судьба навеки.
– Ты что дерешься? – поворачивается Франсис к сыну, но у того готово оправдание – она его ударила первая; она его в ухо ударила, а в ухо бить опасно. Да, ударила, гневно подтверждает Луиза. Да, в ухо, потому что он перемешал ей все тарелочки и чашечки. Врет она, говорит Генри. Не врет, говорит малыш Тоби, повернувшись от дровяного ящика. Генри зажимает ему рот рукой. Франсис оттаскивает Генри, но толкает ненароком малыша Тоби в ящик. Тоби плачет, а Луиза еще раньше заплакала. И тут выходит из кухни к столу Джулия Уид. Это женщина красивая, умная, и проседь в волосах ее не означает старости. Она словно не замечает происходящего.
– Здравствуй, милый, – безмятежно говорит она мужу. Чиркнув спичкой, зажигает все шесть свечей в этой юдоли слез. – Мойте руки, обед готов.
Простые эти слова действуют как боевой шотландский клич вождя на воинственных горцев. Схватка вспыхивает с новой яростью. Луиза тычет Генри кулаком в плечо. Генри не плакса, но сегодня он наигрался в софтбол [2]2
Облегченный вариант бейсбола.
[Закрыть]до упада. Он разражается слезами. Малыш Тоби обнаруживает у себя в пальце занозу и подымает рев. Франсис громко заявляет, что устал, что чуть не погиб в катастрофе. Снова входит из кухни Джулия и, по-прежнему не обращая внимания на бедлам, просит Франсиса подняться наверх и позвать к столу старшую дочь, Элен. Франсис идет с охотой – это как возврат с передовой в штабную роту. Он собирается рассказать дочери про аварию, но Элен, лежа на кровати, читает «Тру ромэнс», и Франсис тут же отнимает журнал и напоминает ей, что запретил его покупать. Она не покупала, отвечает Элен. Ей дала Бесси Блейк, лучшая ее подружка. Все читают «Тру ромэнс». Отец Бесси читает «Тру ромэнс». Любая девочка в их классе читает «Тру ромэнс». Выразив сильнейшее отвращение к журналу, Франсис говорит затем, что все уже сидят за столом, – хоть, судя по шуму внизу, это не так. Вслед за отцом Элен спускается вниз. Горят свечи, Джулия заняла свое место, развернула на коленях салфетку. Ни Луиза, ни Генри еще не сели. Малыш Тоби ревет, уткнувшись носом в пол.
– Папа сегодня в аварию попал, – мягко говорит ему Франсис. – Вот послушай, Тоби, как это случилось. – Тоби продолжает реветь. – Если не сядешь за стол сейчас, – говорит Франсис, – то отправишься спать голодный.
Малыш поднимается с пола и, бросив на отца злой взгляд, убегает наверх к себе в детскую и хлопает дверью.
– О боже, – говорит Джулия и встает, чтобы идти за Тоби.
Она его вконец избалует, говорит Франсис. Тоби десять фунтов не добрал до положенного веса, говорит Джулия, и его надо усиленно питать. Не за горами холода, и он проболеет всю зиму, если не будет обедать. Джулия уходит наверх. Франсис и Элен садятся за стол. В погожий день зачитываться не следует, а Элен зачиталась до оскомины – и глядит на отца и на все вокруг блеклым взглядом. До нее не доходят слова о буре и аварии, потому что на Тенистый Холм не упало ни дождинки.
Возвращается Джулия с Тоби, вся семья садится, Джулия разливает по тарелкам суп.
– Не могу видеть эту противную толстуху, – говорит Генри, имея в виду Луизу. Все, кроме Тоби, ввязываются в перепалку, и она не утихает минут пять. Затем Генри подымает салфетку с шеи на лоб и ест из-под салфетки, в итоге рассыпав шпинат на рубашку. Нельзя ли давать детям обед пораньше? – спрашивает Франсис Джулию. У Джулии есть что ответить на этот вопрос. Готовить два обеда и дважды накрывать на стол она не может. Молниеносными ударами кисти Джулия набрасывает картину домашней каторги, сгубившей молодость ее, красоту ее и ум. Франсис просит понять его правильно: он чуть не погиб в авиационной катастрофе, и он не хочет, чтобы его встречало дома ежевечернее сражение. Теперь Джулия задета не на шутку. Голос ее дрожит. Никаких ежевечерних сражений нет и в помине. Обвинять в этом глупо и нечестно. До его прихода все было спокойно. Она умолкает, кладет вилку и нож и смотрит в тарелку, как в темную бездну. Она плачет.
– Бедная мамочка, – говорит Тоби; Джулия встает из-за стола, вытирая слезы салфеткой, и Тоби присоединяется к ней. – Бедная мамочка, – говорит он. – Бедная мамочка. – И они вдвоем уходят наверх. Потом и остальные покидают поле битвы, и Франсис выходит в сад покурить и подышать воздухом.
Сад у Уидов приятный – с дорожками, клумбами, скамейками. Закат почти догорел, но еще светло. После аварии, после сражения Франсис задумчиво притих и слушает вечерние звуки Тенистого Холма. «Объедалы! Мошенники! – гонит старый мистер Никсон белок от птичьих кормушек. – Сгиньте с глаз моих!» Дверь хлопнула. Играют в теннис у Бэбкоков на корте; подстригает кто-то траву. Затем Дональд Гослин, живущий в угловом доме, заиграл «Лунную сонату». Он занимался этим почти каждый вечер. Знать не желая бетховенских темпов, он играл ее rubato с начала до конца, превращая в излияние слезливой хандры, тоски и жалости к себе, – а тем и велик Бетховен, что чужд всего такого. Звуки разносились под деревьями вдоль улицы, как мольба о любви и нежности, обращенная к какой-нибудь горничной – незамужней, свежелицей ирландке, которая скучает по родному Голуэю и глядит на старые любительские снимки у себя в комнате под самой крышей.
– Юпитер, сюда, Юпитер, – позвал Франсис охотничьего пса Мерсеров. С растерзанной фетровой шляпой в зубах Юпитер рванулся через гряды помидоров.
Юпитер был здесь разительным отклонением от нормы. Его охотничьи азарт и резвость не вязались с Тенистым Холмом. Пес был угольно-черен, с длинной, чуткой, умной, шалой мордой. В глазах блестело озорство, голова была высоко поднята. Такие горделивые, с широким ошейником, собачьи головы встретишь в геральдике, на гобеленах; встречались они раньше и на ручках зонтиков и набалдашниках тростей. Юпитер рыскал где вздумается, разоряя мусорные ящики, корзины с хламом, срывая белье с веревок. Он вносил хаос в пикники и теннисные матчи, лаял у церкви Христа на людей в красных ризах, мешая воскресной процессии. По два и по три раза в день он проносился через розарий старого Никсона, круша кусты «Кондеса де Састагос» и оставляя за собой форменные просеки. А когда в сумерки по четвергам Дональд Гослин разжигал под вертелом огонь, Юпитер тут же учуивал поживу. Ничем нельзя было его прогнать – ни окриком, ни камнями, ни палкой. Его бравая геральдическая морда так и оставалась торчать у самой террасы. И стоило Дональду Гослину отвернуться за солью, как Юпитер впрыгивал на террасу, с легкостью сдергивал с вертела кусище вырезки и уносился – с обедом семейства Гослинов в зубах. Дни Юпитера сочтены. Не сегодня-завтра его отравит немец-садовник Райтсонов или кухарка Фаркерсонов. Даже старый мистер Никсон может подсыпать мышьяку в отбросы, до которых Юпитер лаком. «Юпитер, сюда, Юпитер!» – позвал Франсис, но пес пронесся мимо, терзая шляпу белыми зубами. Обернувшись к окнам дома, Франсис увидел, что Джулия сошла вниз и гасит свечи.
Джулию и Франсиса Уидов то и дело звали в гости. В Тенистом Холме Джулию любили, и она любила общество; ее общительность проистекала из вполне естественного страха перед одиночеством и непорядком. Свою утреннюю почту Джулия разбирала с волнением, ища в конвертах приглашения и обычно находя их; но она была ненасытна, и хоть сплошь забей неделю приглашениями, все равно во взгляде ее осталось бы нечто такое, словно Джулия прислушивалась к отдаленной музыке, – потому что и тогда бы ее беспокоила мысль, что где-то в другом месте вечер удался еще великолепней. С понедельника по четверг Франсис ограничивал ее порыв: оставлял вечера два свободных от приема гостей и хождения в гости; бывала иногда незанята и пятница, но уж по уикэндам страсть Джулии к общению несла Франсиса, как ураган – щепку. На следующий день после авиационной катастрофы им предстоял ужин у Фаркерсонов.
Франсис поздно приехал в этот день с работы; пока он переодевался, Джулия вызвала по телефону «няню», чтобы посидела с детьми, и скорей потащила мужа в машину. У Фаркерсонов собралась небольшая и приятная компания, и Франсис настроился славно провести вечерок. Напитки подавала гостям новая прислуга, черноволосая, с бледным лицом. Оно показалось Франсису знакомым. Память эмоциональная, память чувств была у Франсиса чем-то остаточным, как аппендикс. Он не развивал ее в себе. Дым костра, сирень и прочие ароматы не будили в нем никаких нежных чувств. Он отнюдь не страдал неспособностью уйти от прошлого; пожалуй, изъян его состоял как раз в том, что уход от прошлого ему так удавался. Допустим, он эту прислугу видел у других хозяев или же в воскресенье на улице; но почему, однако, она застряла в памяти? Она была круглолицей, даже луноликой, как бывают ирландки и нормандки, но не настолько уж красивой, чтобы запомниться ему. Определенно, он видел ее где-то при особых обстоятельствах. Он справился о ней у хозяйки. Нелли Фаркерсон сказала, что наняла ее через агентство, что она родом из Нормандии, из Тренона – небольшого селения с церковью и ресторанчиком; Нелли побывала там, когда ездила во Францию. Нелли принялась рассказывать о своих поездках за границу, но Франсис уже вспомнил. Было это в конце войны. Прибыв на пересылочный пункт, он получил вместе с другими увольнительную на три дня в Тренон. На второй день они пошли в поле смотреть, как будут всенародно наказывать молодую женщину, которая во время оккупации жила с немецким комендантом.
Было прохладное осеннее утро. С пасмурных небес на перекресток грунтовых дорог падал удручающе серый свет. С возвышенности было видно, как тянутся к морю облака и холмы, монотонно схожие друг с другом. Привезли ту женщину – она сидела на телеге, на треногом табурете. Сойдя с телеги, она слушала с опущенной головой, как мэр читает обвинительный акт и приговор. На лице ее застыла та слепая полуулыбка, за которой корчится на дыбе душа. Когда мэр кончил, она распустила волосы, рассыпала по спине. Седоусый, маленького роста человек остриг ее большими ножницами, бросил волосы на землю. Взбив пену в миске, обрил ее затем опасной бритвой наголо. Подошла крестьянка, стала расстегивать ей платье, но обритая, оттолкнув ее, разделась сама. Стащила через голову сорочку, кинула наземь и осталась в чем мать родила. Раздались насмешливые возгласы женщин; мужчины молчали. На губах обритой была все та же притворная и жалобная улыбка. От холодного ветра ее белая кожа стала гусиной, соски напряглись. Насмешки постепенно стихли, их пригасило сознание чего-то общечеловеческого. Одна из толпы плюнула на нее, но ненарушимое какое-то величие наготы продолжало ощущаться. Когда толпа смолкла, опозоренная повернулась, плача теперь, и – голая, в чулках и черных сбитых туфлях – пошла по дороге прочь от селения... Круглое белое лицо немного постарело, но сомнений не было – разносила коктейли и затем подавала обед та самая, наказанная на распутье дорог.
Война теперь казалась такой давней, мир, в котором за причастность карали смертью или пыткой, словно бы ушел в далекое прошлое; Франсис потерял связь с однополчанами. Поделиться с Джулией рискованно. Никому нельзя сказать. Расскажи он сейчас за обедом эту историю, выйдет не только по-человечески нехорошо, но и не в тон. Общество, собравшееся тут, как бы молча и единодушно согласилось отбросить прошлое, войну – условилось, что в мире нет ни тревог, ни опасностей. В летописи хитросплетенных человеческих судеб эта необычная встреча нашла бы свое место, но в атмосфере Тенистого Холма вспоминать такое было дурным тоном, бестактностью. Подав кофе, нормандка ушла, но эпизод этот распахнул память и чувства Франсиса – и оставил их распахнутыми. Вернувшись с Джулией к себе в Бленхоллоу, он остался за рулем машины, чтобы отвезти домой женщину, сидевшую с детьми.
Обычно с детьми сидела старая миссис Хенлейн, и он удивился, когда из дверей на освещенную веранду вышла юная девушка. Остановилась там, пересчитала свои учебники. Она хмурилась и была прекрасна. На свете много красивых девушек, но Франсис осознал сейчас разницу между красивым и прекрасным. Не было на этом лице места всяким милым родинкам, пятнышкам, изъянцам, шрамикам. В мозгу Франсиса точно раздался могучий музыкальный звук, разбивающий стекло, и его пронизала боль узнавания, – странная, сильнейшая, чудеснейшая в жизни. И все исходило от девушки, от сумрачно и юно сдвинутых бровей, и было как зов к любви. Проверив свои книги, она сошла с веранды и открыла дверцу машины. Щеки ее мокро блестели под фонарем. Она села, захлопнула дверцу...
– Вы у нас не были раньше, – сказал Франсис.
– Нет. Я – Энн Мэрчисон. Миссис Хенлейн больна.
– Наверно, дети вас затеребили?
– Нет, нет. – И в слабом свете от приборного щитка он увидел ее печальную улыбку, обращенную к нему. Она тряхнула головой, высвобождая из воротника жакетки свои светлые волосы.
– Вы плакали?
– Да.
– Но это не связано с вашим дежурством у нас?
– Нет, нет, не связано. – Голос ее звучал тускло. – Тут нет секрета. Весь наш поселок знает. Мой папа – алкоголик, он сейчас звонил из какого-то бара и ругал меня, обзывал распущенной. Он звонил как раз перед приходом миссис Уид.
– Вам можно посочувствовать.
– О господи! —Она всхлипнула и заплакала, повернувшись к к Франсису. Он обнял ее, она плакала, уткнувшись в его плечо и вздрагивая, и от этого еще живей ощущалась гибкость, ладность ее тела, отделенного лишь такой тонкой прослойкой одежды. Вздрагивания стали тише, и это до того напоминало содрогания любви, что, теряя голову, Франсис грубо прижал Энн к себе. Она отстранилась.
– Я живу на Бельвью авеню, – сказала она. – Отсюда надо вниз по Лансинг-стрит до железнодорожного моста.
– Хорошо. – Он включил стартер.
– У светофора поверните влево... А теперь вправо – и прямо к полотну.
Путь лежал через рельсы, к реке, на улицу, где жила полубеднота, где от домов с островерхими крышами и резными карнизами веяло неподдельной и гордой романтикой, хотя домики эти мало могли дать уюта или уединения – слишком тесны они были. Темнела улица, и, взбудораженный печальным изяществом и прелестью девушки, он въехал туда, словно нырнул в самую глубь подспудного воспоминания. Лишь крыльцо одного из домов светилось вдалеке.
– Вон там я и живу, – сказала Энн.
Подъехав и остановив машину, он увидел за стеклом крыльца тускло освещенную переднюю со старомодной стоячей вешалкой.
– Ну вот и приехали, – сказал он и подумал, что у человека молодого нашлись бы другие слова.
Все так же держа свою стопку учебников, она обернулась к Франсису. В глазах у Франсиса стояли слезы вожделения. Решительно – без грусти – он открыл дверцу, обошел машину, распахнул правую дверцу. Взял Энн за руку, сплетя ее пальцы со своими, взошел вместе с ней на две бетонные ступеньки перед калиткой, прошел узкой дорожкой через палисадник, где еще цвели и горько-сладко пахли в темноте розы, георгины, ноготки, не тронутые легкими утренниками. У крыльца она отняла руку, повернулась и быстро поцеловала его. Поднялась на крыльцо и закрыла за собой дверь. Погас свет на крыльце, затем в передней. Секундой позже зажглось боковое окно наверху и осветилось дерево с еще не опавшей листвой. Две-три минуты – и она уже легла, и свет потух везде.
Когда Франсис вернулся домой, Джулия спала. Он растворил второе окно и лег в постель, чтобы предать забвению этот вечер, – но как только закрыл глаза, уснул, в мозг вошла та девушка, свободно проникая через запертые двери и наполняя все отсеки своим светом, своим ароматом, музыкой своего голоса. Он плыл с ней через Атлантический океан на «Мавритании», жил с ней затем в Париже. Очнувшись, он встал и выкурил сигарету у открытого окна. Вернулся в постель и стал отыскивать в уме что-нибудь желанное, но такое, чем можно заняться во сне никому не в ущерб, и нашел – лыжи. Сквозь дремоту перед ним выросла гора в снегах. Вечерело. Вокруг радовал глаза простор. За спиной внизу была заснеженная долина, ее обступили лесистые холмы, и деревья рябили белизну, как негустая меховая ость. Холод глушил все звуки, только лязгал железно и громко механизм подъемника. Свет на лыжне делался все синей, и с каждой минутой труднее было правильно выбирать повороты, оценивать наст, примечать – на густо-синем уже снегу – обледенелости, проплешины, глубокие сугробы сухой снежной пыли. Он скользил с горы, соразмеряя скорость с рельефом ската, оглаженного льдами первого ледникового периода, – и ревностно отыскивая выход в простоту чувств и положений. Смерклось, и он со старым другом пил «Мартини» в грязном пригородном баре.
Утром снежная гора ушла, а живая память о Париже и «Мавритании» осталась. Вчерашнее внедрилось не на шутку. Он обдал тело душем, побрился, выпил кофе и опоздал на семь тридцать одну. Только подрулил к станции, как электричка отошла, и он глядел вслед упрямо уходящим вагонам, точно вслед капризной возлюбленной. Дожидаясь электрички восемь ноль-две, он стоял на опустевшей платформе. Утро было ясное; утро легло лучистым световым мостом через путаницу переживаний. Он был в лихорадочно приподнятом настроении. Образ девушки словно связывал его с миром таинственными и волнующими узами родства. Автостоянка уже заполнялась, и он заметил, что машины, прибывшие с возвышенности за Тенистым Холмом, белы от инея. Этот первый четкий признак осени радостно взбодрил его. По среднему пути шел поезд, ночной экспресс из Буффало или Олбани, и на крышах головных вагонов он увидел ледяную корку. Пораженный небывалой ощутимостью, телесностью всего, он улыбался пассажирам за стеклами вагона-ресторана – они ели яичницу, вытирали салфетками губы, проезжали. Сквозь свежее утро тянулись спальные купе с измятыми постелями, как вереница гостиничных окон. И в одном из этих спальных окон Франсис увидел чудо: неодетую красавицу, расчесывавшую золото волос. Она проплыла через Тенистый Холм как видение, и Франсис проводил ее неотрывным взглядом. Затем на платформу поднялась старая миссис Райтсон и заговорила с ним.
– Вас уже, наверно, удивляет, что я третье утро подряд езжу в город, – сказала она, – но из-за этих гардин я сделалась настоящей пассажиркой. В понедельник привезла из магазина, а во вторник съездила обменяла их на другие, а сегодня еду обменивать взятые во вторник. В понедельник я взяла как раз что мне нужно – шерстяные драпри с вытканными розами и птицами, – но дома обнаружила, что не подходят по длине. Я обменяла вчера, а привезла домой – опять не та длина. Теперь я молюсь господу, чтобы у драпировщика нашлась нужная длина. Вы ведь знаете мой дом и какие в моей гостиной окна и можете понять всю сложность проблемы. Не знаю, что мне и делать с этими окнами.
– А я знаю, что вам делать, – сказал Франсис.
– Что же?
– Замазать их черной краской изнутри – и заткнуться.
Миссис Райтсон ахнула; Франсис твердо поглядел на нее с высоты своего роста, давая понять, что это не обмолвка и не шутка. Миссис Райтсон повернулась и пошла прочь, уязвленная настолько, что даже захромала. А Франсисом опять владело удивительное ощущение, точно струящийся, переливающийся свет, – он представлял, как расчесывает свои волосы Венера, проплывая теперь через Бронкс. «Сколько, однако, уже лет я не грубил так – с намерением, с удовольствием», – подумал он, трезвея. Бесспорно, среди его знакомых и соседей есть яркие, одаренные люди, но есть и немало скучных, глупых, а он прислушивается ко всем ним с равным вниманием. Это у него не любовь к ближнему, а неразборчивость, он спутал одно понятие с другим – и путаница губит все. Спасибо девушке за бодрящее чувство независимости.
Пели птицы – последние дрозды и кардиналы. Небо блестело, как эмалевое. Даже запах краски от утренней газеты обострял его вкус к жизни, и мир, простиравшийся вокруг, был, безусловно, раем.
Если бы Франсис верил в духов и богов любви – в амуров с луками, в каверзы Венеры и Эрота – или хотя бы в любовные напитки, колдовские зелья, привороты, лунную ворожбу, то мог бы этим объяснить теперешний горячечный подъем и обостренность ощущений. Он был достаточно наслышан об осенней, о поздней любви и явно столкнулся с ней теперь лицом к лицу, но в его чувстве не было ничего осеннего. Ему хотелось резвиться в зеленых лесах, пить из одного бокала, утолять любовный зуд вовсю.
Его секретарша, мисс Рейни, пришла сегодня с опозданием – она три раза в неделю заходила с утра к психиатру. «А любопытно, что бы психиатр посоветовал мне», – подумал Франсис. Но ведь вместе с девушкой в жизнь его снова входила как бы музыка. Однако сознание того, что эта музыка может привести его прямиком в окружной суд, на скамью подсудимых, как насильника, резко остудило его радость. Со стены его укорял пляжный снимок – четверо его детей на Веселом Мысу глядят, смеясь, в объектив фотокамеры. На печатном бланке его фирмы был изображен Лаокоон, и фигуры жреца и сыновей в удушающих змеиных кольцах полны были самого глубокого смысла.
В перерыве он сидел в кафе с Пинки Трейбертом, и тот угостил его парочкой неприличных анекдотов. В разговорах его друзья держались уровня земного и нещепетильного, но он знал – обнаружься только, что он посягнул на школьницу-няню, и карточный домик нравственности рухнет на него, на Джулию и на детей тоже. Он поискал в памяти, нет ли в недавней хронике Тенистого Холма какого-нибудь сходного примера, и не нашел ничего. За все те годы, что он жил здесь, не было ни одного развода, ни даже семейного скандала. Все шло беспорочней и благопристойней, чем в самом царстве небесном. Простившись с Пинки, Франсис завернул к ювелиру и купил браслет для Энн. Сколько счастья доставила ему эта секретная покупка, как важничали и комичны были продавцы, как душисто веяло от женщин, проходивших за спиной! На Пятой авеню, взглянув на Атланта, гнущего плечи под грузом Вселенной, Франсис подумал, что тяжко это – всю жизнь держать себя, телесного, живого, в однажды надетых шорах.
Он не знал, когда снова увидится с Энн. Он приехал домой, храня браслет во внутреннем кармане. Открыл дверь и в передней увидел ее. Она стояла спиной к нему и обернулась на стук двери, одарив его открытой и любящей улыбкой. Безупречность ее красоты ослепила его, как светозарный день после грозы. Он обхватил ее, прижался губами к губам, а она вырывалась, но долго вырываться ей не пришлось – послышался голосок невесть откуда взявшейся Гертруды Флэннери: «О, мистер Уид...»
Гертруда была перекати-поле, а не девочка. От рожденья в ней сильна была тяга к странствиям и открытиям, и усидеть дома с любящими родителями было ей невмоготу. Люди, не знавшие семейства Флэннери, по бродячим повадкам Гертруды заключали, что дома у нее вечный раздор и пьяные свары. Но они ошибались. Обтрепанные одежки Гертруды свидетельствовали лишь о ее победе над усилиями матери одеть девочку тепло и опрятно. Говорливая, тощая и немытая, Гертруда странствовала по Бленхоллоу из дома в дом; ее влекло к младенцам, животным, детям ее возраста, подросткам и, реже, взрослым. Открываете вы утром переднюю дверь – на крыльце у вас сидит Гертруда. Входите в ванную побриться – и натыкаетесь там на Гертруду. Заглядываете в кроватку малыша – там пусто; оказывается, Гертруда увезла его в коляске в соседний поселок. Она была услужлива, вездесуща, честна, голодна и преданна. Домой ее приходилось выпроваживать. Засиживалась она безбожно. «Иди домой, Гертруда», – слышалось вечер за вечером то в одном, то в другом доме. «Иди же домой, Гертруда». «Тебе пора домой, Гертруда». «Опоздаешь к ужину, Гертруда». «Я полчаса назад тебе сказала – иди домой, Гертруда». «Твоя мама будет беспокоиться, Гертруда». «Иди домой, Гертруда, иди домой».
Бывает, складки человечьих век покажутся жесткими, точно из обветренного камня, а глаза глянут так пристально и люто, что просто теряешься. Франсис бросил на Гертруду взгляд, странный, нехороший, и та испугалась. Франсис порылся в кармане – руки его дрожали – и вынул четверть доллара. «Иди домой, Гертруда, иди домой и никому не говори, Гертруда. Не го...» Он задохнулся и поспешно ушел в комнату, а сверху голос Джулии уже торопил его одеваться и ехать.
Мысль, что позднее сегодня он повезет Энн Мэрчисон домой, золотой нитью прошила весь вечер, и Франсис хохотом встречал тупые остроты и утер слезу, когда Мейбл Мерсер сообщила ему, что у нее умер котенок, – и позевывал, вздыхал, покряхтывал, потягивался, как всякий, кто нетерпеливо ждет свидания. Браслет лежал в кармане. В ноздрях у Франсиса был запах травы, и он под шумок разговоров прикидывал, где укромней будет поставить машину. В особняке старого Паркера никто не живет, и подъездная аллея служит «приютом влюбленных». Таунсенд-стрит упирается в тупик, и можно заехать туда, за последний дом. Проулок, что раньше соединял Элм-стрит с рекой, весь зарос кустарником, но он гулял там с детьми и помнит, как въехать и укрыть машину в зарослях.
Уиды прощались с хозяевами последние; вчетвером они стояли в прихожей, и хозяева не скрывали от них своего супружеского счастья.
– Она моя богиня, – говорил муж, прижимая к себе жену. – Она мое синее небо. Шестнадцать лет живем, а я и теперь кусаю ее в плечи. Чувствую себя с ней Ганнибалом, берущим перевалы Альп [3]3
В 218 году до нашей эры Ганнибал перешел через Альпы с войском, включавшим боевых слонов, и с севера двинулся на Рим.
[Закрыть].








