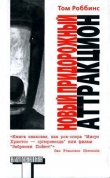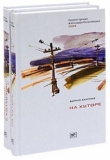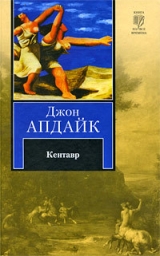
Текст книги "Кентавр (2009г.)"
Автор книги: Джон Апдайк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
– Не беда, – сказал я ей благодушно. – Ты на меня погляди. Рубашка совсем разлезлась.
И это была правда: на груди у меня остались только лохмотья да прилипшие кое-где красные нитки. Мой псориаз был у всех на виду. Выстроилась очередь, и они проходили мимо меня друг за другом – Бетти Джен Шиллинг, Фэтс Фраймойер, Глория Дэвис, пряча улыбку, диабетик Билли Шупп все мои одноклассники. Наверно, встретились в автобусе. Каждый рассматривал мои струпья и молча отходил. Некоторые печально качали головами; одна девочка сжала губы и зажмурилась; кое у кого глаза были распухшие и заплаканные. Ветер упал, вершины гор у меня за спиной безмолвствовали. Скала, на которой я лежал, стала мягкой, как будто ее подбили ватой, и я почувствовал острый химический запах, заглушаемый искусственным ароматом цветов...
Последним подошел Арни Уорнер, староста выпускного класса, председатель ученического совета, капитан футбольной и бейсбольной команд. У него были глубоко посаженные глаза, красивая, как у бога, шея и мускулистые покатые плечи, мокрые – только что из-под душа. Он наклонился, разглядывая струпья на моей груди, и опасливо коснулся одного указательным пальцем.
– Ого, старик, – сказал он. – Что это у тебя? Сифилис?
Я попытался объяснить:
– Нет, это аллергическое состояние, незаразное, не бойся...
– А к доктору ты ходил?
– Ты не поверишь, но доктор сам...
– Кровь идет? – спросил он.
– Только если расчесать, – пролепетал я, готовый пресмыкаться перед ним, только бы вымолить прощение. – Так приятно почесать их, когда читаешь или сидишь в кино...
– Ну и ну, – сказал он. – Сроду такой гадости не видал. – Он, нахмурясь, пососал указательный палец. – Вот я до тебя дотронулся и теперь тоже заболею. Скорей сделайте мне укол.
– Честное слово, провалиться мне, если вру, это не заразно...
– Скажем со всей прямотой, – заявил он, и по тому, как глупо-торжественно прозвучали эти слова, я понял, что он, должно быть, хороший председатель ученического совета, – не пойму, как тебя с этим в школу пускают. Если это сифилис, то через стульчаки в уборной...
Я закричал:
– Где мой отец?
Он появился передо мной и написал на доске:
C6H12O6 + 6O2 = 6СО2 + 6Н2O + Е
Это был последний, седьмой урок. Мы устали. Он обвел "Е" кружком и сказал:
– Энергия – это жизнь. Буква "Е" означает жизнь. Мы поглощаем углеводы и кислород, сжигаем их, как сжигают старые газеты в печке, и выделяем углекислый газ, воду и энергию. Когда этот процесс прекращается, – он перечеркнул знак равенства, – прекращается и это, – он дважды перечеркнул "Е", – и ты становишься, что называется, трупом. Человек превращается в бесполезную кучу химических веществ.
– Но разве невозможен обратный процесс? – спросил я.
– Спасибо, Питер, за этот вопрос. Да. Прочтите равенство наоборот, и вы получите фотосинтез, происходящий в растениях. Они потребляют влагу, углекислоту, которую мы выдыхаем, и солнечную энергию, а производят углеводы и кислород, мы же едим растения и снопа потребляем углеводы – так происходит круговорот веществ. – Он повертел пальцем в воздухе. – Все в мире крутится, а когда остановится – этого никто не знает.
– Но откуда же берется энергия? – спросил я.
– Это очень интересный вопрос, – сказал отец. – У тебя светлая голова, как у твоей матери, надеюсь, что ты не унаследуешь мою уродливую внешность. Энергия, необходимая для фотосинтеза, черпается из атомной энергии солнца. Всякий раз, когда мы думаем, двигаемся или дышим, мы используем какую-то частицу золотого солнечного света. Через пять миллиардов лет или около того, когда энергия солнца истощится, мы все сможем лечь на покой.
– Но отчего ты хочешь на покой?
В его лице теперь не было ни кровинки; между нами вдруг появилась прозрачная пленка; отец очутился в другой плоскости, и мне приходилось кричать, чтобы он меня слышал. Он повернулся медленно-медленно, лоб его, преломляясь в прозрачной среде, колебался и растягивался. Губы шевельнулись, и через несколько секунд до меня донеслось:
– А?
Он смотрел мимо, словно не мог найти меня.
– Не уходи от нас! – крикнул я и был рад, когда хлынули слезы, когда голос мой начал рваться от горя; я бросал слова с каким-то торжеством, упиваясь своими слезами, которые хлестали меня по лицу, как концы лопающихся веревок. – Папа, не надо! Куда ты? Неужели ты не можешь простить нас и остаться?
Верхняя часть его туловища изогнулась, заточенная в искривленной плоскости; галстук, грудь рубашки и отвороты пиджака загибались вверх по дуге, а голова на ее конце была втиснута в угол, где стена сходилась с потолком, – в затянутый паутиной угол над доской, который никогда не обметали. Его искаженное лицо глядело на меня сверху вниз печально, отрешенно. Но все же в глазах был проблеск внимания, и я продолжал звать:
– Подожди! Да подожди же меня!
– А? Я слишком быстро иду?
– Послушай, что я тебе скажу!
– А?
Голос его был таким глухим и далеким, что я захотел пробраться ближе к нему и вдруг почувствовал, что плыву вверх, ловко рассекая воду, широко разводя руками, и мои ноги трепещут, как гибкие плавники. Это ощущение так взволновало меня, что я почти утратил дар речи. Задыхаясь, я нагнал его и сказал:
– Я еще надеюсь.
– Правда? Горжусь тобой, Питер. А у меня вот никогда надежд не было. Должно быть, это у тебя от мамы, она настоящая женщина.
– Нет, от тебя, – сказал я.
– Обо мне не думай, Питер. Пятьдесят лет – срок немалый. Кто за пятьдесят лет ничему не научился, тот никогда уж не научится. Мой старик так и не узнал, что его погубило: он оставил нам Библию и кучу долгов.
– Нет, пятьдесят лет – это немного, – сказал я. – Это совсем мало.
– Ты в самом деле надеешься, а?
Я закрыл глаза; во мне между безгласным "я" и дрожащей тьмой образовалась брешь неведомой ширины, но, конечно, не больше дюйма. Я без труда переступил ее, стоило только солгать.
– Да, – сказал я. – И перестань, пожалуйста, глупить.
7
Колдуэлл поворачивается и закрывает за собой дверь. День да ночь, сутки прочь. Он устал, но не жалуется. Уже поздно, шестой час. Он долго просидел в классе, разбирая и пересчитывая билеты на баскетбол; одной пачки не хватало, и он, шаря в ящиках, нашел и перечитал отзыв Зиммермана. Это сразу вывело его из равновесия. Он глядел на эту голубоватую бумажку, как в небо, и у него кружилась голова. Кроме того, он проверил сегодняшние контрольные работы. Бедняжка Джуди Ленджел, не дано ей. Слишком уж она старается, он сам от этого всю жизнь страдал. Когда он идет к лестнице, боль, притихшая было, оживает и накрывает его своим крылом. Одному даны пять талантов, другому два, третьему один. Но все равно, возделывал ли ты виноградник целый день или всего час, когда тебя призовут к расчету, плата одна. Он вспоминает эту притчу, и в ушах у него звучит голос отца, отчего ему становится еще тоскливее.
– Джордж.
Он видит поодаль какую-то тень.
– А? Это вы. Что вы здесь делаете так поздно?
– Да так, пустяками занимаюсь. Что остается старой деве? Заниматься пустяками. – Эстер Апплтон стоит, сложив руки на девственной, прикрытой кружевными оборками груди, в дверях своего класса; ее класс, двести второй, напротив двести четвертого. – Гарри сказал, что вы вчера были у него.
– К стыду своему должен признаться, действительно был. А больше он ничего не сказал? Мы ждем результатов рентгена или еще какой-то чертовщины.
– Не надо волноваться.
Сказав это, она как бы делает шаг к нему, и он опускает голову.
– Почему не надо?
– Это бесполезно. Вот и Питер места себе не находит, я заметила это сегодня на уроке.
– Бедный мальчик, он не выспался этой ночью. У нас машина сломалась в Олтоне.
Эстер откидывает выбившуюся прядь назад и ловким движением среднего пальца засовывает поглубже карандаш, воткнутый в узел волос на затылке. Волосы ее блестят, полумрак скрадывает седину. Она невысокая, полногрудая, широкая в кости и, если смотреть спереди, располневшая. Но сбоку ее талия выглядит поразительно тонкой, так прямо она держится, осанка у нее такая, будто она непрерывно вздыхает всей грудью. На ее блузке золотая брошь в виде стрелы.
– Он был сам не свой, – говорит она и снова, в который уж раз в жизни, пристально вглядывается в лицо этого человека, который высится над ней в темном коридоре; это странное, бугристое лицо навсегда останется для нее тайной.
– Как бы он простуду не схватил, пока я его довезу домой, – говорит Колдуэлл. – Я знаю, так оно и будет, да что поделаешь? Мальчик из-за меня заболеет, а я мчусь сам не знаю куда и остановиться не могу.
– Он не такой уж хилый, Джордж. – И, помолчав, она добавляет:
– В некоторых отношениях он крепче своего отца.
Колдуэлл почти не слышит ее голоса, как будто это его собственная мысль.
– В детстве, когда я жил в Пассейике, – говорит он, – меня никогда не клали с простудой в постель. Утрешь нос рукавом, а если в горле запершит, прокашляешься. В первый раз в жизни я слег, когда заболел инфлюэнцей в восемнадцатом году; ну и в переплет я попал тогда. Б-р-р!
Эстер чувствует, что его терзает боль, и кладет руку на золотую стрелу, унимая беспокойный трепет в груди. Она столько лет работает с ним рядом, в соседнем классе, что у нее такое чувство, как будто она не раз спала с ним. Как будто в молодости они были любовниками, но давно уже расстались и не очень задумывались почему.
А Колдуэлл ощущает только, что в ее присутствии ему как-то особенно легко. Им одновременно исполнилось пятьдесят, и в глубине души, бессознательно, они считают это совпадение очень важным. Он не хочет уходить от нее, не хочет спускаться по лестнице; болезнь, сын, долги, невыносимое бремя земли, которое жена взвалила на него, – он жаждет поделиться с ней своими затруднениями. И Эстер тоже хочет этого: хочет, чтобы он рассказал ей все. И она всем своим существом тянется навстречу этому желанию; словно освобождаясь от многолетней привычки к одиночеству, она облегчает грудь, вздыхает. Потом говорит:
– Питер весь в Хэсси. Он умеет добиваться своего.
– Надо было устроить ее на сцену, в водевилях играть. Там ей было бы лучше, – говорит Колдуэлл мисс Апплтон громко и серьезно. – Не жениться на ней надо было, а просто стать ее антрепренером. Но у меня духу не хватило. Так уж я был воспитан – когда видишь женщину, которая тебе хоть капельку нравится, ни о чем и думать не смей, кроме как сделать ей предложение.
И это значит: «А жениться мне надо было на такой женщине, как вы. Вы».
Хотя Эстер сама этого хотела, теперь ей тревожно и неприятно; мужчину, чей силуэт темнеет перед ней, захлестывает смятение, кажется, сейчас оно затопит и ее. Слишком поздно; ее уже с места не стронешь. Она смеется, как будто он просто пошутил. И от ее смеха кажется, будто зеленые шкафчики, уходящие вдаль по стене, охватывает жуть. Вентиляционными отдушинами они ошеломленно уставились в стену напротив, где висят в рамках фотографии давным-давно не существующих бейсбольных и легкоатлетических команд.
Эстер выпрямляется, вздыхает всей грудью, снова поправляет пучок на затылке и спрашивает:
– А в какой колледж вы думаете определить Питера?
– Я об этом никогда не думал. Я только о том думаю, что мне это не по карману.
– Может быть, он поступит в художественное училище или в колледж свободных искусств?
– Это уж пускай они с матерью решают. О таких вещах они между собой договариваются. А я этого боюсь до смерти. Я только одно могу сказать мальчик знает жизнь еще меньше, чем я в его возрасте. Сыграй я сейчас в ящик, они с матерью засядут в своей дыре, а есть, наверно, будут цветы с обоев. Нет, я не могу позволить себе умереть.
– Еще бы, это слишком большая роскошь, – говорит Эстер. Апплтоновская желчность у нее проявляется лишь изредка, в неожиданно едкой иронической фразе. Она еще раз смотрит в это загадочное лицо, хмурится, чувствуя болезненный трепет у себя в груди, и хочет уйти, расставаясь не столько с Колдуэллом, сколько со своей тайной.
– Эстер.
– Да, Джордж?
Ее голова с гладкими, туго стянутыми волосами, как полумесяц, блестит в свете, сочащемся из дверей класса. Она улыбается ему нежно, радостно и грустно, и со стороны всякий решил бы, что когда-то он был ее любовником.
– Спасибо, что дали мне излить душу, – говорит он. И добавляет:
– Я хочу сделать вам одно признание. Пока не поздно. За все эти годы, что я здесь работаю, не раз, когда ребята меня вконец измучают, я уходил из класса и шел сюда, к питьевому фонтанчику, просто чтобы услышать, как вы произносите французские слова. Это было для меня важнее, чем глоток свежей воды, – услышать, как вы говорите по-французски. Это всегда меня ободряло.
Она ласково спрашивает:
– А теперь вы тоже измучены?
– Да. Измучен. Этот лютый мороз меня доконал.
– Сказать что-нибудь по-французски?
– Богом клянусь, Эстер, я буду вам от души благодарен.
На ее лице появляется галльское оживление – щеки, как яблоки, губы сморщены, – и она произносит, медленно, со вкусом выговаривая дифтонг в начале фразы и носовой звук в конце, словно смакует два напитка:
– Dieu est tres fin.
Наступает секунда молчания.
– Еще, – просит Колдуэлл.
– Dieu-est-tres-fin. Эти слова всегда помогают мне жить.
– Бог очень... очень добр?
– Oui <да (фр.)>. Очень добр, очень прекрасен, очень строен, очень изящен. Dieu est tres fin.
– Да. Конечно, он такой чудесный старый джентльмен. Не знаю, что было бы с нами без него.
Словно по уговору, они отворачиваются друг от друга.
Но Колдуэлл успевает снова повернуться и остановить ее.
– Огромное вам спасибо, – говорит он. – Я хочу чем-нибудь вас отблагодарить. Я прочту вам стихи, которые не вспоминал вот уж лет тридцать. Мы читали их еще в Пассейике, и, кажется, начало я помню.
– Попробуйте.
– Сам не знаю, зачем я морочу вам голову.
Колдуэлл, как школьник, вытягивает руки по швам, сжимает кулаки, чтобы сосредоточиться, щурит глаза, припоминая, и объявляет:
– Джон Оллин Макнаб. «Песнь Пассейика».
Он откашливается.
– Создатель храм земли воздвиг,
Столь дивно славен и велик,
И род людской покорен будь
Тому, кто начертал твой путь.
По руслам рек стремит вода
Свой бег неведомо куда,
Прочли мы прошлого скрижаль,
Но скрыта будущего даль.
Он молчит, припоминая, не может вспомнить и улыбается.
– Забыл. А мне казалось, я больше помню.
– Немногие упомнили бы и столько. Не слишком веселые стихи, правда?
– Они словно для меня написаны, вот что забавно. Их может понять только тот, кто вырос у реки.
– М-м. Пожалуй, вы правы. Спасибо за стихи, Джордж.
И она решительно уходит в свой класс. На миг ей кажется, что золотая стрела у воротника сдавила ей горло и вот-вот задушит ее. Она рассеянно проводит рукой по лбу, глотает слюну, и это ощущение исчезает.
Колдуэлл идет к лестнице, пьяный от скорби. Питер. Ему надо дать образование, и, как ни верти, ответ один – деньги, а их не хватает. И потом его кожа, и слабое здоровье. Хорошо, хоть контрольные работы Колдуэлл сегодня проверил, мальчик поспит завтра лишних десять минут. Так не хочется поднимать его с постели. Сегодня баскетбольный матч, и раньше одиннадцати им домой не попасть, а вчера они ночевали в этом злополучном клоповнике, и теперь Питеру не миновать новой простуды. Каждый месяц простуда, как по календарю, и хотя, говорят, кожа тут ни при чем, Колдуэлл в этом сомневается. Все взаимосвязано. У Хэсси он ничего не замечал, пока они не поженились, у нее только одно пятно на животе, а у мальчика – прямо несчастье: сыпь на ногах, на руках, на груди, даже на лице, хотя он думает, что там почти ничего нет, в ушах струпья, как засохшая мыльная пена; он, бедняга, про это и не знает. Блаженство в неведении. Во время кризиса, когда Колдуэлл возил мальчика в коляске, он был испуган, дошел до края пропасти, по когда сын поворачивал к нему свое веснушчатое личико, мир снова казался прочным. А теперь это лицо в пятнах, с девически нежными глазами и ртом, узкое, как клинок, тревожное и насмешливое, преследует Колдуэлла, ранит его сердце.
Будь у него сила воли, он надел бы тогда широкие брюки и выпустил жену играть в водевилях. Но и в театрах были увольнения, как в телефонной компании. Всюду увольнения. Кто подумал бы, что «бьюик» подведет как раз тогда, когда им так нужно было добраться домой? Его всегда все подводит, как его отца на смертном одре подвела вера: «Забудут навеки».
Номера с 18001 по 18145: этих билетов на баскетбол недостает. Он обшарил все шкафы и ящики, перерыл все бумаги, а нашел только голубоватый листок с отзывом Зиммермана – клочок неба, от которого у него в животе такая боль, будто он защемил палец в двери. Р-раз – и готово. Что же, он не зарыл свой талант в землю, он извлек свечу из-под спуда, и все увидели, какая она – сгоревшая свеча.
Только что ему пришла утешительная мысль. Но какая? Он стал пробиваться назад, по бурым валунам своей памяти, в поисках этой драгоценной мысли. Да, вот она. Блаженство. Блаженство в неведении.
Аминь.
Стальные решетки окон на лестничной площадке между этажами, на которых застыли твердые, как сама сталь, бугорки грязи, почему-то удивляют его. Словно стена, распахиваясь окном, говорит какое-то слово на чужом языке. С тех пор как пять дней назад Колдуэлл понял, что может умереть, проглотил эту мысль, как иногда проглатываешь мошку, все вокруг обрело странно изменчивую силу тяготения, от которой поверхности всех вещей то застывают на миг, как свинец, в недолгом постоянстве, то начинают легкомысленно трепыхаться, как шарф на ветру. Но он среди этих распадающихся поверхностей старается твердо вести свою линию.
***
Таков его план:
Зайти к зубному врачу.
Гаммел.
Позвонить Хэсси.
Быть здесь в 16:15, к началу игры.
Забрать машину и поехать с Питером домой.
Он толкает стеклянную дверь и идет по пустому коридору. Повидаться с Гаммелом, позвонить Хэсси. В полдень Гаммел еще не нашел подержанного карданного вала взамен того, который сломался на странной маленькой стоянке между фабрикой Эссика и железнодорожными путями; он обзвонил все склады металлического лома и автомобильные магазины в Олтоне и Западном Олтоне. Ремонт, наверно, обойдется долларов в двадцать – двадцать пять, надо будет сказать Хэсси, она как-нибудь выкроит эти деньги, в конце концов, для нее это лишь капля в море, все высасывает этот ее неблагодарный клочок земли, восемьдесят акров у него на шее, земля, холодная как лед, неблагодарная земля, которая впитывает его кровь, как дождь. А Папаша Крамер разом запихивает в рот целый ломоть хлеба. Позвонить Хэсси. Она будет беспокоиться; он знает, что по телефону его и ее беспокойства переплетутся, как два провода. Не заболел ли Питер? Не упал ли Папаша Крамер с лестницы? Что показал рентген? Он не знает. Весь день он собирался позвонить доку Апплтону, но что-то в нем противится, он не хочет доставлять старому хвастуну это удовольствие. Блаженство в неведении... Но к зубному врачу все-таки придется пойти. Вспомнив об этом, он трогает больной зуб языком. В своем теле он находит боль любой формы и цвета: пронзительно приторные уколы зубной боли; тупой, привычный нажим бандажа от грыжи; жгучий яд, терзающий его кишки; покалывание искривленного ногтя на ноге, впившегося в соседний палец; пульсирующая боль над переносицей, оттого что он слишком напрягал глаза за последний час; и родственная ей, но совсем иная боль в голове, как будто от кожаного шлема после свалки на футбольном поле в Лейке. Хэсси, Питер, Папаша Крамер, Джуди Ленджел, Дейфендорф – обо всех он думает. Повидать Гаммела, позвонить Хэсси, сходить к зубному врачу, быть здесь к 16:15. Он предчувствует, что скоро с него снимут оболочку, очистят его. Только одно ему нравилось в жизни – смотреть, как топорщатся медные проволочки, обнаженные, живые и блестящие, когда, зачищая провод, сорвешь старую грязную резину. Это сердце провода. Колдуэллу всегда страшно было хоронить его глубоко под землей, как будто он хоронил живое существо. Темное крыло так плотно окутывает его, что кишки сводит судорога: там засел паук. Б-р-р! Из водоворота его мыслей то и дело всплывает мысль о смерти. Лицо у него пылает. Ноги становятся как ватные, сердце и голова вспухают от страха. Неужели смерть для него – вот эта белая ширь? Теплый пот заливает лицо, все тело точно слепнет; он безмолвно молит – хоть бы чье-нибудь лицо показалось. Длинный блестящий коридор, освещенный шарами плененного света, переливается оттенками меди, янтаря, воска. Знакомый коридор, до того знакомый, что странно, как это он за пятнадцать лет не вытоптал тропинку на этих досках, и все же до сих пор чуждый, такой же чуждый, как и в тот жаркий летний день, когда Колдуэлл, который в то время недавно женился, только что стал отцом и все еще сохранял мягкий нью-джерсийский выговор, в первый раз пришел к Зиммерману. Зиммерман ему понравился. Сразу понравился – массивный, нескладный, хитроватый, он напомнил Колдуэллу одного странного человека, с которым отец вместе учился в семинарии; по воскресеньям он заходил, бывало, в гости и никогда не забывал принести лакричных конфет для «юного Колдуэлла». Конфеты для Джорджа и лента для Альмы. Непременно. Так что в конце концов маленькая резная шкатулка на тумбочке у Альмы доверху наполнилась лентами. Зиммерман понравился Колдуэллу, и, видимо, сам он ему тоже понравился. Они проехались насчет Папаши Крамера. Он уже не помнит, в чем была соль шутки, но улыбается, вспоминая, как они шутили пятнадцать лет назад. Шаги Колдуэлла становятся тверже. Подобно тому как иногда Нежданно-негаданно поднимается ветерок, его вдруг освежает мысль, что умирающий не мог бы держаться так прямо.
Наискосок от стеклянного шкафа со спортивными кубками, который переливается бесчисленными бликами, – уютный кабинет Зиммермана, он закрыт. Но когда Колдуэлл проходит мимо, дверь вдруг распахивается, и оттуда выходит миссис Герцог. Она удивлена не меньше его: ее глаза широко раскрываются под узкими очками в коричневой роговой оправе, шляпа с павлиньим пером сбилась набок. Для Колдуэлла, с высоты его возраста, она еще молодая женщина; ее старший сын только в седьмом классе. Из-за этого мальчишки всех учителей буквально трясет. Мамаша пролезла в школьный совет, хочет самолично следить за обучением своих детей. Колдуэлл учитель и поэтому в душе презирает таких матерей, которые всюду суют нос; они не представляют себе, что такое образование – дебри, дьявольская путаница. Яркая помада у нее на губах размазана, губы не улыбаются, а приоткрыты в откровенном удивлении, как щель в почтовом ящике, когда заест крышку.
Колдуэлл нарушает молчание. Мальчишеская дерзость, забытая с детства, просыпается оттого, что его чуть не ударили по носу дверью, и он, морщась, говорит ей, миссис Герцог, члену школьного совета:
– Фу ты, так выскочить из дверей, ну прямо как кукушка из часов!
Выражение оскорбленного достоинства делает ее смешной – ведь ей сорока еще нет. От такого приветствия она застывает на миг, ухватившись за дверную ручку. А он, не глядя на нее, идет дальше по коридору. И только когда он толкает двойные двери с зарешеченным стеклом и начинает спускаться по лестнице вдоль желтой стены, с которой уже соскоблили ругательство, сердце у него падает. Теперь он пропал. И какого дьявола эта шлюха там делала? Он чувствовал, что в кабинете, за стеной, сидит Зиммерман и тучи сгущаются; чувствовал дух Зиммермана сквозь замочную скважину. Видно было, что эта женщина распахнула дверь, думая лишь о том, что осталось в тылу, и не ожидала атаки с фронта. А у Колдуэлла положение такое, что ему никак нельзя нажить нового врага. Билеты, номера с 18001 по 18145, отзыв Зиммермана, где черным по голубому сказано, что он ударил ученика в классе, а теперь еще это: наскочил на Мим Герцог, когда у нее размазана помада на губах. Комок, подкативший к горлу, душит его, и, выйдя на улицу, он вдыхает свежий воздух со звуком, похожим на рыдание. Лохматые, скомканные облака нависли низко и чуть не задевают за шиферные крыши домов. Крыши лоснятся, блестят загадочно и многозначительно. В воздухе чувствуются торопливые шаги судьбы. Вскинув голову и раздувая ноздри, Колдуэлл ощущает неодолимое желание рвануться вперед, галопом проскакать мимо гаража Гаммела, с ржанием вломиться в парадную дверь первого же олинджерского дома, вырваться через черный ход, промчаться через кустарник по бурому, спаленному морозом склону Шейл-хилл и лететь дальше, дальше, через холмы, такие ровные и голубые издали, все вперед и вперед, на юго-восток, через шоссейные дороги и реки, скованные льдом, твердые, как асфальт на этих дорогах, пока наконец он не упадет, вытянув мертвую голову в сторону Балтимора.
***
Кафе Майнора опустело. Остались трое: сам Майнор, Джонни Дедмен и этот дикий эгоцентрик Питер Колдуэлл, сын учителя естествоведения. Все, кроме неприкаянных и лишенных крова, в этот час сидят дома. Без двадцати шесть. Почта за стеной уже закрылась. Миссис Пэссифай, еле волоча слабые ноги, опускает решетки на окошках, задвигает ящики, где пестрят разноцветные марки, складывает подсчитанные деньги в сейф ложнокоринфского стиля. Задняя комната смахивает на полевой госпиталь, где под наркозом темноты без сознания лежат серые почтовые мешки, распластанные, уродливые и выпотрошенные. Она вздыхает и подходит к окну. Прохожему с улицы ее большое круглое лицо показалось бы нелепо распухшим лицом ребенка, пытающегося выглянуть в маленький иллюминатор – золоченое "О" в изогнувшемся дугой слове «ПОЧТА».
А рядом, за стеной, Майнор туго затыкает грубым белым полотенцем дышащие паром глотки стаканов из-под кока-колы, а потом ставит их на салфетку, которую расстелил рядом с раковиной. Каждый стакан еще выдыхает в холодный воздух редкие белые струйки. А за окном, которое начинает туманиться, вдоль трамвайных путей течет поток автомобилей, торопящихся домой, и дорога подобна ветке, усеянной сверкающими плодами. В кафе почти пусто, как на сцене во время антракта. Здесь разгорелся спор. Майнор так и кипит: его волосатые ноздри похожи на клапаны парового котла.
– Майнор! – кричит ему Питер из-за своего столика. – У вас устарелые взгляды. Ничего плохого в коммунизме нет. Через двадцать лет он будет и у нас, тогда вы станете как сыр в масле кататься.
Майнор отворачивается от окна, блестя лысиной, он взбешен.
– Да, если б старик ФДР <Франклин Делано Рузвельт> не сыграл в ящик, тогда конечно, – говорит он и злобно смеется, раздувая ноздри. – Но он то ли сам удавился, то ли от сифилиса помер. Говорю вам, это суд божий.
– Майнор, вы же сами этому не верите. Не может человек в здравом уме этому верить.
– Нет, верю, – говорит Майнор. – У него все мозги уже прогнили, когда он в Ялту ездил, иначе мы не попали бы в такую заваруху.
– В какую заваруху? В какую, Майнор? Наша страна заправляет всем миром. У нас есть здоровенная бомба и здоровенные бомбардировщики.
– Р-р-р, – Майнор отворачивается.
– Какая заваруха? Какая же, Майнор? Какая?
Он снова поворачивается и говорит:
– И года не пройдет, как русские будут во Франции и в Италии.
– Ну и что? Ну и что, Майнор? Коммунизм неизбежен так или иначе. Это единственный способ уничтожить бедность.
Джонни Дедмен, сидя за отдельным столиком, курит восьмую сигарету «Кэмел» за последний час и пропускает одно колечко дыма сквозь другое. Неожиданно он выкрикивает «война!» и барабанит пальцем по коричневому выключателю, висящему на шнуре у него над головой.
Майнор возвращается в свою тесную щель за стойкой, оттуда удобней разговаривать с мальчиками, сидящими в темных углах за столиками.
– Не надо было останавливаться, когда мы дошли до Эльбы, взяли бы Москву, раз уж случай такой вышел. У них все прогнило, тут бы нам и не зевать, ведь русский солдат самый трусливый в мире. А крестьяне встретили бы нас с распростертыми объятиями. Прав был старик Черчилль, когда предлагал это. Конечно, он мошенник, но умен, как черт. Он не любит Старого Джо. Никто в мире, кроме короля Франклина, не любит Старого Джо.
Питер говорит:
– Майнор, да вы не в своем уме. А как же Ленинград? Разве русские там струсили?
– Победили не они. Нет, не они. Победило наше оружие. Наши танки. Наши пушки. Пожалуйста, получите: бесплатная посылка от вашего дружка ФДР. Он ограбил американский народ, чтобы спасти русских, а они повернули и вот-вот полезут через Альпы в Италию.
– Он хотел разбить Гитлера, Майнор. Вы что, забыли? Адольфа Г-И-Т-Л-Е-Р-А.
– Обожаю Гитлера, – заявляет Джонни Дедмен. – Он и сейчас живет в Аргентине.
– Майнор его тоже обожал, – говорит Питер тонким голосом и от злости чувствует жар во всем теле. – Правда, Майнор? Ведь вы считали Гитлера хорошим человеком?
– Никогда не считал, – говорит Майнор. – Но я вам вот что скажу, по мне, уж лучше Гитлер, чем Старый Джо Сталин. Вот уж действительно дьявол во плоти. Верьте моему слову.
– Майнор, отчего вы против коммунизма? Они бы вас работать не заставляли. Вы слишком старый. И больной.
– Бах! Бах! – орет Джонни Дедмен. – Надо было нам сбросить атомную бомбу на Москву, Берлин, Париж, Францию, Италию, Мехико-Сити и Африку. Ба-бах! Обожаю этот грибок.
– Майнор! – говорит Питер. – Майнор. Отчего вы так нещадно эксплуатируете нас, бедных подростков? Отчего вы такой безжалостный? У вас механический бильярд поставлен так, что никто, кроме Дедмена, не может попасть в лузу и сыграть еще разок бесплатно, но ведь он гений.
– Да, я гений, – подтверждает Дедмен.
– Они и в бога, в творца всего сущего, не верят, – говорит Майнор.
– А кто в него верит? – восклицает Питер, краснея за себя, но не в силах остановиться, так хочется ему поддеть этого человека, который со своей непроходимой республиканской глупостью и упрямой звериной силой воплощает все то в мире, что убивает его отца; только не дать Майнору отвернуться, оставить, так сказать, ход за собой. – Вы и сами не верите. И я не верю. Никто не верит. Факт. – Но теперь, произнеся эти хвастливые слова, Питер чувствует, что чудовищно предал отца. Ему представляется, как отец, оглушенный ударом, падает в яму. Он с жадностью, так что у него даже во рту пересыхает, ждет возражений Майнора, все равно каких, чтобы в неразберихе спора как-нибудь окольным путем отступить. Теперь он всей душой стремится отречься от своих слов.
– Да, ты прав, – говорит Майнор просто и отворачивается. Путь назад отрезан.
– Через два года, – подсчитывает вслух Джонни Дедмен, – будет война. Я буду майором. Майнор – старшим сержантом. А Питер будет чистить картошку на кухне, за помойными ведрами.
Он осторожно выпускает огромное кольцо дыма, а потом – вот чудо! сжимает губы и сквозь дырочку, тесную, как замочная скважина, пропускает маленькое колечко, которое проходит через большое. И в тот же миг оба кольца расплываются, облако дыма теперь похоже на руку, тянущуюся к электрическому проводу. Дедмен вздыхает – скучающий творец.