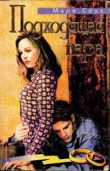Текст книги "Темный ангел"
Автор книги: Джоанн Харрис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
7
Когда дверь открылась и я впервые увидела его, я поняла, что он увиделменя. Не это тело, но меня истинную, обнаженную и беспомощную. Мысль пугала и будоражила одновременно. На миг мне захотелось танцевать перед незнакомцем, выставляя напоказ бесстыдство, переполнявшее бледную оболочку тела, которую я могла отбросить когда угодно, незамеченная мужем.
Не могу объяснить эту странную игривость, что овладела мной. Возможно, ощущения мои обострились из-за недавней болезни или из-за опиумной настойки, которую я приняла накануне от головной боли, но, впервые увидев Моза Харпера, я поняла, что он воистину плотскоесоздание, подчиняется лишь собственным желаниям и стремится к удовольствию. Наблюдая за ним, разговаривая с ним под невнимательным взглядом мужа, я убедилась, что он – все, чем я не была. Он, будто солнце, излучал энергию, самоуверенность, независимость. Но главное – в нем не было стыда, абсолютно никакого, и это бесстыдство непреодолимо влекло меня. Он коснулся моей руки, его тихий ласковый голос таил обещание наслаждения, и я почувствовала, как горят щеки, но не от стыда.
Я тайком разглядывала его, когда он беседовал с Генри. Не помню ни одного слова, но тембр его голоса заставлял меня блаженно трепетать. Он был лет на десять младше Генри: угловатая фигура, заостренные черты и насмешливая гримаса, длинные волосы экстравагантно и старомодно перевязаны над загривком. Одет намеренно небрежно, даже для утреннего визита, – и без шляпы. Мне понравились его глаза, голубые и прищуренные, словно он все время смеялся, и легкая, насмешливая улыбка. Уверена, он заметил, что я наблюдаю за ним, но лишь улыбнулся и продолжил разговор.
Меня поразило, что он заказал портрет моему мужу. Тот считал Моза Харпера нахалом и бездельником, годным лишь на то, чтобы писать мерзости, бессмысленные и безвкусные. А теперь Генри снисходительно вещал, что Моз – «юный проказник», и путешествия по свету «безусловно, положительно на нем сказались», и однажды он, несомненно, станет «прекрасным художником», поскольку работам его присуща «четкость линий и некоторая оригинальность стиля».
Несколько дней Генри размышлял над портретом, то предлагая, то отвергая различные сюжеты типа «Юного Соломона» или «Якобита». Моз составил собственный список, включавший «Прометея», «Адама в Саду» (которого Генри отверг из-за, как он выразился, «степени скромности, которая потребна для подобного сюжета») и «Игроков в карты».
Последний пункт заинтересовал Генри, и позже он встретился с Мозом в студии, чтобы все обсудить. Моз сказал, что идею ему подсказало стихотворение французского поэта Бодлера (я не была знакома с его произведениями, но мне говорили, что они весьмашокируют, и меня вовсе не удивляет, что Бодлер – любимый поэт Моза), в котором:
Эти строки вызвали у Моза какие-то воспоминания, он видел на холсте «дешевое парижское кафе, на полу опилки, бутылки абсента на столе. За столом сидит молодой человек, в руках у него червовый валет; красавица рядом с ним только что пошла с дамы пик».
Генри не сразу увлекся этим сюжетом – счел его слишком низменным. Сам он хотел писать Моза в средневековом платье, «сидит под простыми солнечными часами, играет на виоле; позади него садится солнце, а мимо следует конная процессия – дамы держат в руках музыкальные инструменты, лица их скрыты вуалями». Картина должна была называться «Плач менестреля».
Моз вежливо отклонил предложение. Он не представлял себя в обличье средневекового менестреля. К тому же надо было думать и о заднем плане. На средневековый пейзаж и всадниц могут уйти месяцы. Куда проще выбрать темный интерьер и сконцентрироваться на самом портрете, не так ли?
Довод был весьма разумный, и Генри нехотя согласился. Если работа будет выполнена со вкусом, с сюжетом можно смириться. Он был решительно против того, чтобы гравировать на раме французское стихотворение, но Моз заверил его, что это вовсе необязательно. Генри начал строить планы насчет нового полотна, забросив на время «Деву с цимбалами», к моему несказанному облегчению.
Не знаю, какую плату Моз пообещал Генри за картину, но муж был полон надежд. Конечно, Моз, используя свои связи, устроит так, что ее выставят в Королевской академии, и это поспособствует развитию карьеры Генри. Мне было все равно. Наш с Генри доход не зависел от его картин. Заработанные деньги служили для самоудовлетворения, были доказательством его таланта. Меня же его новая картина интересовала лишь потому, что долгая работа с натуры давала мне возможность видеться с Мозом почти каждый день.
8
Мне никогда не нравился Моз Харпер. Весьма опасный и расчетливый тип; поговаривали, что он замешан в бесчисленных темных делишках, от подделок до шантажа, однако эти слухи, которые по необъяснимым причинам вели к еще большему успеху у женщин, так и остались слухами.
Лично я считал его ничтожным человечишкой, не обладающим нравственными устоями и еще в меньшей степени – хорошими манерами, за исключением тех случаев, когда он прилагал усилия, чтобы произвести впечатление. Он был в каком-то смысле художник, однако те работы, что я видел, как картины, так и стихи, казалось, имели целью шокировать публику, и только. В его работе не было ни гармонии, ни правды жизни; он получал удовольствие от гротеска, абсурда и вульгарности.
Хоть я и не люблю сомнительную компанию, я понимал, что приобретенные им связи могут быть мне полезны. Кроме того, моя идея портрета была превосходна, и картина, весьма вероятно, привлекла бы внимание Академии. Я уже представил на рассмотрение «Маленькую нищенку» и «Спящую красавицу» – отзывы критиков вдохновляли, хотя «Таймс» осудила мой выбор натурщицы, назвав ее «безжизненной», и посоветовала расширить набор сюжетов. Потому я оставил текущую работу и немедленно принялся за этюды, хотя столь тесный контакт с Харпером претил мне – ввиду его репутации я не хотел, чтобы Эффи с ним общалась. Не то чтобы она стала потворствовать его ухаживаниям, вы понимаете, но меня бесила мысль о том, что он будет смотреть на нее, унижая, желая ее.
Однако выбора у меня не было: Эффи снова болела, и я устроил небольшую студию наверху. Харпер, как правило, сидел в саду или в гостиной, и я делал наброски с разных ракурсов, а Эффи вышивала или читала и, казалось, была вполне довольна нашей молчаливой компанией. Она не проявляла никакого интереса к Харперу, но это едва ли меня успокаивало. Возможно, я был бы терпеливее, проявляй она чуть больше живости.
Эффи не могла думать ни о чем, кроме своих книг. Несколько дней назад я застал ее за чтением совершенно неподобающего романа, отвратительной вещицы, написанной некой Эллис Белл [15]15
Псевдоним английской писательницы и поэтессы Эмили Джейн Бронте (1818–1848).
[Закрыть], – «Грозовой перевал» или какая-то подобная чепуха. Из-за этой чертовой книги она заработала очередную мигрень, и когда я забрал томик – я желал Эффи только добра, неблагодарное создание, – она посмела устроить мне гневную истерику, кричала, что я, видите ли, не имею права забирать ее книги! Она рыдала и вела себя как испорченный ребенок, каковым, собственно, и была. Ее смогла успокоить только основательная доза опиумной настойки, и следующие несколько дней Эффи провела в постели – она была слишком слаба и раздражена, чтобы встать. Когда она почти выздоровела, я сообщил ей, что уже давно подозревал: она слишком много читает и от этого у нее появляются причуды. Мне не нравилась эта порожденная ленью болезненность, которую и поощряли книги. Я сказал Эффи, что не возражаю против полезных христианских книг, но запретил романы и вообще все, кроме самой легкой поэзии. Она и так была слишком эмоционально неустойчива.
Что бы она вам ни говорила, я не был злым. Видя ее неуравновешенность, я поощрял ее к занятиям, подобающим молодой женщине. Вышивка лежала нетронутой неделями, и я заставил Эффи снова взяться за рукоделие. Не ради себя, нет – ради нее. Я знал, что ей хотелось иметь талант, подобный моему. Ребенком она часто пробовала рисовать сцены из любимых стихотворений, но я всегда был честен с Эффи, я не льстил ей, чтобы завоевать привязанность, но говорил суровую правду: женщины, как правило, не созданы для творчества, у них кроткие, домашние таланты.
Но она была упряма и упорно продолжала малевать – говорила, что рисует то, о чем грезит. Грезы! Я сказал, что ей следует меньше грезить и уделять больше внимания своим супружеским обязанностям.
Видите, я действительно заботился о ней. Я слишком сильно любил ее, чтобы позволить ей обольщаться тщеславными надеждами. Я так долго хранил ее чистоту, жил с ее несовершенством, прощал за злое семя, что она несла в себе, подобно всем женщинам. А что она давала мне взамен? Мигрени, капризы, глупость и ложь. Да не обманет вас, как меня, ее невинное личико! Как и моя мать, она была отравлена, бутон ее распускающейся юности запятнан изнутри. Но разве я мог предвидеть? Господь в своей безжалостной ревности поместил ее на моем пути, дабы испытать меня. Пустите одну женщину, всего лишь одну, в Царство Небесное, и, клянусь, она низвергнет всех святых одного за другим: ангелов, архангелов – всех.
Будь она проклята! Из-за нее я стал таким, каким вы меня видите сейчас, – ущербным, падшим ангелом, несущим змеиное семя в своих застывших недрах. Разрежьте яблоко и увидите внутри Звезду, в которой покоятся семена проклятия. Бог знал это уже тогда, всезнающий и всевидящий. Как он, должно быть, смеялся, вынимая ребро из тела спящего Адама! Даже сейчас мне кажется, что я слышу его смех… и в темноте плюю и проклинаю свет. Двадцать гранов хлорала, чтобы купить Твое молчание.
9
Две недели я довольствовалась тем, что смотрела на него и ждала. Моз являлся мне в снах, наполняя их волшебными фантазиями. Просыпаясь, я каждый день видела его. Я жила в теплом и прекрасном забытьи, как спящая принцесса, ждущая поцелуя, и безоговорочно ему доверяла. Я видела, как он смотрит на меня. Я знала, что он придет за мной.
Шли дни, Генри снова стал работать в студии. Он уже сделал достаточно этюдов и торопился перенести сюжет на холст. Он раздумывал, не использовать ли меня в качестве натурщицы для дамы пик, но Моз, незаметно мне подмигнув, резко возразил, что я «не в его вкусе». Генри не знал, оскорбиться ему или успокоиться, он лишь слегка улыбнулся тонкими губами и обещал «поразмыслить об этом». Моз ходил с ним в студию, и некоторое время мы не виделись, но образ его никогда не покидал моих дум.
С каждым днем я чувствовала себя все лучше и принимала все меньше опиумной настойки, которую приносил Генри. Однажды вечером он обнаружил, что я выбросила лекарство, и страшно рассердился. Как же я поправлюсь, кричал он, если не слушаюсь его? Я должна пить лекарство трижды в день, как хорошая девочка, а иначе у меня опять появятся нездоровые фантазии, ночные кошмары, и я буду годна лишь на то, чтобы бездельничать. У меня хрупкое здоровье, говорил он, а разум ослаблен болезнью. Я должна хотя бы попытаться не быть для него обузой, особенно теперь, когда его работы наконец завоевывают признание.
Я покорно согласилась, пообещала каждый день гулять до церкви и обратно и регулярно принимать лекарство. С тех пор я всегда следила, чтобы уровень настойки в бутылочке равномерно уменьшался, – я поливала ею араукарию на лестнице трижды в день. Генри ни о чем не подозревал. Из студии он возвращался почти веселым, работа над картиной шла очень хорошо, хотя и медленно, сообщал он мне, а Моз позирует ему часа по три в день. Генри работал до вечера. Становилось все теплее, и после обеда я совершала долгие прогулки по кладбищу. Пару раз Тэбби составляла мне компанию, но у нее было слишком много работы по дому, чтобы постоянно меня сопровождать. К тому же я сказала ей, что хожу только до церкви, со мной не может ничего случиться, и теперь, когда зима закончилась, я чувствую себя гораздо лучше. Три или четыре раза я ходила одной дорогой – от Кромвель-сквер, по переулку Свейнзлейн и вниз с холма на кладбище, к церкви святого Михаила. С того дня, как у меня случилось видение, – того самого дня, когда я потеряла ребенка, – я чувствовала странную связь с этой церковью, мне хотелось пойти туда одной и вновь пережить эту целеустремленность, это откровение. Но я ни разу не возвращалась – только по воскресеньям, вместе с Генри. После того как Уильям отправился в Оксфорд, за мной присматривали еще строже. Я не осмеливалась ни на секунду снять маску.
Но теперь я была будто на каникулах. Отлучки из дома доставляли мне куда больше удовольствия, чем я осмеливалась признать, и я заставила Генри поверить, что гуляю только потому, что он мне велел. Если бы он знал, как много эти прогулки значат для меня, он бы, конечно, прекратил их. Я хранила свой секрет и свою радость, а внутри меня прыгало и смеялось что-то дикое и бешеное. Несколько раз я попробовала зайти в церковь, но не решалась – слишком людно: туристы, крещения, свадьбы… а однажды – похороны, и все скамьи были заполнены плакальщиками, одетыми в черное, поющими мрачные гимны под унылые звуки органа.
Я отшатнулась от приоткрытой двери, смущенная и почему-то напуганная, когда меня настигла волна звука. В растерянности я едва не сшибла вазу с белыми хризантемами у входа. Одна женщина обернулась на шум и пристально уставилась на меня, почти с угрозой. Я беспомощно взмахнула рукой, извиняясь, и попятилась, но внезапно колени мои подогнулись. Взглянув вверх, я увидела, что свод неумолимо приближается ко мне, и лицо святого Себастьяна вдруг оказалось совсем рядом – он улыбался, скаля зубы…
«Только не сейчас», – подумала я, отчаянно стараясь сохранять равновесие. Исступленно оглядываясь, я заметила, что женщина все так же пристально смотрит на меня, будто узнала. Вдалеке голос произнес полузнакомое имя. Накатила беспричинная паника, и я повернулась, вырвавшись из транса, и выбежала, хлопнув тяжелой дверью. Споткнувшись и изо всех сил стараясь не упасть, я у подножия лестницы налетела на человека в черном. Его руки плотно обхватили меня. Окончательно лишившись сил, я хотела было звать на помощь, но, взглянув в лицо незнакомца, поняла, что это Моз.
– Миссис Честер! – Похоже, он удивился, увидев меня, и немедленно разжал объятия. Его раскаяние казалось почти искренним, если бы не озорной блеск в глазах. – Мне очень жаль, что я вас так напугал. Пожалуйста, простите меня.
Я постаралась взять себя в руки.
– Все в порядке, – произнесла я. – Это… не ваша вина. Я пошла в церковь – а там поминальная служба. Это… – И нескладно закончила: – Надеюсь, я не ушибла вас.
Он засмеялся, но тут же прищурился с некоторым беспокойством.
– Так вы все-таки потрясены? – спросил он. – Вы такая бледная. Присядьте-ка на минутку.
Приобняв за плечи, он повел меня к скамейке в нескольких ярдах.
– О, вы совсем замерзли! – воскликнул он, взяв меня за руки.
Не успела я и слова сказать, он снял пальто и набросил мне на плечи. Я нерешительно запротестовала, но он был такой веселый и непринужденный, и так уютно было сидеть на скамейке, прижавшись к нему и вдыхая табачно-шерстяной запах его пальто. Если бы он меня поцеловал, я знаю, что ответила бы со всей искренностью, без малейших угрызений.
10
Я следовал за ней почти целую неделю, прежде чем сделать первый шаг. Она была нелегкой добычей, и действовать следовало осторожно, чтобы не отпугнуть девочку. А еще эта трогательная доверчивость – после того случая я встречался с ней каждый день, и уже через неделю она называла меня Моз и держала за руку, как ребенок. Если бы я не знал, что она замужем, мог бы поклясться, что она девственница.
Не похоже на меня, говорите вы? Ну, я и сам не мог этого объяснить. Наверное, все дело было в новизне, я играл роль принца, хотя так долго был валетом… а кроме того, она была красива.
Мужчина способен влюбиться. Но только не я.
И все же в ней было нечто – холодное и бесконечно плотское одновременно, совсем не девичье, будившее во мне какие-то спящие чувства. Совершенно новые переживания: я был точно алкоголик, что впервые пробует медовый детский напиток, давно испортив себе вкус крепким спиртным. Подобно ему, я медленно смаковал новизну, незнакомую сладость. Она не умела отличать хорошее от дурного, она следовала за мной, куда бы мне ни захотелось ее повести, и дрожала от удовольствия, когда я прикасался к ней, и впитывала каждое мое слово. С ней я говорил куда больше, чем с любой другой женщиной, – я забывался и рассказывал о своих стихах и картинах, о мечтах и чаяниях. Обычно мы встречались на кладбище. Удобно – огромное запутанное пространство, полно укромных мест. В один холодный пасмурный вечер, когда Генри работал допоздна, мы встретились у ливанского кедра. Вокруг ни души, а во мне – дьявол. От Эффи так хорошо пахло – розами и белым хлебом. Щеки ее раскраснелись на холоде, ветер развевал волосы, и тонкие пряди спадали на ее лицо.
В тот миг я принадлежал ей.
Тогда я впервые поцеловал ее в губы, напрочь позабыв о стратегии наступления. Она стояла у склепа, и я прижал ее к стене. Ее шляпка упала – я не обратил внимания, – ее волосы, расплетясь, овевали мое лицо. Я потянул их и, ласково перебирая, пытался набрать воздуха, словно ныряльщик перед очередным погружением. Не такого поцелуя она, должно быть, ожидала – она тихонько вскрикнула и поднесла руки ко рту, лицо ее стало пунцовым, а глаза – большими, как блюдца. Осознав, что этот опрометчивый порыв, скорее всего, свел на нет все мои труды, я выругался. А затем снова выругался, ругая себя за ругань.
Придя в себя, я отшатнулся и упал на колени, играя роль Раскаивающегося Любовника. Я очень сожалел, я не мог выразить словами, как сожалею о том, что напугал ее, я готов понести суровейшее наказание. Я поддался минутной слабости, но я так люблю ее, я так мечтал поцеловать ее, с тех самых пор, как увидел, что потерял власть над собой. Ведь я не каменный – но что с того? Я напугал и оскорбил ее. Меня следует высечь.
Может, я слегка переборщил, но эта техника раньше прекрасно срабатывала с замужними женщинами – я тщательно изучил ее на страницах «Сувенира» [16]16
«Сувенир» («Keepsake») – ежегодный британский альманах первой половины XIX в.
[Закрыть], и, Бог свидетель, в этот раз кое-что из сказанного было почти правдой. Я осторожно поднял глаза – проверить, заглотнула ли она наживку. К моему изумлению, она сотрясалась от хохота – не злого, но неудержимого. Увидев, что я смотрю на нее, она снова расхохоталась.
Маленькая Эфф мгновенно выросла в моих глазах. Я встал и печально улыбнулся.
– Ну, попробовать-то стоило, – сказал я, пожимая плечами.
Эффи покачала головой и снова засмеялась.
– Ах, Моз, – произнесла она. – Ты лицемер! Тебе нужно играть в театре.
Я решил применить другую тактику – Нераскаявшегося Любовника.
– Я и сам об этом подумывал, – сказал я. – Знаешь, обычно это срабатывает. – Я рискнул обезоруживающе улыбнуться и добавил: – Ну ладно. Я не сожалею.
– Так лучше, – ответила Эффи. – В это я верю.
– Тогда поверь и еще кое во что, – сказал я. – Я люблю тебя.
Как она могла не поверить? В тот момент я и сам почти верил.
– Я люблю тебя, и мне невыносимо видеть, что ты замужем за этим высокопарным ослом. Он не считает тебя женщиной, он думает, ты его игрушка, его девочка-нищенка, его маленький болезненный падший ангел. Эффи, тебе нужен я, тебе нужно научиться жить и наслаждаться жизнью.
Я говорил почти искренно. Я чуть было даже самого себя не убедил. Я взглянул на нее, чтобы узнать, какова реакция на сей раз, и наши взгляды встретились. Она шагнула ко мне так решительно, что я едва не попятился. Почти отрешенно поднесла она холодные руки к моему лицу. Ее поцелуй был нежен, и я ощутил соль на ее коже. Я сдерживался, позволяя ее пальцам изучать мое лицо, шею, волосы. Она мягко оттеснила меня к склепу. Я услышал, как позади отворилась калитка, и Эффи втолкнула меня внутрь. Усыпальница – крохотная часовенка с витражным окошком в дальней стене; калитка скрывала от любопытных глаз стул, молельную скамью и алтарь. Там вполне могли укрыться двое. Я закрыл глаза и протянул к Эффи руки.
Калитка захлопнулась прямо передо мной.
Я тут же открыл глаза: дерзкая девчонка улыбалась мне сквозь решетку. Я засмеялся и толкнул дверь, но защелка была снаружи.
– Эффи!
– Тебе страшно, правда? – спросила она.
– Эффи, выпусти меня!
– Ты взаперти и не можешь вырваться на волю? Вот так я чувствую себя с Генри. Он не хочет, чтобы я была живая. Он хочет, чтобы я была тихая и холодная, как труп. Ты не знаешь, каково это, Моз. Он заставляет меня принимать опий, чтобы я была смирной и послушной, но внутри мне хочется кричать, кусаться, бегать по дому голой, как дикарка!
Ее страсть и ненависть – вы не представляете, как будоражили они мой измученный вкус. Но меня терзало беспокойство: не слишком ли горяча она для меня? На миг я подумал, не отказаться ли от всей этой затеи, но искушение было слишком велико. Рыча как тигр, я стал покусывать ее пальцы через решетку. Она громко рассмеялась – словно птица вскрикнула на болотах.
– Ты не предашь меня, Моз.
Это было утверждение. Я покачал головой.
– Если предашь, я приведу тебя сюда и закопаю здесь навечно.
Она лишь отчасти шутила. Я поцеловал ее пальцы.
– Обещаю.
В сумерках я услышал, как она подняла защелку и вошла ко мне в склеп. Ее плащ упал на пол, за ним коричневое фланелевое платье. В сорочке она казалась призраком, ее прикосновение жгло, как горящая сера. Неопытность свою она с лихвой компенсировала пылом. Говорю вам, я почти испугался. Она царапалась, кусалась, набрасывалась на меня, пожираламеня своей страстью, и в темноте я не мог понять, кричит она от муки или удовольствия. На мою осторожную нежность она отвечала неистовой свирепостью. Все было жестоко и быстро – как убийство. А потом она плакала, но, мне кажется, вовсе не от горя.
В ней была тайна, приводившая меня в священный трепет, подобного мне не доводилось испытать ни с одной женщиной. Непостижимо, но она словно очистила меня.
Я знаю, что́ вы думаете.
Думаете, я влюбился в девчонку. Нет, не влюбился. Но в тот вечер – заметьте, только в тот вечер – я пережил то, что глубже краткой страсти, изведанной мною с другими женщинами. Казалось, наша встреча что-то раскрыла внутри меня. Я не был влюблен в нее, однако, вернувшись в тот вечер домой, не мог уснуть. Весь в ушибах и царапинах, точно после битвы, я всю ночь просидел у огня, думая об Эффи, потягивая вино, глядя в огонь, будто в ее глаза. Но сколько бы я ни пил, я не мог погасить жажду, разбуженную во мне ее обжигающим прикосновением, и целый бордель шлюх не утолил бы мое желание.