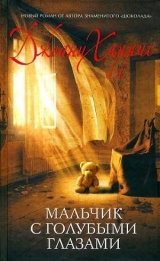
Текст книги "Мальчик с голубыми глазами"
Автор книги: Джоанн Харрис
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
13
ВЫ ЧИТАЕТЕ ВЕБ-ЖУРНАЛ BLUEEYEDBOY
Размещено в сообществе: badguysrock@webjournal.com
Время: 01.45, вторник, 5 февраля
Статус: публичный
Настроение: хищное
Музыка: Nirvana, Smells Like Teen Spirit
После этого доктор Пикок стал для Голубоглазого кем-то вроде героя или полубога. Было бы удивительно, если бы этого не произошло: все в докторе Пикоке вызывало его восхищение. Голубоглазый был ослеплен его личными качествами, всей душой жаждал его одобрения, собственно, и жил только ради этих кратких визитов в Особняк, и жадно ловил каждое слово, с которым доктор к нему обращался…
Сейчас в памяти Голубоглазого остались лишь мимолетные проявления благожелательности: их прогулки по розарию, чашка чая «Эрл грей», оброненное мимоходом ласковое слово. Тогда потребность в общении с доктором еще не превратилась в жадность, а любовь к нему – в ревность. Доктор Пикок обладал даром – каждый чувствовал себя с ним особенным; это ощущал не только Бен, но и его братья, и даже мать, которая была тверда как кремень, не смогла устоять перед чарами доктора.
Затем настала пора вступительных экзаменов. Бенджамину исполнилось десять, и с его первого посещения Особняка минуло уже три с половиной года. За это время очень многое изменилось. Его перестали терроризировать в школе (после той истории с циркулем его оставили в покое), но он тем не менее чувствовал себя несчастным. Он приобрел репутацию воображалы – а это в Молбри считалось одним из самых тяжких грехов, – что в дополнение к его прежнему статусу фрика, или попросту парнишки с приветом, могло привести практически к социальному самоубийству.
Укреплению дурной репутации Бена способствовало и то, что благодаря матери известие о его «необычайном даре» распространилось по всей округе. В результате даже учителя стали воспринимать его иначе, чем прочих детей, причем некоторые не скрывали своего раздражения. Этот ребенок не такой, как все, с ним слишком трудно поладить – так или примерно так считали учителя школы на Эбби-роуд. Надо отметить, большинство из них проявляли отнюдь не любопытство, а подозрительность, порой даже открытый сарказм, словно им лично чем-то угрожали великие ожидания матери Бена, а также его неумение приспособиться к окружающей посредственности.
Великие ожидания матери. Она еще более укрепилась в своих надеждах, поскольку теперь дар ее сына был признан официально. Имелось даже специальное научное название, синдром, от которого пахло болезнью и святостью; шипящие «с-с-з» в слове «синестезия» казались кудрявыми, темно-серыми и обладали сочным католическим ароматом.
Хотя для Бена все это особого значения не имело. Во всяком случае, именно в этом он себя убеждал. Еще год – и он обретет свободу, потому что поступит в Сент-Освальдс. Эту школу мать расписала удивительно привлекательными красками, а он почти всему поверил; и потом, доктор Пикок рассказывал о Сент-Освальдс с такой любовью, что Бен, отставив в сторону страхи, все силы устремил на то, чтобы стать таким, каким хотел его видеть доктор. Он стремился стать для доктора сыном, которого у того никогда не было; как выражался доктор, «щепкой от моего старого бревна…».
Порой Бенджамин думал: «А что, если я провалюсь на вступительном экзамене?» Но поскольку мать была абсолютно уверена, что экзамен – пустая формальность, что достаточно подписать несколько бумажек, и он войдет в заветные сияющие ворота, он понимал: лучше вообще не озвучивать свои тревоги и опасения.
Оба его брата учились в школе Саннибэнк-Парк. «В Саннибэнке одни недомерки», – любил он поддразнивать их; у Брендана это всегда вызывало смех, а Найджел прямо-таки свирепел и – если ему, конечно, удавалось поймать Бена – зажимал его между коленями и лупил, пока тот не начинал плакать. Но и тогда Найджел с воплем: «Черт бы тебя побрал, маленький урод!» – продолжал его бить, пока сам не уставал или пока мать, услышав крики и плач, не бросалась Бену на помощь…
Найджелу тогда было пятнадцать, и он ненавидел Бена. Собственно, он ненавидел его с самого начала, но за десять лет эта ненависть расцвела пышным цветом. Возможно, он ревновал к тому особому вниманию, которым всегда пользовался младший братишка, или его ярость была связана с переизбытком тестостерона, но, так или иначе, чем старше становился Найджел, тем чаще он употреблял свою немалую силу на доставление Бену страданий, причем не задумываясь о последствиях.
А Бен был тощенький и довольно мелкий. Куда ему было справиться с Найджелом, который для своего возраста был парнем весьма крупным, с хорошо развитой мускулатурой и знал множество различных способов причинить боль и практически не оставить следов. Это были ожоги, сделанные с помощью различных химических веществ, особые щипки с вывертом, укусы, пинки в голень под столом. Но если Найджел действительно выходил из себя, то совершенно забывал, что надо действовать исподтишка, и, не боясь наказания, колошматил своего братца почем зря, и ногами, и кулаками…
Впрочем, Найджелу было плевать на гнев матери; всякую кару он воспринимал как извиняющий предлог для того, чтобы лишний раз потом выместить на ком-нибудь свою злобу. Если его били, он становился только злее. Если его отправляли в постель без ужина, он потом насильно заставлял одного из братьев есть зубную пасту, или землю, или пауков, которых старательно собирал на чердаке и специально приберегал для подобного случая.
Брендан, который всегда был самым осторожным из них, все это принимал как должное. Возможно, он вообще был гораздо умнее, чем казался, и просто боялся возмездия. Он отличался невероятной плаксивостью, и если Найджел или Бен получали от матери взбучку, он плакал горше, чем они оба, вместе взятые; хотя для Бена он, по крайней мере, никакой угрозы не представлял, а порой даже делился с ним сластями – когда точно знал, что Найджела на горизонте нет.
Сладкое Брендан обожал, поедал его в немыслимых количествах. И это уже начинало сказываться: белый мягкий живот валиком нависал у него над ремнем коричневых, как ослиная шкура, вельветовых штанов, а грудь была выпуклой, как у девчонки, и заметной даже под мешковатыми коричневыми джемперами. Вообще-то они вместе с Беном вполне могли выстоять против Найджела, но у Брендана никогда не хватило бы на это силы духа. Так что Бену пришлось самому о себе заботиться, и чаще всего он сразу убегал, завидев поблизости старшего брата в черном.
Все вокруг менялось, и Голубоглазый постепенно менялся и взрослел. С раннего детства он имел склонность к головным болям, и теперь страдал от мигреней, начинавшихся обычно с ослепительно ярких, зловещих вспышек света перед глазами. Затем возникали различные вкусовые и обонятельные ощущения, гораздо более сильные, чем прежде, и почти всегда на редкость неприятные: запах тухлых яиц, или креозота, или липкая вонь проклятого витаминного напитка. Потом подступала тошнота, а боль становилась такой невыносимой, что прямо-таки придавливала его к земле, словно хороня заживо.
Во время этих приступов он не мог ни спать, ни думать, не мог как следует сосредоточиться на уроке в школе. Там ему приходилось особенно тяжело. Мало того, к этим приступам прибавилось еще и самое настоящее заикание, хотя и без того его речь всегда была неуверенной. Голубоглазый знал, в чем тут дело. Его дар – его необычайная чувствительность – теперь превратился в яд, медленно распространявшийся по организму; под постоянным воздействием этого яда он постепенно превращался из здорового, нормального мальчика в нечто такое, чему даже родная мать с трудом могла посочувствовать.
Она приглашала доктора, который сначала объяснил его головные боли периодом слишком быстрого роста, а потом стрессом, поскольку боли не только не исчезли, но и упорно становились все более мучительными.
– Стресс? С чего бы ему стресс-то испытывать? – в недоумении воскликнула мать.
Молчание сына раздражало ее даже больше его головных болей, и в итоге она устроила ему несколько весьма неприятных допросов с пристрастием, после которых он каждый раз чувствовал себя и вовсе из рук вон плохо. Вскоре он научился не жаловаться и притворяться, что с ним все в порядке, даже если его тошнило, даже если он чуть не терял сознание.
В качестве самозащиты он выработал свою систему борьбы с проблемами. Запомнил, какое лекарство надо украсть из материного буфета. Научился подавлять различные фантомные ощущения, бормоча всякие «магические» слова и вызывая особые образы. Знания об этих словах и предметах он почерпнул в книгах доктора Пикока и в его старинных картах. Ну и конечно, в самых темных, потайных уголках собственной души…
Мечты его чаще всего были окрашены в синие тона. Синий – цвет самообладания; для Голубоглазого он всегда ассоциировался с силой и энергией вроде электричества. Он научился мысленно представлять себе, что заключен в раковину обжигающе синего, ультрамаринового цвета, неприкосновенную, непроницаемую, неуязвимую. Там, в этой синей раковине, ему ничто не угрожало, там он мог полностью восстановиться. Синий – цвет безопасности. Синий – цвет безмятежности. Синий – цвет убийства. Свои мечты он записывал в ту же Синюю книгу, на страницах которой хранились и все его вымышленные истории.
Но помимо фантазий есть и иные способы борьбы с подростковыми стрессами. Нужна лишь подходящая жертва, желательно неспособная дать сдачи, козел отпущения, который возьмет на себя вину за то, что ты пострадал.
Первыми жертвами Бенджамина стали осы. Он ненавидел их с тех пор, как однажды оса ужалила его в рот, когда он выпил кока-колу из полупустой банки, оставленной без присмотра на летнем солнцепеке. С тех пор он считал ос виновными во всех неприятностях. Он мстил им, устраивая ловушки – банки, до половины заполненные сладкой водой, – а потом протыкал каждое насекомое иглой и с наслаждением наблюдал, как оса перед неизбежной смертью борется, пытаясь освободиться, и то высовывает, то втягивает свое бледное жало и извивается всем телом, заключенным в жесткий корсет, точно самая крошечная в мире танцовщица у шеста.
Иногда он заставлял и Брендана любоваться этим зрелищем, получая удовольствие при виде того, как тот смущенно ежится, явно ощущая себя не в своей тарелке.
– Ой, не надо! Гадость какая! – говорил Брен, и лицо его искажалось от страха и отвращения.
– Ты что, Брен? Это же всего-навсего оса.
Тот пожимал плечами.
– Знаю. Но пожалуйста, не надо…
Бен вытаскивал из осы иголку и отпускал ее. Насекомое, уже почти растерзанное, начинало совершать неловкие прыжки, пытаясь взлететь, а Брен болезненно морщился и вздрагивал.
– Ну что, доволен?
– Она все еще ш-шевелится, – лепетал Брендан, и лицо его опять искажалось.
А Бен вытряхивал содержимое банки на стол и заявлял:
– Ну так сам убей их.
– Ой, Бен, пожалуйста…
– Давай-давай. Убей. Избавь их от необходимости продолжать столь жалкое существование. Эх ты, жирный ублюдок!
– Нет! – почти со слезами молил Брендан. – Я н-не могу. Я просто…
– Давай! – Бен больно хватал брата за плечо. – Давай убивай! Убей вон ту прямо сейчас…
Некоторые родились убийцами. Но Брендан явно был не из их числа. И Бен, хоть и с некоторым раздражением, все же наслаждался тупой беспомощностью брата, тем, что на его болезненные тычки тот отвечает жалким хныканьем. А Брендан, забившись в угол и обхватив голову руками, никогда даже не пытался дать сдачи, хотя был на целых три года старше и фунтов на тридцать тяжелее. Бен всегда легко одерживал над ним победу. Не сказать, что он так уж сильно ненавидел Брендана, но подобная слабость просто приводила его в бешенство, и он начинал еще сильней мучить брата, чтобы снова увидеть, как тот извивается, точно оса в банке…
Пожалуй, это была действительно жестокая забава. Ведь Брендан ничего плохого ему не делал. Но это давало Бену ощущение власти, которого ему так не хватало, и помогало как-то справляться с усиливающимся стрессом. Получалось, что, мучая брата, он как бы делился с ним своими собственными страданиями, передавал их и тем самым спасался от той неведомой силы, которая заключала его в темницу, полную ужасных красок и запахов.
Впрочем, он не особенно над этим задумывался, он действовал скорее инстинктивно, обеспечивая себе защиту от окружающего мира. Впоследствии Голубоглазый узнал, что этот процесс называется переносом. Интересное слово, окрашенное в грязноватый сине-зеленый цвет, напоминающий те переводные картинки, которые его братья наляпывали себе на предплечья – дешевую и довольно неряшливую имитацию татуировки, пачкавшую рукава форменных рубашек и причинявшую им в школе немало иных неприятностей. Главное то, что в конце концов он научился с ними справляться. Сначала с ловушками для ос, потом с мышеловками и наконец с собственными братьями.
Нет, мама, ты только взгляни на своего Голубоглазого! Ведь он превзошел все твои ожидания! Он ходит на работу в костюме и чистой рубашке с галстуком – во всяком случае, вполне удачно притворяется, что ходит. И всегда берет с собой кожаный кейс. А в названии его должности присутствует не только слово «технический», но и слово «оператор». И даже если никто толком не знает, чем именно он там занимается, то просто потому, что большинство обычных людей понятия не имеют, какими сложными бывают операции, проводимые в больнице.
«Теперь врачи полагаются в основном на всякие машины, – рассказывает Глория своим приятельницам Адели и Морин, встречаясь с ними по пятницам. – Ведь в эти сканеры и аппараты УЗИ вложены миллионы фунтов, а значит, кто-то должен уметь с ними обращаться…»
Это ничего, что Голубоглазый приближался к этим аппаратам, только чтобы убрать под ними пыль. Ты же сама понимаешь, мама, какую силу имеет слово. Эта сила способна не только скрыть правду, но и раскрасить ее, точно павлиний хвост.
Ох, если б его мать обо всем догадалась! Уж она бы заставила его расплатиться за вранье! Но она, конечно, так ничего и не узнает; он слишком осторожен и никогда этого не допустит. Возможно, у нее появились подозрения, но, по его мнению, на них можно не обращать внимания. Все дело в выдержке. В выдержке, в выборе момента и в самообладании. Это все, что, в конце концов, нужно убийце.
И потом, вам же известно: мне это не впервой.
КОММЕНТАРИИ В ИНТЕРНЕТЕ
JennyTricks:(сообщение удалено).
ClairDeLune:Дженни, тебе не надоело? Зачем тогда вообще соваться со своей критикой? Знаешь, Голубоглазый получилось весьма интригующе. Ты, кстати, просмотрел тот список литературы, который я послала? Было бы очень интересно узнать твое мнение…
14
ВЫ ЧИТАЕТЕ ВЕБ-ЖУРНАЛ ALBERTINE
Время: 01.55, вторник, 5 февраля
Статус: ограниченный
Настроение: бдительное
Сегодня вечером в моем почтовом ящике пусто. Только одно сообщение от Голубоглазого, он все искушает меня выйти поиграть с ним. Я почти уверена, что он ждет меня; часто в это время он заходит на мой сайт и остается чуть ли не до утра. Интересно, что ему нужно от меня? Любовь? Ненависть? Исповедь? Ложь? Или он просто жаждет общения? Может, ему необходимо знать, что я по-прежнему читаю его посты? Глубокой ночью, когда даже Бог представляется космической шуткой, когда до тебя, кажется, ровным счетом никому нет дела, все мы, пожалуй, нуждаемся в какой-то поддержке, в ком-то, кого можно коснуться. Даже ты, Голубоглазый, в этом нуждаешься, правда? В ком-то, кто следил бы за мной и за тобой сквозь стекло, с мрачным видом выуживая из клавиатуры компьютера мои послания к мертвым.
Неужели Голубоглазый потому и пишет эти свои истории, а потом отправляет их мне? Или это приглашение к игре? Неужели он ожидает, что я отвечу ему аналогичными признаниями?
С ТЕГОМ BLUEEYEDBOY ОПУБЛИКОВАНО НА BADGUYSROCK
Время: 01.05, вторник, 5 февраля
Если бы вы были животным, то каким? Орлом, парящим над горами.
Ваш любимый запах? Запах в кафе «Розовая зебра» по четвергам во время ланча.
Чай или кофе? А зачем пить чай или кофе, если можно выпить горячего шоколаду со сливками?
Какое мороженое вы предпочитаете? Со вкусом зеленого яблока.
Что на вас в данный момент надето? Джинсы, кроссовки и мой любимый старый кашемировый свитер.
Чего вы боитесь? Привидений.
Ваша последняя покупка? Купила мимозу. Это мои любимые цветы.
Что вы ели в последний раз? Тост.
Ваш любимый саундтрек? Йо-Йо Ма, играющий Сен-Санса.
В чем вы спите? В старой рубашке, принадлежавшей моему бойфренду.
Что вам наиболее ненавистно в отношении к вам других людей? Снисходительность, покровительственное отношение.
Ваша самая худшая черта? Переменчивость.
У вас есть шрамы или татуировки? Больше, чем хотелось бы.
У вас бывают повторяющиеся сны? Нет.
У вас в доме пожар. Что вы спасете? Компьютер.
Когда вы в последний раз плакали?
Ну… мне бы хотелось ответить: когда погиб Найджел. Но мы оба знаем, что это неправда. И как мне объяснить ему тот тайный, совершенно иррациональный прилив радости, которая перекрывает даже мое горе? И пришедшее понимание того, что во мне явно чего-то не хватает, какого-то чувства.
Видите, я действительно плохая. Не представляю, как справиться с моей потерей. Смерть оказалась для меня опьяняющим коктейлем, где одна часть – печаль, а три части – огромное облегчение; причем то же самое я испытывала и с отцом, и с матерью, и с Найджелом… и даже с бедным доктором Пикоком…
Голубоглазый знал – мы оба знали, – что я просто обманывала себя. Найджел никогда не дарил мне и шанса. Наша с ним любовь с самого начала была обманом, ложью; она давала зеленые побеги, точно срезанная ветка в вазе с водой, но то были побеги не выздоровления, а отчаяния.
Да, я была эгоистична. Да, я была не права. С самого начала мне было известно, что Найджел принадлежит кому-то еще. Той, которой никогда не существовало. И после стольких лет бегства мне захотелось стать этой девушкой, утонуть в ней, как ребенок тонет в теплой пуховой подушке, забыть о себе – и обо всем – в объятиях Найджела. Друзей онлайн мне было уже недостаточно. Мне вдруг захотелось большего. Захотелось стать нормальной, встретиться с миром не через стекло, а через губы и пальцы. Да, мне захотелось большего, чем эта виртуальная реальность, большего, чем имя, сорвавшееся с кончиков пальцев, прикоснувшихся однажды к клавиатуре. Мне захотелось быть понятой, но не кем-то далеким, извлеченным из Интернета посредством все тех же клавиш, а тем, кого я могла бы коснуться…
Однако прикосновение порой бывает фатальным. Мне следовало знать это, такое бывало и раньше. Не прошло и года, как Найджел умер, отравленный близостью ко мне. Девушка Найджела доказала, что столь же ядовита, как Эмили Уайт, что одним-единственным словом способна послать кому-то смерть…
Или, как в данном случае, одним письмом.
15
ВЫ ЧИТАЕТЕ ВЕБ-ЖУРНАЛ ALBERTINE
Время: 15.44, вторник, 5 февраля
Статус: ограниченный
Настроение: тревожное
То письмо пришло в субботу, когда мы завтракали. К этому времени Найджел уже практически жил у меня, хотя по-прежнему снимал квартиру в Молбри. У нас установился вполне приемлемый для обоих распорядок. Оба мы были типичными «совами» и лучше всего чувствовали себя именно ночью. Так что Найджел заявлялся домой часов в десять, мы с ним выпивали бутылочку вина, потом болтали, потом занимались любовью, потом немножко спали и в девять утра уходили на работу. По выходным он оставался у меня дольше, порой часов до десяти или даже одиннадцати, вот почему, во-первых, он был еще дома, во-вторых, письмо сразу попало к нему в руки. В будний день он бы даже и конверта не вскрыл, и я потом прочла бы это письмо и решила, что с ним делать. Мне кажется, то, что именно он прочел его, – тоже часть продуманного плана. Но тогда я и понятия не имела, какая бомба таится в конверте и с какой силой она взорвется как раз в тот момент, когда мы, ни о чем не подозревая…
Было утро; я ела овсяную кашу с молоком, которая все время липла к ложке и противно хлюпала. Найджел ничего не ел и со мной почти не общался. Он вообще завтракал крайне редко, а уж молчать умел поистине угрожающе, особенно по утрам. Все прочие звуки описывали орбиту вокруг его неколебимого безмолвия, словно спутники зловещей планеты: поскрипывание дверцы кладовой, стук ложки о стенки кофейника, звяканье чашек. Секундой позже щелкнула дверца холодильника – и тут же была с силой захлопнута. Вскипел чайник – точно краткое извержение вулкана, за которым последовал финальный выстрел: грохнула крышка почтового ящика, и на пол с глухим стуком упала принесенная почтальоном корреспонденция.
В основном я получаю по почте всевозможный хлам, что-то стоящее приходит крайне редко; счета я оплачиваю по карточке. Письма? К чему зря стараться? Поздравительные открытки? Господи, забудьте об этом!
– Есть что-нибудь интересное? – спросила я.
Некоторое время Найджел ничего не отвечал. Слышалось только шуршание бумаги. Собственно, это был один-единственный листок, который Найджел развернул с сухим треском, напоминавшим звук резко выхваченного из ножен кинжала.
– Найджел?
– Что?
В раздражении он всегда дергал ногой, и в тот момент я слышала, как постукивает его нога по ножке стола. В его голосе появилось нечто новое, это его «что» упало так ровно и тяжело, словно какая-то сила мешала ему говорить. Он разорвал конверт пополам, а листок с письмом сначала слегка приподнял над столом, а потом попробовал на большом пальце, точно лезвие бритвы.
– Надеюсь, это не плохая новость? Ничего ужасного не случилось?
Я не стала упоминать о том, чего боялась больше всего, хотя уже чувствовала, как надо мной нависает туча.
– Черт возьми, дай же мне наконец прочитать, – буркнул Найджел.
Теперь та помеха, что не давала ему говорить, оказалась совсем близко, и я могла налететь на нее, точно на столешницу с острыми краями, непонятным образом переместившуюся в совершенно неожиданное место. Миновать острые предметы совершенно невозможно; по закону всемирного тяготения они каждый раз втягивают меня на свою орбиту. А Найджел обладал прямо-таки невероятным количеством острых краев и углов. А также зон, куда мне не было доступа.
«Но это же не его вина, – думала я, – иначе я бы его не заполучила». Мы странным образом отлично дополняли друг друга: он с его мрачным настроением и я с моим недостатком темперамента. «Ты вся нараспашку, – любил повторять он, – нет в тебе никаких потайных уголков, никаких неприятных тайн». Тем лучше, ведь обман и хитрость, эти исходно женские черты, Найджел больше всего презирал и ненавидел. Хитрость и обман, столь чуждые не только ему самому, но, как он считал, и мне.
– Я уйду примерно на часик. – Он словно от чего-то оборонялся; голос его звучал странно. – Ты посидишь тут немножко одна, ладно? Мне надо навестить мать.
Глория Уинтер, урожденная Глория Грин, шестидесяти девяти лет, цеплявшаяся за остатки своей семьи с упорством голодной рыбы-прилипалы. Я знала ее только по голосу в телефонной трубке: типичный северный выговор, нетерпеливое постукивание пальцами по трубке, властная манера прерывать собеседника и внезапно отключаться, отсекая тебя от своей персоны с резкостью садовника, подрезающего розы.
Мы с ней никогда не были представлены друг другу. Во всяком случае, официально. Но Найджел рассказывал о ней, и я узнавала ее по голосу и по зловещему молчанию на том конце провода. Были и другие вещи, о которых Найджел умалчивал, но которые я понимала даже слишком хорошо. Ревность, злоба, затаенная вражда, ненависть, смешанная с беспомощностью.
Он редко обсуждал со мной мать. Даже ее имя звучало редко. Прожив с Найджелом некоторое время, я поняла, что кое о чем лучше и не заикаться – например, о его детстве, об отце, о братьях, о его прошлом и особенно о Глории, поскольку она, как и другой ее сын, обладала редкой способностью пробуждать в Найджеле все самое худшее.
– А твой брат что, не может сам решить вопрос?
Найджел остановился уже у самой двери. «Интересно, – подумала я, – обернется ли он, уставится ли на меня своими темными глазами?» Он редко упоминал о брате, а когда это случалось, то говорил о нем только самое дурное. Извращенный маленький ублюдок – это, пожалуй, самая мягкая из тех характеристик, какие я слышала Найджелу, впрочем, всегда не хватало объективности, когда речь заходила о его семье.
– Мой брат? При чем здесь он? Он что, с тобой общался?
– Конечно же нет. С какой стати ему со мной общаться?
Найджел помолчал, но я чувствовала его взгляд у себя на макушке.
– Грэм Пикок умер, – наконец сообщил он, и голос его прозвучал до странности ровно. – Судя по всему, какой-то несчастный случай. Выпал ночью из своего инвалидного кресла. Его нашли только утром. Уже мертвым.
Я так и не подняла на него глаза. Не посмела. Все вдруг показалось мне словно опутанным волшебными чарами: странный вкус кофе у меня во рту, странный щебет птиц, странный стук сердца, даже знакомая столешница под моими пальцами со всеми ее шрамами и царапинами была странной на ощупь.
– Это письмо от твоего брата? – спросила я.
Мой вопрос Найджел проигнорировал. Но сказал:
– Здесь написано, что почти все имущество Пикока, а его оценивают примерно в три миллиона фунтов…
Тут он снова умолк.
– И что с его имуществом? – нетерпеливо поторопила я.
Отчего-то его странный, неизменно ровный голос тревожил меня куда сильнее, чем взрывы его гнева.
– Все свое имущество он оставил тебе, – закончил Найджел. – И дом, и предметы искусства, и коллекции…
– Мне? – удивилась я. – Но я даже не знакома с ним!
– Извращенный маленький ублюдок.
Мне не было нужды уточнять, кого он имеет в виду; это выражение всегда приберегалось для его братца. Я много раз слышала эту фразу и все же в тот момент почти поверила, что Найджел мог бы убить человека, мог бы забить его до смерти кулаками и ногами…
– Это, наверное, ошибка! – воскликнула я. – Я не была знакома с доктором Пикоком. Даже не представляю, как он выглядит. С какой стати ему оставлять мне свои деньги?
– Ну… может, из-за Эмили Уайт.
Голос у Найджела был совершенно бесцветным. И мне вдруг показалось, что у кофе вкус пыли, птицы совсем умолкли, а мое сердце превратилось в камень. Это имя все изменило, из-за него все вокруг притихло, и только внутри у меня что-то гудело, как провода высокого напряжения, это начиналось где-то внизу, в районе копчика, и поднималось все выше, точно вздымая волну смертоносного статического электричества, а вместе с ней – все минувшие двадцать лет моей жизни…
Конечно, мне следовало сразу все рассказать Найджелу. Но я так долго скрывала правду, надеясь, что он всегда будет со мной, надеясь, что теперь настали лучшие времена. Я никак не предполагала, что этот раз – последний…
– Эмили Уайт, – повторил Найджел.
– Никогда не слышала о ней, – ответила я.








