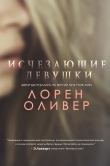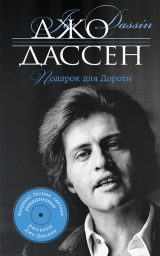
Текст книги "Подарок для Дороти (сборник)"
Автор книги: Джо Дассен
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Annotation
На песнях Джо Дассена выросло не одно поколение не только на его родине, во Франции, но и во всем мире. Слава его – поистине всенародна. Сегодня, спустя тридцать лет после смерти великого певца, его песни по-прежнему в хит-парадах ведущих радиостанций. «Елисейские поля», «Если б не было тебя», «На велосипеде по Парижу» – стоит услышать эти песни, и тоска и депрессия улетучиваются, как по волшебству.
Самые талантливые люди – влюбленные. Джо Дассен был влюблен в девушку по имени Дороти. На свой день рождения она получила подарок, который может сделать возлюбленной только очень талантливый человек, – рассказы, в которых радость приправлена легкой грустью, ирония – светлой печалью. Но главное – в них была легкость. Та самая легкость, которая потом станет «визитной карточкой» знаменитого музыканта.
Надеемся, эта книга станет отличным подарком и для вас, дорогие читатели, и для тех, кого вы любите.
Перевод: Леонид Ефимов
Джо Дассен
Предисловие
Джо Дассен
Подарок для Дороти (сборник)
Предисловие
Джозеф Айра Дассен родился в Нью-Йорке, провел детство в Лос-Анджелесе и отрочество в Европе (Англия, Франция, Швейцария). В 1957 году, сдав в Гренобле экзамен на степень бакалавра, он переезжает в Энн-Арбор, городок рядом с Детройтом, где расположен один из самых престижных в Соединенных Штатах Мичиганский университет. И после собеседования поступает туда по итогам успеваемости. Той осенью Джо исполнится восемнадцать лет.
До этого он жил в пансионе в Женеве. Его родители недавно развелись. Отец, сделавший с нуля карьеру во Франции, после того как был изгнан из Голливуда во времена маккартизма, живет с актрисой Мелиной Меркури в отелях, мотаясь между Афинами, Парижем и Нью-Йорком. Он недавно добился успеха благодаря гангстерскому детективу «Мужские разборки», получившему премию Каннского фестиваля за лучшую режиссуру, и вскоре ему предстоит познать новый кинематографический триумф с комедией «Только не в воскресенье».
Джо, принятый сразу на третий курс, радостно и жадно открывает для себя жизнь в американском кампусе с его свободой и новыми возможностями, занимается множеством дел и заводит разнообразные знакомства.
В ту эпоху американский образ жизни еще предстает во всем своем блеске (по крайней мере, в средствах массовой информации), обещая материальный комфорт своими холодильниками и красивыми автомобилями, которые будто бы делают роскошь доступной для всех – настоящая сказка для подавляющего большинства людей в остальном мире, увязшем в муках преодоления последствий колониализма и гонки вооружений. Это апогей «Славных тридцатых», когда душевное спокойствие послевоенной Америки, обеспеченное превосходством ее идеалов и институтов, еще не нарушено разразившейся вскоре Вьетнамской войной. Но в ту же эпоху появляются и первые признаки грядущих проблем. Движение за гражданские права чернокожих наталкивается на расовую ненависть, которую только обострило постановление Верховного суда, объявившего неконституционной сегрегацию в общественных школах, и решение президента Эйзенхауэра ввести национальную гвардию в Литл-Рок, чтобы заставить уважать это постановление. «Холодная война» принимает неожиданный оборот с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника, что ошеломило и встревожило «свободный мир». А тут еще битники сеют первые семена радикального недовольства обществом потребления среди молодежи, которая непонятно почему отказывается от радужного будущего, которое ей сулят.
Отец Джо Жюль (Джулиус) Дассен посылает слишком мало денег своему сыну. Внеся плату за обучение, Джо с трудом перебивается и вынужден хвататься за любую работу, приносящую хоть какие-то гроши. А поскольку он не может позволить себе членство в одном из традиционалистских братств, к которым принадлежали обеспеченные студенты, то селится в «коопе», своего рода маленькой общине, члены которой сокращают расходы, по очереди делая покупки, готовя, моя посуду, занимаясь уборкой и стиркой. Однако европейское воспитание и семейное наследие (его мать Беатрис была виолончелисткой, ученицей Пабло Касальса), а также собственные вкусы и пристрастия влекут его к наиболее артистической, интеллектуальной и космополитичной части студенческого сообщества, оживляющей маленький городок.
Его лучшие друзья по «коопу» – двое чернокожих, Эл Янг, который через несколько лет уедет в Калифорнию, где станет признанным поэтом, и Билл Мак-Адо – этот вернется в Нью-Йорк и примкнет к «Черным пантерам», за что и угодит в тюрьму. С ними и несколькими другими Джо поет и исполняет на гитаре песни в стиле блюз и фолк – традицию этой народной американской музыки возродили музыковеды Джон и Алан Ломаксы и такие певцы, как Вуди Гатри, Лидбелли, Пит Сигер и Боб Гибсон; она пользовалась тогда необычайным успехом у молодежи, а вскоре ее вознесет на небывалую высоту Боб Дилан. Порой Джо с друзьями выступает на сцене. Чтобы заработать немного на карманные расходы, он также поет субботними вечерами в кафе вместе с одним французским студентом-математиком[1] , который с его подачи присоединился к «коопу». Вскоре они поселятся в маленьком домике вместе с Биллом Спенсером, деревенским парнем из Северного Мичигана, мечтавшим стать писателем, и молодым швейцарским физиком Бернаром Левратом. Культурная жизнь в Энн-Арборе бьет ключом. Студенты ходят смотреть фильмы Бергмана и Годара в городской кинотеатр экспериментального киноискусства, слушают гастролирующих музыкантов и общаются с ними после концертов. Так Джо знакомится с совсем юной и очаровательной певицей Джоан Баэз, легендарным классическим пианистом Гленом Гульдом, со звездами современной музыки Джоном Кейджем, Лучано Берио, Мортоном Фелдманом; он очень подружился с композитором Гордоном Мумма и художником Энди Аргиропулосом. Ему также представлялся случай поболтать с известными писателями, приезжавшими для участия в семинарах, – Нельсоном Олгреном, Гором Видалом, Уильямом Стайроном. Но, как и у многих молодых людей того поколения, его литературным героем стал таинственный Джером Сэлинджер, автор культовой книги «Над пропастью во ржи».
Джо не привлекало обучение «настоящим профессиям», к которым стремились студенты-конформисты, богатые папенькины сынки из братств, – медицина, право, инженерное дело, бизнес. Будучи принят новичком-третьекурсником на факультет гуманитарных наук, он должен выбрать университетскую специализацию, и он выбирает этнологию, которой давно и страстно увлекался. Тем не менее, изучая у авторитетных преподавателей археологию и культуру индейцев хопи из штата Нью-Мексико, он втайне лелеет мечту стать писателем и много пишет, черпая материал в своем автобиографическом багаже. Так появляется на свет несколько рассказов, которые он дает читать друзьям. Один из них даже удостоился литературной премии, что позволило автору опубликовать его в университетском журнале «Generation» («Поколение»).
После дипломной работы на степень магистра Джо Дассен оставил и этнологию, и свои литературные опыты, которые в конечном счете могли бы стать многообещающим началом карьеры романиста. В свои парижские годы он, правда, написал роман и несколько рассказов, но, став известным эстрадным певцом, которого по-прежнему любят во Франции, наверняка просто не имел времени, чтобы писать. Однако есть свидетельства, что в сорокалетнем возрасте, незадолго до рокового инфаркта, оборвавшего его жизнь, он говорил, что не хочет оставаться на эстраде до старости, и был решительно настроен покинуть шоу-бизнес ради того, чтобы целиком посвятить себя литературе. Здесь представлены юношеские произведения Джо Дассена – спустя более полувека после написания и более трети века после его безвременной кончины. Так они и пролежали все это время – забытые, почти неизвестные публике и по большей части неизданные (за исключением двух новелл, опубликованных на английском языке в университетском журнале Энн-Арбора году примерно в 1960-м). Еще один рассказ лежал у его американской подруги Дороти Шеррик и выплыл лишь совсем недавно, после того как она списалась с сыном Джо в «Фейсбуке» и выслала ему произведение отца.
Джо был упорным тружеником, перфекционистом, который наверняка захотел бы еще раз перечитать эти тексты перед публикацией. Но даже такие, как есть, они не утратили ни своей силы, ни свежести, свойственной восприятию совсем молодого, щедро одаренного человека, еще колеблющегося на пороге взрослой жизни перед открытием других людей и самого себя, в поисках своих корней, своего пути, своего стиля, – как это было с любым молодым человеком в начале шестидесятых годов. Юность и сейчас такая же. И будет такой всегда.
Ришель Дассен и Ален Жиро
Семейный сбор
Известно, что во все времена и во всех странах семейные истории – этот воистину становой хребет литературы – служат основой большинства рассказов и романов, бесчисленных комедий и трагедий. И надо еще суметь, оттолкнувшись от них, придумать свою собственную.
Джо Дассен был прирожденным рассказчиком, обожавшим расцвечивать повествование подробностями (и даже изображать в лицах). Сочиняя эту новеллу, когда ему едва исполнилось двадцать лет, он словно открывает, совершенно стихийно и естественно (но используя ее с удивительной зрелостью), творческую струю Джона Фанта, Филипа Рота или Габриеля Гарсиа Маркеса, хотя в то время ни один из этих авторов не был ему известен, да и вообще известен.
Герой этого рассказа – его дед со стороны отца, молодой одессит, который, спасаясь от погромов, в начале ХХ века добрался до Нью-Йорка.
Согласно семейному преданию, когда его регистрировали в пресловутом иммиграционном центре на Эллис-Айленде, неподалеку от статуи Свободы, на вопрос: «Как ваша фамилия?» – он ответил: «Одесса», решив, что его спрашивают, откуда он родом. Чиновник же, толком не расслышав, написал в бумагах «Дассин». Перенеся трагикомические эпизоды подлинной американской одиссеи Дассенов в семью выходцев из Калабрии, Джо пишет рассказ «Семейный сбор», где образы его дядюшек, дедушек, бабушек и родителей – такие, какими они запомнились ему с детства, – обретают новую жизнь.
Написать этот рассказ Джо попросила Дороти Шеррик, его подруга во времена Энн-Арбора, – в качестве подарка на день рождения. Он преподнес ей рукопись, снабженную краткой запиской, которая показывает, что, несмотря на все очарование этой новеллы, ее живость, трогательный юмор и суровую печаль в финале, сам он не был ею полностью удовлетворен. Быть может, не без противоречий и некоторой притворной скромности он написал следующее: «Здесь, моя милая, нет ничего, кроме, собственно, первоначального порыва, хотя я уже выбросил почти двадцать страниц. Я столько возился с этим рассказом на прошлой неделе, что дошел до ненависти к каждому его слову, хотя, если говорить серьезно, мне кажется, что там есть неплохие места».
У моего отца было пять братьев. И он, и моя мать, пережив некоторые неприятности с возвратом эпохи процветания [2] , часто с волнением рассказывают о старых добрых временах Депрессии, когда сыновья Бонани были грозой и славой территории, простиравшейся между надземным метро и Ист-Ривер, между Хаустон-стрит и Дилэнси-стрит.
Разумеется, все это происходило после ухода Папи Бонани с подлой Этель, чье имя всегда произносили в нашей семье шепотом.
Бонани приплыл из Калабрии в трюме корабля в возрасте восемнадцати лет, позаимствовав маленькую пачечку лир у каждого из членов, даже самых отдаленных, своей обширной семьи. В своей родной деревне Баньоли он был учеником брадобрея, а потому нашел работу в парикмахерской на Манхэттене – всего через четыре дня после того, как надул инспектора иммиграционной службы с помощью липового письма от вымышленного дядюшки, якобы ручавшегося за его денежное обеспечение. Письмо было написано неким учителем, который специализировался на корреспонденциях такого рода, и это стоило Бонани его жалованья за первые дни. Но через два года он уже стал собственником парикмахерского инвентаря, женатым человеком и отцом малыша, которого назвали именем того из родственников, кто одолжил ему наибольшую сумму на переезд в Америку.
Сухой закон обошелся с ним ласково. Он нашел сказочную работу у торговавшего ромом бутлеггера, ностальгирующего макаронника, который со своими итальянскими подельниками говорил исключительно по-английски и позволял себе немного расслабиться и поболтать на родном языке лишь со своим персональным цирюльником.
Бонани, осыпаемый умопомрачительными гонорарами, перевез жену в Бруклин-Хайтс и за пять лет настрогал ей еще четверых сыновей. Но тут босса в день его сорокалетия пришили из автомата в известном борделе, собственником которого он и являлся. Бонани, правда, нашел новую работу, брадобреем на подмену в большом парикмахерском салоне на двадцать пять кресел, в Нижнем Ист-Сайде, но судьбе было угодно, чтобы потеря синекуры случилась в самый неподходящий момент. Меньше чем через месяц разразился крах на Уолл-стрит, а последовавшая за ним Великая Депрессия среди самых своих безобидных злодеяний лишила его места подменного работника в парикмахерском салоне, поскольку штатные брадобреи, полные признательности за сохранение своих должностей в эти смутные времена, выражали свою благодарность замечательным усердием в труде.
Даже приобретя некоторый поверхностный светский лоск при общении со своим безвременно усопшим боссом, Бонани, в общем-то, сохранил вполне крестьянский взгляд на вещи: у Бога своя работа, у него своя. Из-за чего продолжение событий оказалось катастрофическим. Достигнув определенного возраста, Бонани почувствовал разочарование и неудовлетворенность, а главное, устал от своей жены. В конце концов он реализовал свою потребность в свободе, отбросив все нравственные обязательства перед семьей и убедив Этель бежать с ним в Нью-Джерси.
Насчет Этель никто ничего толком не знал. Много лет она была его любовницей и однажды даже навестила его дома, когда он болел, выдав себя за супругу брата одного товарища по работе. Дети запомнили ее до странности мужские повадки и губы точно лезвие бритвы.
Год или два Бонани делал спорадические попытки увидеться с детьми, но и он и они чувствовали себя во время этих все более редких встреч довольно неловко. В конце концов он мало-помалу совершенно исчез из их жизни.
Согласно семейной легенде, когда Мами Бонани наконец убедилась, что он ушел по-настоящему, она на три часа заперлась в ванной. Никто из ее шестерых сыновей так и не узнал, для чего: то ли чтобы выплакаться, то ли чтобы спокойно поразмыслить. Выйдя оттуда, она дала Питеру, старшему, пять центов, чтобы он купил газету и нашел себе работу среди объявлений.В конечном счете все они набились в двухкомнатную квартирку в Испанском Гарлеме, и вскоре даже самый маленький, Эдди, начал работать. Так, переезжая с места на место, они и пережили Депрессию, и это подарило мальчикам чувство семейного единства крепче закаленной стали. Позже они разъехались по разным концам страны, но братские узы, выкованные в те годы, навсегда сохранились.
Мой отец обосновался в Лос-Анджелесе, где нашел место преподавателя английского. Мы были очень близки с моим дядей Эдди и его семьей, которые жили в долине Сан-Фернандо, можно сказать, по соседству. И ни дня не проходило без того, чтобы мы не узнавали обо всем, что творилось в жизни других моих дядьев – Питера и Карно, оставшихся в Нью-Йорке, Ника, торговавшего мехами в Кливленде, и Джона, который занимался розничным сбытом спиртного в Детройте. И все-таки увидеть их всех вместе можно было нечасто.
Как раз один из таких случаев представился, когда отец получил повышение, став заведующим кафедрой английского языка в Высшей школе Мэрион Плейс. В порыве ностальгии мои дядья попытались перекрыть веревкой нашу маленькую улочку в Лос-Анджелесе, созвав соседей на празднество, как делали это в Нижнем Ист-Сайде. Результатом этой инициативы – кроме всеобщего похмелья – стал арест моего дядюшки Карно, правда, вскоре выпущенного под залог, собранный в складчину всеми его братьями. На следующее утро наш дом стал сценой их протрезвления, что сильно напоминало другой памятный день, пятнадцать лет назад, когда они вытащили Карно из участка на Дилэнси-стрит после того, как он сбил парик преподавателя гимнастики теннисной туфлей.
Другой случай, на сей раз в Нью-Йорке, предоставил выпускной вечер Мами Бонани, увенчавший ее занятия в вечерней школе. На вручение аттестата в общественную школу № 112 собралась, словно цыганский табор, вся семья. Благодаря клаке сыновей, их жен и отпрысков, толпившихся среди прочей публики в актовом зале, рукоплескания, встретившие Мами Бонани, были оглушительными и долгими. От смущения она слишком низко поклонилась представителю муниципалитета, а когда тот протянул ей заветный аттестат, вмазала ему в ухо влажный поцелуй. Во время последовавшего празднества Мами подарила каждому из присутствующих свой портрет с собственноручной подписью. На студийных фото сотня ее кило была задрапирована академической мантией, квадратная шапочка с помпоном, а отретушированные морщины слились в массивную гладкую маску. Я все еще храню доставшееся мне фото, несмотря на выраженную тенденцию с озадачивающей скоростью терять все предметы, касающиеся официальных торжеств.Но такие случаи были исключениями. В основном поводом для сборища всех моих дядьев все в той же гостиной неизбежно была кончина кого-нибудь из родственников. Например, один такой сбор дал мне знать о смерти двоюродного дедушки Анатоля.
Анатоль был старичок, никогда не приезжавший к нам без яблок для меня или для любого моего друга или кузена, которому случалось тут оказаться. Нельзя сказать, что в нашем доме не хватало свежих фруктов: моя мать в первые же дни своего замужества купила некую поваренную книгу, осененную воистину библейской славой, которая называлась «Давайте питаться правильно». Эта книга рекомендовала овощи, приготовленные на пару, слегка отваренное мясо и утверждала, что свежие фрукты предотвращают простуду, запоры, недостаток витаминов и болезни роста. Но Анатоль извлекал свои яблоки из-за подкладки пальто и раздавал их с такими невероятными фортелями, что они казались нам чем-то магическим, чем-то по-настоящему из ряда вон выходящим. Моей матери приходилось ограничивать потребление этих яблок так же, как она нормировала выдачу конфет, чтобы хоть немного уберечь наши желудки от расстройства.
Анатоль, несмотря на возраст, делал стойку на руках и голове у подножия лестницы и поощрял нас подбирать монеты, которые сыпались при этом из его карманов. А по особым случаям сооружал себе сандвич с куском мыла, положив его между двумя ломтями хлеба, и с аппетитом уплетал. Его смерть от приступа острого аппендицита надолго опечалила всю семью. Каждый из моих дядюшек по очереди заказывал службу за упокой его души, и даже мой отец, великий скептик в области религии, ходил ради этого в церковь; правда, он утверждал, что делает это лишь из-за братьев.
Честно говоря, для меня в смерти Анатоля не было ничего ужасного или фатального. Надо сказать, что его напудренные останки, проститься с которыми нас привели в траурный зал при кладбище, имели лишь смутное сходство с человеком, который набивал карманы медяками, а атмосфера траура в доме, хоть и весьма ощутимая, витала в нем как-то абстрактно и умозрительно, не слишком напоминая о личности двоюродного дедушки. К тому же смерть в семье в первую очередь означала, что состоится большой сбор, а для детей моего поколения сам факт, будет ли он созван ради рождественской трапезы или ради чьей-то кончины, был делом совершенно второстепенным.
Сердечность отношений между братьями Бонани почти на генетическом уровне передалась и их детям – мы ладили между собой гораздо лучше, чем ватага обычных кузенов. Истинная причина, почему мы ждали этих встреч с таким нетерпением, была проста: мы здорово веселились на каждых похоронах. Впрочем, даже у взрослых крепость семейных уз изрядно смягчала серьезность момента, и ветерок хорошего настроения, исподтишка овевавший их скорбные физиономии, здорово противоречил подобающему обстоятельствам выражению. Мрачное испытание, состоящее в том, чтобы пройти чередой перед гробом или бросить горсть земли в разверстую могилу, обнаруживало простую установку: родители учили нас, что все хорошее надо заработать, и мы чувствовали, что тут речь идет лишь об очень временной неприятной обязанности, которую требуют правила игры, а когда придет время, она уступит место удовольствию совместных увеселений.К тому же обычные похороны трогали меня куда меньше, чем похороны дедушки Анатоля. Он-то был по-настоящему близким родственником, и, хотя его личность и траурная церемония не слишком вязались друг с другом, по крайней мере его имя что-то мне говорило. В большинстве же остальных случаев – похорон нашей двоюродной бабки Иды, например, или какого-нибудь отдаленного кузена моих родителей – торжественность момента была совершенно искусственной, потому что (для меня по крайней мере) не ассоциировалась ни с каким реальным человеком.
Вот таким же неопределенным и двусмысленным обещанием неизбежного веселья, наподобие заявленных похорон, стало и неожиданное появление моего деда Бонани – это через восемнадцать-то лет, за время которых ни один из его сыновей не знал наверняка, жив он или умер. В общем, он вновь объявился среди живых и заявил о своем намерении вымолить прощение у своей жены – чистейший стиль сконфуженного мужа, который, сбившись с прямого супружеского пути, провел выходные на стороне.
В тот день я вернулся домой необычайно возбужденный, потому что для игры в оркестре младших классов выбрал аккордеон. Был в нашей классной комнате шкаф, к которому мы испытывали огромное влечение, поскольку никто никогда не видел его открытым, с тех пор как мы поступили в школу, а это вызывало немало вздорных домыслов насчет его содержимого. На самом же деле он был набит музыкальными инструментами, в основном дудками и бубнами, но оказался там также и притаившийся в шатком равновесии на верхней полке настоящий детский аккордеон. Как только нам объявили, что классу надо составить оркестр, дабы оживить концертом ближайшее родительское собрание, аккордеон, естественно, стал вожделенным инструментом, которого все стали домогаться. Тогда наш учитель со свойственным ему оппортунизмом сделал его первым призом за устное испытание по орфографии, которое я и выиграл, назвав все буквы в слове «отсутствие».
Великолепие моего трофея еще больше подчеркнуло наличие родственников, которых я обнаружил в нашей гостиной, собравшихся там, как мне показалось, специально для того, чтобы я мог продемонстрировать свои таланты. Гостиная как раз и предназначалась для наиболее важных событий, и я еще помню один из прекраснейших дней в моей жизни, когда впервые – это было на мое десятилетие – я получил разрешение туда войти. Не потрудившись даже снять пальто, я вытащил аккордеон из футляра и без долгих предисловий ввалился в круг моих дядюшек, мощно грянув «А кобыла ест овес», детскую песенку-считалку, сыгранную на клавишах для правой руки.
Все мои дядья разделяли семейную склонность к драматизации и изъяснялись, когда было надо, довольно сентенциозно, неторопливо и с внушительными жестами. Но тут, ошеломленные моим театральным выходом, они растерялись, не очень понимая, как следует реагировать. Только мать оказалась на высоте в этой щекотливой ситуации и утащила меня за руку, все еще играющую, в кухню, где мне был приготовлен полдник. Я начал было хныкать из-за этого грубого выдворения, но тут заметил какого-то незнакомца, сидевшего у стола. Это был невысокий человек с курчавыми седыми волосами и потемневшим от времени тонким лицом. Он сидел, положив сцепленные руки на колени, как старички у дверей агентства по найму напротив моей школы. Я, не ломаясь, взял стакан молока и уселся напротив. Какое-то время мать колебалась, потом обхватила меня рукой, словно защищая от чего-то, и обвела вокруг стола. «Майкл, – объявила она с каким-то вызовом, – это твой дедушка», – что показалось мне несколько излишним, поскольку я уже догадался, что это Папи Бонани. Он деликатно прочистил горло и сказал: «Точно. Я твой дедушка».
У него тоже был немного вызывающий вид – хоть он и убрал руки с колен, но даже не потрудился мне улыбнуться. Мать словно опасалась оставить меня наедине с этим новообретенным дедушкой, и лишь когда молчание стало совсем тягостным, ушла в гостиную, правда, предписав мне тоном, который показался мне слегка раздраженным, идти играть в другое место, как только я допью молоко. После чего вышла, не закрыв дверь.
Мы с Бонани несколько минут изучали друг друга. Мелкие мышцы по обе стороны его челюстей поигрывали – этот фокус показался мне совершенно необычайным, и я пообещал себе повторить его, как только представится случай втайне поупражняться. Но ни он, ни я не имели желания болтать и прислушивались к словам моих дядюшек, долетавшим до нас довольно отчетливо через открытую дверь.
Дядя Карно, человек-бочка, чей голос, казалось, исходил из чрева земли и гудел словно басовый регистр большого органа, восклицал:
– Да неужели вы думаете, что она снимет трубку и просто выслушает все, что он ей скажет? Да у вас просто не все дома!
– Она это сделает, если ей скажут это сделать, – возразил Эдди.
– Надо думать, это ты ей скажешь? – раздраженно встряла мать.
– Слушай, может, Мами велит ему убираться ко всем чертям, но ты не считаешь, что мы должны дать ему хотя бы возможность попытаться?
– Ничего мы ему не должны!
– Мы должны это по крайней мере ради Питера. Я вот что хочу сказать: подумайте хорошенько, ведь Питеру придется тащить маму на себе до конца ее жизни, если мы ничего не предпримем.
– То-то и оно! И мы сами убедим ее переехать в Лос-Анджелес жить с Бонани… Да как вам в голову могло такое прийти? Нет, ей-богу…
– Значит, ты хочешь, чтобы Питер на всю жизнь остался холостяком?
– Погодите-ка малость, погодите…
Бонани в конце концов встал с таким видом, будто думал о чем-то другом, и закрыл дверь кухни. Потом стал разглядывать меня с этого нового ракурса, пока я допивал молоко.
– Надо бы тебя постричь, – заявил он без обиняков.
И это было не просто замечание. Из своей бежевой пластиковой сумки, стоявшей под стулом, он достал клеенчатый футляр с парикмахерскими инструментами, и стало ясно, что он собирается исправить ситуацию незамедлительно, а я был слишком загипнотизирован этим непредвиденным оборотом событий, чтобы хотя бы попытаться возразить. Он усадил меня, повязал мне вокруг шеи фартук, взятый в кладовке, и положил между воротником рубашки и шеей бумажные салфетки «Клинекс», которые достал из кармана. Осторожно подрезая самые кончики волос – меня регулярно посылали в ближайшую парикмахерскую на углу, да и грива у меня была не слишком густая, – он спросил, сколько мне лет. При этом не казался особенно заинтересованным. Я на его вопрос не ответил, а он не стал повторять.
Густой голос Карно гудел в гостиной:
– Питер, Питер, Питер… ладно, согласен. Но она?
Бонани отступил на шаг и, пощелкивая ножницами в воздухе, бросил взгляд профессионала на мои виски.
– Знаешь свою бабушку? – спросил он.
Я сказал, что их у меня две.
– Бабушку Бонани, – уточнил он.Когда я спросил, какая это из двух, он ничего не ответил.
Истинные причины, почему Бонани расстался с Этель и затеял примирение с той, которая все еще числилась его супругой, так и остались для нас тайной, хотя неоднократно становились предметом разных домыслов. Карно, как человек практичный, предполагал, что Бонани надеялся перейти в старости на наше иждивение и решил, что шансы увеличатся, если он снова сблизится с Мами. Эдди же считал, что стареющий – надо это признать – Бонани осознал ничтожество своей связи с Этель и перед смертью захотел вернуться в лоно семьи. Джон, торговавший спиртным на той же улице, где располагался институт «психоанализа для всех» Эдселя Форда, был убежден, что Бонани всегда любил жену, а эпизод с Этель был всего лишь затянувшимся приступом мазохизма, в конце концов преодоленным. Мой же отец выдвинул гипотезу радикальной простоты: Этель просто-напросто умерла. Верность его догадки так и не была проверена.
Каковы бы ни были побуждения Бонани, но после восемнадцати лет жизни в Нью-Джерси с любовницей он собрал чемоданы и купил билет до Лос-Анджелеса, где обосновались два его наиболее успешных сына. Не сообщив о своем приезде, он снял комнату в пансионе и нашел место парикмахера на военной базе в Сан-Фернандо. Человек он был упорный и уже через год смог купить себе подержанный вишнево-красный «Форд» и выплатить первый взнос за домик в Шерман-Оукс с большим фруктовым садом, заросшим ядовитым сумахом. Один наш родственник, каждый год получавший от нас поздравительные открытки, сообщил ему наш адрес, и вот с купчей на дом в руке он наконец-то явился к моему отцу. Поскольку тот не сразу его узнал, он, кажется, просто представился и вежливо спросил про своих сыновей. Объяснил при этом, что его визит отнюдь не светская условность: этим он дает понять своей семье, что намеревается написать Мами и пригласить ее переехать в Калифорнию. Он, дескать, серьезно поразмыслил и пришел к заключению, что хочет посвятить остаток жизни искуплению своей супружеской неверности. Разумеется, он понимает, что дело весьма щекотливое. Вот он и подумал, что ему бы очень помогло, если бы сыновья согласились обсудить его предложение со своей матерью и, возможно, даже убедить ее, что все может обернуться к лучшему, если почувствуют себя способными на такое.
Обычно мой отец с трудом поддавался убеждению, но Бонани покинул дом еще до того, как он нашелся что-либо возразить. Так что он позвонил дяде Эдди, и оба решили эту довольно заковыристую проблему – что делать в настоящий момент, – отправившись в Санта-Барбару, где и напились в отеле «Говард Джонсон» напротив Миссии. Оба вернулись тем же вечером в гораздо лучшем расположении духа, чем при отъезде, хотя Эдди не смог удержаться и заявил славной женщине, позвонившей в дверь с предложением купить кусочки туалетного мыла в пользу слепцов-католиков, что ей никогда, ни за что не угадать заранее, какие пакости приготовит ей жизнь. По дороге во время своей экскурсии они позвонили Джону, Нику и Карно, воздержавшись из предосторожности звонить Питеру, поскольку тот жил с Мами. Они чувствовали, что ситуация потребует скоординированных действий, и в последующие дни ездили в аэропорт встречать остальных.