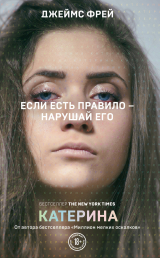
Текст книги "Катерина"
Автор книги: Джеймс Фрей
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Джеймс Фрей
Катерина
James Frey KATERINA
Copyright © 2018 by James Frey
Фото автора © by Ellis Alexander Frey
© Сапцина У., перевод на русский язык, 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
⁂



«Когда-то, насколько я помню, моя жизнь была пиршеством, где все сердца раскрывались и струились всевозможные вина.
Однажды вечером я посадил Красоту к себе на колени. – И нашел ее горькой. – И я ей нанес оскорбленье»[1]1
Пер. М. Кудинова (прим. пер.).
[Закрыть].Артюр Рембо, «Одно лето в аду», 1873 г.
Лос-Анджелес, 2017 год
Все началось с запроса в фейсбуке. От какого-то Йенте Поэнбенка. Ни фото, ни друзей. Пустой профиль. Началось опять. Спустя двадцать пять лет.
Ты вообще когда-нибудь думаешь обо мне?
Я ответил:
Возможно.
Так и продолжалось.
Я думаю о тебе каждый день.
Хорошо.
Иногда да, иногда – нет.
Как жизнь, правда? Иногда хорошая, иногда – нет.
Да, Джей, определенно так и вышло. Для нас обоих.
Кто это?
Хочу, чтобы ты думал обо мне каждый день.
Кто это?
Хочу, чтобы ты думал, улыбался и вспоминал.
Кто это?
Думай, улыбайся и вспоминай, Джей.
Кто?
Для меня. Делай это для меня.
Париж, 1992 год
Я живу на улице Сен-Пласид. Пол сплошь заставлен пустыми винными бутылками и пепельницами, мой матрас лежит на полу в углу. Краска на стенах облупилась, окна не закрываются. Кончается двадцатый век, мы живем в обществе, которое вроде бы считается передовым. Но наши желания – наши желания все те же. Такие же, как в первый день, когда один из нас высунул нос из сраной пещеры. Люби ебись ешь пей спи. Этим я и занимаюсь здесь, в самой прекрасной и цивилизованной столице мира. Люблю ебусь ем пью сплю.
Прошлой ночью Луи вывесил на дверную ручку красный шарф. Луи любит мальчишек-арабов, да помоложе, лишь бы восемнадцать уже исполнилось. Шарф означает «не суйся», хоть я и без шарфа слышал их через дверь и понял, что там. Я ушел бродить, купил пару бутылок дешевого вина и устроился на скамейке в Сен-Жермен: смотрел на проходящих мимо симпатичных девчонок, представлял, каково это – быть с ними, целовать их, вызывать у них улыбку или смешить, заигрывать с ними, трахать их, влюбляться в них. Я знал: на что-то мне даже рассчитывать не стоит. А в чем-то, может, и повезет. Я сидел, и пил, и глазел, и фантазировал, пока еще мог соображать, а потом перестал и думать, и помнить, и проснулся под деревом на набережной Вольтера и потопал обратно домой. Красный шарф исчез.
Луи варит кофе. Он мнит себя философом, синоптиком, астрономом, полиглотом, творческой личностью. Мы живем на шарике, говорит он, на крошечном голубом шарике в мелкой солнечной системе в маленькой галактике бесконечной Вселенной. Что бы я, ты или кто-нибудь другой ни делал, это не значит ни черта. Нам надо радоваться и проводить время в погоне за удовольствием и болью и всякой-разной похотью и страстью, какие только бывают. Надо следить, чтобы наши члены были твердыми, а киски мокрыми и сердца бились быстро: тук-тук-тук. Но нет ведь, и все по нашей дурости, потому что нам, видите ли, кажется, что мы важные птицы, что и мы сами, и наши дела много значат, вот мы и тратим время впустую, въебываем на бессмысленной работе и напрягаемся и лезем вон из кожи и силимся стать не теми, кто мы есть, а мы есть животные. Так все делают, все человечество, вся эта кишащая, глупая, дурацкая толпа, все-все, кроме меня. Но я-то знаю, – я, Луи, принц Сен-Пласидский. Я слушаю сердце и член, и для меня важно только то, от чего они поют. Так что запоминай, парень. И учись. Следуй зову своего сердца и члена. И помни, что вот это все не значит ничего. И будешь счастливым, как я.
В Париже я прожил уже целый месяц. Мне двадцать один год, я приехал сюда один, никого здесь не знал, не умел ни слова сказать по-французски, собрал манатки и свалил. От друзей, от родных, от Америки. Какой бы ни была, какой бы ни должна была стать моя жизнь, она кончилась. Я родился и вырос, чтобы стать деталью машины. Спицей в колесе. Шестеренкой. Ее послушным зубцом, навечно вбитым на его собственное сраное место. Ходи в школу, соблюдай правила, найди работу, работай копи голосуй подчиняйся, женись купи дом заведи детей, работай копи голосуй подчиняйся учи своих детей тому же, работай копи голосуй подчиняйся, умри, чтобы потом сгнить в сраной яме. На хуй машину. На хуй людей, которые ее построили. На хуй людей, которые управляют ею. На хуй остальных, которые согласились стать в ней винтиками. А я здесь, в самой прекрасной и цивилизованной столице мира. Я верю в Луи, его безумные глаза, трясущиеся руки, трубный голос, верю в то, что он рассказывает о погоде и звездах. Следую зову сердца и члена. Когда им хочется петь, мы поем. Когда им хочется улыбаться – улыбаемся. Когда их тянет танцевать, мы танцуем. Хотят сломаться – ломаемся. Пусть хотят чего угодно, идут куда угодно, нахуйодят удовольствия или проблемы, но мы никогда не будем работать копить голосовать подчиняться. На хуй машину. Цель должна быть одна – сжечь ее дотла. Поджечь и сплясать вокруг сраного костра.
Вот я и брожу по древним улицам, где люди говорят на языке, которого я не знаю, и ищу то, чего никогда не найду. Я мог бы сказать, что это свобода, но это не просто свобода, мог бы назвать это просветлением, но просветления мне слишком мало, мог бы сказать, что это все, потому что для меня это на самом деле все – любовь ебля еда питье сон чувства жизнь жизнь жизнь. Это все-все. Хочу сжечь на хуй эту машину. Хочу жить.
Лос-Анджелес, 2017 год
Все у меня ништяк, и трава зеленая. Из одних окон виден океан, из других – желтое марево над сверкающими стальными башнями. Есть и деревья и птицы и бассейн. Три машины в гараже, двое детей в спальнях, жена, спящая рядом. Ипотека оплачивается каждый месяц вовремя, остальные счета – по мере поступления. Помощница по хозяйству приходит каждый день, как и люди, которые ухаживают за газоном, деревьями, бассейном и собирают собачье дерьмо, которое наш питомец где только не оставляет. У меня есть гараж, домишко, или студия – как хотите, так и называйте, – в глубине участка, вдали от дома, от шума, от людей и от всего мира. В этой каморке я целыми днями просиживаю перед компьютером, слушаю музыку, смотрю ТВ, читаю книги, играю в видеоигры, иногда работаю – якобы занимаюсь делом, тем, что важно, тем, что одни люди хотят прочитать, а другие платят мне, чтобы я это написал. Денег мне дают охренеть сколько. Я делаю то, что они от меня хотят, даю им то, за что они мне платят, и ненавижу себя. А когда, притормозив, успеваю задуматься о том, что я вообще делаю и как до этого дошел и что у меня еще есть, и что я уже профукал, когда думаю каким пропащим кажусь самому себе каждый день и каждую секунду, как просрал все подчистую, и это ежу понятно, так и хочется купить пушку и вышибить себе сраные мозги. Но для этого у меня кишка тонка. Вот я и брожу по своей траве и глазею на деревья и слушаю птиц и гляжу на океан и небоскребы и улыбаюсь детям и сплю рядом с женой и оплачиваю счета и делаю работу. И ненавижу себя. Каждую минуту каждого дня. Ненавижу себя.
Париж, 1992 год
Открой дверь.
Выйди наружу.
Жизнь ждет.
Секс и любовь и книги и искусство. Солнце на восходе или закате. Смех и музыка. Тихое местечко, чтобы посидеть. Почитать или подумать или смотреть, как проходит день. Или нет. Пройтись. В суматохе, в толпе, в шуме. Сигналит машина. Мотоцикл. Болтают люди. Двери открываются и закрываются, на них дребезжат колокольчики. Ссорится пара, ревет младенец. Идти или танцевать или прыгать или бежать, делать все, что хочешь, идти, куда вздумается. И найти что-нибудь бесподобное или ужасное или вообще ничего. Восторг или разочарование. Приключение или скуку. Открой гребаную дверь.
Жизнь ждет.
Выходи.
Мой день всегда начинается одинаково. Я иду в булочную. Где бы я ни проснулся – дома, в переулке, в парке, в чьей-нибудь квартире, на чужом полу, в кровати или ванне, – я иду в булочную. Она на первом этаже дома, где я живу, прямо под нашей с Луи квартирой. Обычная такая французская булочная, как говорят на своем красивом языке французы – буланжери, тут такие в каждом квартале. В буланжери продают хлеб, хотя хлеб во Франции не просто хлеб. Это жизнь, это дух, кровь, самобытность, искусство. Все мои знакомые-французы относятся к хлебу со всей серьезностью, как американцы к оружию или христиане к молитвам. Спорят, у кого лучше багеты, булочки, pain au chocolat, в какое время суток лучше всего покупать хлеб, каким его есть – теплым или остывшим, каким маслом мазать и в каком количестве, можно ли выжить на одном только хлебе. Если рядом француз и говорить вам решительно не о чем, только подними тему хлеба – и тебе расскажут, как он хорош в Париже и как ужасен везде за его пределами. Неизвестно почему, но так оно и есть: в Париже хлеб лучше. Вкуснее, ароматнее, приятнее на ощупь и на вид. Когда отламываешь кусок, он и хрустит звонче. Я ем багет каждый день, и это, как правило, все, что я съедаю за день. Пять франков, то есть почти доллар, и больше о еде можно не думать. А деньги тратить на то, что гораздо важнее, – на книги или ручки или сигареты или кофе или вино, иногда – на цветы для старушек или красивых девчонок, случайно встреченных на улице. Старушки всегда улыбаются, девчонки иногда тоже. Или просто отворачиваются и уходят. Идиотизм в чистом виде. Дарить цветы незнакомым людям. В любом случае эти деньги потрачены не зря.
У булочной под нами простая синяя вывеска, простой стальной прилавок, витрины со всякой выебистой выпечкой и корзины за ними, полные всевозможного хлеба. За корзинами видны печи и столы, мука, тесто, скалки, организованный хаос, из которого рождается товар. Хозяева булочной – пожилая пара французов. Представляю себе, что булочная им досталась от родителей, а тем – от своих родителей, а им – от своих, и так далее в глубь веков, вплоть до галлов с измазанными сливочным маслом волосами. Они там ежедневно, эта самая пара стариков, открывают на заре и закрывают в пять вечера. Муж печет, жена управляется с кассой, носят одинаковые белые передники с синей отделкой, в цвет вывески снаружи. Улыбаются покупателям, обмениваются любезностями и смеются с теми, кто постоянно у них бывает, продают багеты, круассаны, pain au chocolat, протягивают им всякие штучки, названий которых я не знаю и выговорить не могу, – заковыристые французские ништячки, на вкус божественные, а стоят гроши. Меня не любят, хоть я и бываю здесь каждый день. Вхожу, встаю в очередь, здороваюсь, спрашиваю багет по-французски с моим дерьмовым акцентом, отдаю пять франков. Женщина со мной не здоровается и вообще никак на меня не реагирует, только забирает у меня деньги и протягивает багет. Иногда я машу рукой ее мужу, который или хмурится, или отворачивается. Насколько я знаю и уже успел увидеть, я – единственный американец, который покупает у них хлеб, видимо, поэтому меня и не любят. Как я уже убедился, хоть и считается, что французы терпеть не могут американцев, но, если пытаешься как-нибудь объясниться по-французски и сам не говнюк, французы клевые. Высокомерные, сдержанные, холодные, довольно резкие, и если начнешь тупить, они не станут делать вид, будто все в норме, но такие они со всеми, в том числе с другими французами. Вот эту прямоту я и ценю, когда мне не пудрят мозги. Если ты сам клевый, то и французы клевые. А если мудак, тебе не светит.
Но хозяева булочной, симпатичные старички в белых передниках с синей отделкой, продающие мне хлеб, – они-то как раз и ненавидят американцев. Или, может, одного конкретного американца. Чаще всего я проворачиваю сделку в булочной по возможности просто и безболезненно. Спросить хлеб отдать деньги взять хлеб выйти. Но иногда все же пытаюсь завести с ними разговор – спрашиваю о политике, о том, болеют ли они за «Пари Сен-Жермен», кого предпочитают – Мане или Моне, читали ли Виктора Гюго и Гюстава Флобера, и если да, кто им больше нравится, случалось ли им вызывать других местных булочников на багетный бой. Что бы я ни говорил, меня не замечают. Пропускают слова мимо ушей. Другие покупатели иногда смеются, иногда смущенно и неловко отворачиваются. В любом случае я отдаю деньги беру хлеб выхожу.
Открой дверь.
Выйди наружу.
Жизнь ждет.
И я гуляю. Без цели, без плана. Мне нечем заняться, некуда идти и не с кем встречаться. Для прогулок во всем мире нет лучше города, чем Париж. На каждом углу здесь еда, вино, искусство и красота. Все здания приглушенно-белые или темно-серые. Высокие окна на каждом этаже. Одностворчатые двенадцатифутовые деревянные двери, неброские номера, вделанные в камень. Улицы людные. Не образуют сетку, а тянутся и поворачивают, как им вздумается. В городе господствуют Большие бульвары. Елисейские Поля, Шанз-Элизе с их широкими тротуарами, гигантскими кафе и огнями, парижская Таймс-сквер, ограничены Триумфальной аркой с одной стороны и площадью Согласия с другой. Сен-Дени с его барыгами и шлюхами, открыто впаривающими товар и тела, вымирает днем, но после захода солнца пульсирует сексом и опасностью, вожделением и насилием. Монпарнас с интеллектуалами и художниками-академиками, их нескончаемыми спорами и курением; здесь чашку кофе растягивают на три часа. Бульвар Осман с его универсальными магазинами и старушками в затейливых шляпках и сумочках, которые стоят дороже, чем особняк. Бомарше, Фий-дю-Кальвер, Тампль, Сен-Мартен. Клиши с призраками Пикассо, Дали, Модильяни и Ван Гога. Сен-Жермен, где Хемингуэй и Фицджеральд пили, и дрались, и ссались. Я гуляю, смотрю и слушаю. Сижу на скамейках у соборов. Валяюсь на траве в парках. Слоняюсь по музеям, глазею и на посетителей, и на произведения искусства. Размышляю и мечтаю. Ношу с собой маленький блокнот из толстой коричневой бумаги, скрепленной бечевкой, ручку, очередную книгу, пачку сигарет и зажигалку, тощую пачечку купюр в заднем кармане. Сижу в кафе и пишу, пью кофе, читаю. Захожу в бары утром и выпиваю, пью вино на обед, коктейлями отмечаю миновавший полдень. Роюсь на стеллажах в книжных магазинах, хоть почти все книги там на французском, так что прочесть их я не могу. Разглядываю фамилии на корешках, слова на страницах, нюхаю бумагу, ощущаю вес томов. Гуляю, а мои мысли витают, и я мечтаю. Мечтаю об искусстве и еде. И чтобы денег было достаточно, иметь все, что захочу и когда захочу. Мечтаю о бесконечных запасах вина и кокаина, о сексе и о том, чтобы заниматься им с почти всеми женщинами, каких только вижу. Останавливаюсь возле ресторанов, читаю меню в окнах. Разглядываю журнальные иллюстрации в газетном киоске. Иногда просто стою и глазею на какое-нибудь здание, представляю, как его построили, его историю, биографию людей, которые в нем живут, их боль, радость, борьбу, редкие победы и беспрестанные поражения. Гуляю, брожу, мечтаю. Больше, чем обо всем другом, мечтаю о любви, сумасшедшей безумной бешеной любви. Не о любви с кольцами, белыми платьями и церковью, а об исступлении и страсти, о любви, когда не можешь удержаться, чтобы не трогать, целовать, лизать, сосать и трахать. Любви, от которой разбиваются сердца, вспыхивают войны, рушатся жизни, любви, которая выжигает след в душе, которую чувствуешь с каждым ударом сердца, чтобы она опаляла память, возвращалась всякий раз, едва останешься в одиночестве и в тишине, и чтобы мир сразу исчез, а от любви по-прежнему больно, и тогда сидишь, смотришь в пол и гадаешь, какого хера так вышло и почему. Я мечтаю о сумасшедшей безумной бешеной любви, которая начинается с одного взгляда, когда встречаются глаза, с улыбки, касания, смеха, поцелуя. Такой любви, которая ранит и заставляет любить боль, желать боли, стремиться к гребаной боли, не дает уснуть до самого рассвета, будит, пока ты еще спишь. Такой любви, которую ощущаешь с каждым своим шагом, каждым произнесенным словом, каждым вздохом, каждым жестом, – как часть каждой мысли каждый день, каждую минуту. О любви, которая потрясает. И оправдывает существование. И доказывает: да, мы здесь не просто так. И либо подтверждает, что Бог и высшие силы действительно есть, либо дает понять, что в этом нет ни малейшего смысла. О любви, от которой жизнь становится чем-то большим, чем то, что мы просто знаем, видим и чувствуем. Которая возвышает ее. О любви, про которую сказали, написали, прочитали, прокричали, выплакали, спели и прорыдали столько слов, а она так и не поддалась никаким описаниям. За короткий, дурацкий, переменчивый, иногда – прекрасный, иногда – жестокий, но всегда беспокойный огрызок жизни я узнал многое, но любовь – ни разу. Сумасшедшую безумную бешеную любовь. Страх и боль, уязвимость, ярость, редкие радости, мимолетная умиротворенность – все они мои друзья. Мне всегда перепадало и доброты, и родительской любви. Высокомерие, презрение, гнев – постоянная компания, всегда рядом. А любовь никогда.
И я открываю дверь.
Выхожу.
Гуляю.
Думаю.
Читаю.
Пишу.
Сижу.
Наблюдаю.
Пью.
Ем хлеб.
Мечтаю.
Жизнь ждет.
Жизнь и любовь.
Жизнь.
Любовь.
Лос-Анджелес, 2017 год
Спустя две недели – еще сообщение. Отвечаю. Так и продолжается.
Как твое сердце, Джей?
Стучит.
Не поет.
Уже давно нет.
Раньше пело так красиво. Чуточку фальшиво, но громко и с таким удовольствием.
А теперь молчит и почернело.
Оно всегда было черным, но в этой черноте виднелись звезды. Большие яркие прекрасные звезды.
Теперь просто черное. И молчит. Звезд нет.
Пишут, что ты женат. А дети?
Где это пишут?
Кажется, в каком-то журнале. А может, по ТВ говорили.
А, ну да. Журналы и ТВ.
Это правда?
Да.
Мне казалось, этого никогда не будет.
Мне тоже.
И как же так вышло?
Встретил ту, на которой захотел жениться.
Счастлив?
Я по жизни счастлив. По крайней мере, на этом этапе моей жизни. Я люблю ее и наших детей. В этом смысле мне повезло.
Хорошо, что ты это понимаешь.
Наверное.
Почему твое сердце почернело?
Я старый.
Тебе 45.
Длинные выдались годы.
Сам виноват.
В большинстве случаев – да. Но не всегда.
Это твое сердце – оно пело, но я-то знаю, что оно болит, оно всегда болит.
Одно из другого вытекает.
Пение и плач.
Между ними тонкая грань.
Расскажи, от чего тебе больнее всего, Джей.
Нет.
Расскажи мне.
Нет.
Почему?
Я не знаю, кто ты.
Да знаешь ты.
Не знаю.
Нас таких что, было много?
Достаточно.
И где я среди них в твоих воспоминаниях?
Не знаю.
Знаешь.
А вот и нет.
Узнаешь.
Может быть.
Я хочу, чтобы твое сердце снова пело, Джей.
И я.
Фальшиво, но громко и с удовольствием.
И я.
Мои любимые места в Париже после того, как я прожил здесь два месяца
Le Polly Maggoo, улица Пти-Пон. Говенный бар, где вконец опустившихся алкашей столько, что продавать абсент из-под полы уже нет смысла. На некоторых столах шахматные доски, сортиры устроены по-турецки, то есть с большой дырой в полу. Никогда не видел там ни салфетки, ни клочка туалетной бумаги, выпивка крепкая и дешевая, и всем плевать, хоть ты ори, хоть падай. Если приспичило подраться, просят выйти на тротуар, и бар всегда пустеет с началом драки: все выходят, смотрят, улюлюкают, а те, кто дрался, потом обычно обнимаются и идут выпить вместе. Большинство посетителей – турки и алжирцы, которые к выпивке пристрастились, а в их районах на это дело смотрят косо, и старики-американцы, которые зачем-то приперлись сюда, но уже не помнят зачем, потому и пьют целыми днями. Девчонки здесь так себе, не красотки, но им замуж не нужно, а после десяти порций выпивки уже не важно, какие они с виду.
Кинозал в Музее Пикассо, на улице Ториньи. Сидишь себе и смотришь кино о том, как Пикассо писал картины. Я еще зеленый и наивный, потому верю, что когда-нибудь в чем-нибудь прославлюсь. И уже настолько старый и мудрый, что знаю: таким великим, как Пикассо в живописи, мне не быть никогда.
Гробница Александра Дюма. Пантеон. Сукин сын написал «Графа Монте-Кристо». Уважуха.
Cactus Charlie, улица Понтье. Вроде как у них лучшие чизбургеры в Европе. Съел три. Каждый последующий был хуже предыдущего, и хоть я всю жизнь жру чизбургеры, мне никогда не попадалось такой гадости, как Cactus Charlie Burger – этот комок мяса, сыра, чили, бекона и соуса барбекю надо было назвать «дряньбургером». Зато напитки у них дешевые, а порции гигантские, за пять франков в счастливые часы дают стопку «Южного комфорта», вдобавок бухие американки и англичанки часто не прочь поебаться в сортире.
Музей Оранжери, сад Тюильри. Мне всегда казалось, что Моне с «Водяными лилиями» – это охренеть как скучно. Так и есть – почти всегда. В музеях Америки я насмотрелся на них, и они всегда напоминали мне засохшую блевотину. Но однажды я болтался по музею и забрел в две большие овальные комнаты, а там восемь здоровенных картин, которые Моне написал перед самой смертью. Хотел создать что-то такое, чтобы заставить людей забыть, что внешний мир существует. И создал. Они офигенные. Потрясающие. Безмятежные. Видение реального мира, только какое-то еще более прекрасное, более ошеломляющее. Вот только другие посетители в том же зале – это отстой. Почему-то им обязательно надо трепать языками, чтобы все остальные на сотню ярдов вокруг знали, в каком восторге они от «Водяных лилий». Заткнулись бы лучше на хуй, посмотрели, прониклись и съебались. Заткнулись. На хуй. И съебались.
Texas Star, площадь Эдмон-Мишле. Тупой американский бар с техасским флагом у входа. Здесь, похоже, бывают все, кто родом из Техаса, когда заявляются в Париж. Выходят из Центра Помпиду, а тут и он. В баре наливают пиво Lone Star и делают съедобные тако, которых вообще-то больше нигде во Франции не сыщешь, насколько мне известно. Здесь я однажды вечером познакомился, бухал и блевал с племянницей бывшего президента США. Мы пили текилу стопками: пока я две – она одну. Бухать она умела по-черному, мне поплохело, и я облевал весь стол вместе с нашими стопками и ее колени. Через пару часов мы перепихнулись, и на следующее утро я проснулся у нее на полу без штанов. Ее самой там не было, и больше я ее не видел, но всякий раз, когда мне хочется послушать, как вокруг базарят про оружие, нефть, футбол и как это круто – носить ковбойские сапоги, хотя, по-моему, нисколько, я иду в Texas Star.
Maison de Gyro, улица Юшетт. Целая улица заведений с греческой кухней. Есть и шикарные, и так себе, и дерьмовые фастфудные забегаловки. И в каждой витрине крутятся нанизанные на вертелы куски баранины для гиро. Maison D рядом с Le Polly Maggoo, где я часто надираюсь в хлам, – за ближайшим углом. Открыто допоздна. Дешево, что пипец. Я наткнулся на это место однажды ночью, пока болтался по округе пьяный в жопу, купил их фирменное блюдо – треть багета с зеленым салатом, помидорами, кучей обалденно ароматного мяса гиро с красным и белым соусами и картошкой фри сверху. Сытная, вкусная и чертовски вредная для здоровья жрачка. Теперь у меня Maison D (так я зову и ресторан, и тамошние сэндвичи) случается довольно часто, хотя помню я об этом редко. С целыми и надкусанными сэндвичами Maison D в карманах мне где только не доводилось просыпаться: у себя в постели, повсюду на полу, в незнакомых комнатах и на лавках в парке.
Пигаль. Секс. Секс секс секс секс. Секс мне нравится. Вообще-то я его люблю. Хоть нежный и ласковый, хоть быстрый, грубый и грязный, хоть что-то среднее между ними или вперемешку – я на все согласен. Если к нему прилагается любовь, та самая сумасшедшая бешеная любовь, тем лучше, но это редкость. Что есть, то и беру. А в Пигале секс есть. Секс-шопы, стрип-бары, шоу для взрослых (там трахаются), бурлески, проститутки и проституты, свингеры, случайный народ в поисках ебли. Одни хотят за нее денег, у других деньги есть, и они готовы платить, а некоторые просто хотят. На бульваре Клиши – один за другим шоп бар кабак варьете пип-шоу незаметная дверь в какой-нибудь роскошный изврат. Я брожу по Пигаль бухой, трезвый, навеселе, днем, ночью, утром, всякий раз, когда мне надо кончить, и хочу, чтобы потом мне стало хоть немного стыдно. От стыда я не прячусь. Он идет в комплекте с моей жизнью. Порой я тоскую по нему, ищу его, нуждаюсь в нем, должен получить его на хуй. Острую слепящую радость взрывного оргазма, чтобы потом не было сил смотреть в гребаное зеркало, потому что я позорный мешок с говном и стыдом. Ну и пусть. Я знаю, куда идти за ним. И иду.
Люксембургский сад, несколько входов, 6-й округ. Здоровенный шикарный дворец, а вокруг – огроменный шикарный сад. Самые роскошные газоны в мире. Куда ни глянь, старые мраморные статуи покойных королей, королев, принцев и принцесс. Пара детских площадок (их я обхожу стороной), несколько фонтанов, скамейки, есть тихие тенистые уголки, где старичье читает книжки и вязнет в липких воспоминаниях и сожалениях. Я часто прихожу сюда поспать с отходосов, почитать, когда трезвый, поваляться на траве, попивая винцо, помечтать о каком-нибудь дурацком будущем с безумием, славой, спорами и шумихой. В саду парочки и семьи часто устраивают пикники. А я наблюдаю. Представляю, о чем они думают и вправду ли они такие счастливые и довольные, как кажется. Их я уважаю. Они сделали другой выбор, не такой, как я. Но все мы исполняем мечту каким-нибудь способом, не одним, так другим.
Le Bar Dix, улица Одеон. Сраный старый бар в подвале сраного старого дома. Тесный, футов двадцать в ширину и сорок в длину. Стены каменные, выгнутый потолок тоже, всюду сраные старые картины. Темно, орет музыка, тут крутят только французскую, так что я без понятия, о чем они там поют, но точно знаю, что не о том, как быть почтенным обывателем и платить налоги. Вдоль стен мягкие банкетки, перед ними столы и стулья. Все в чем-то липком. Не знаю в чем и знать не хочу. Но липкое тут все – и столы, и стулья, и банкетки, и стены, и стаканы, и бутылки, и кувшины. Единственное, что я пью в Le Bar Dix, – сангрию из кувшина. Крепкая, дешевая, на вкус ничего, хоть и резковата. Что-то вроде французского Mad Dog или Thunderbird. Я сижу с дневником и пишу и бухаю и глазею на девчонок, они тоже часто сидят одни, обычно во всем черном, с грустными глазами, строчат в дневнички и пьют в одиночку. Так себе, но сойдет.
Могила Виктора Гюго. Пантеон. Сукин сын написал «Собор Парижской богоматери» и «Отверженных» – паршивые мюзиклы, а книги классные. Большая уважуха.
Berthillon, улица Сен-Луи-ан-Лиль. Во Франции магазины, где продают мороженое, называются glaciers. Красивое слово. «Глясье». В нем, как и во многих французских словах, есть изящество. «Глясье». Люблю мороженое, и глясье тоже люблю. В этом глясье – лучшее мороженое в Европе, так все говорят. Находится оно на шикарном таком островке за Нотр-Дам. Мороженое вкусное, особенно когда глотаешь – приятное, прохладное и сладкое. Сразу вспоминаю, как в детстве жизнь была простой, все вокруг – большим, важным и невероятным, а я постоянно удивлялся и восторгался. Так что я часто ем мороженое, потому что от него становится хорошо и вспоминаются простые счастливые дни. Глясье.
Shakespeare and Co, улица Бюшри. Этих книжных магазинов было два. Первый, где тусовались и Хемингуэй, и Фицджеральд, и Гертруда Стайн, и Джеймс Джойс, закрыли нацисты в 1941 году. Убивать евреев нацистам нравилось, а крутые книжные магазины – нет. Второй, в который я хожу, открыл в 1951 году американский военный Джордж Уитмен, который на Второй мировой войне надрал задницу нацистам, позакрывавшим книжные магазины. У него бывали Аллен Гинзберг, Уильям Берроуз, Анаис Нин и Джеймс Болдуин и еще Сартр и Лоренс Даррелл. Сам магазин – симпатичная халупа. Прямо у воды, напротив Нотр-Дам. С маленькой каменной площадкой спереди. Снаружи ярко-зеленый, с обшарпанной вывеской. Внутри набит книгами, прекрасными книгами на английском, на котором я умею читать. От них ломятся полки, они стопками высятся на столах, все эти лабиринты слов, занимающие каждую щель и нишу. Макулатуры здесь почти нет, никаких там дешевых триллеров или знойных романов. Только великие книги, классика или хрень поновее, с солидной репутацией. Это скорее литературный, чем книжный магазин. Все здесь живо интересуются чтением, словами, их историей и будущим. Наверху жилые комнаты, и почти все, кто работает в магазине, там же и живут. Здесь находят приют изгои и скитальцы, их пускают сюда провести ночь-другую или один-два месяца. Смазливые девчонки здесь попадаются всегда, или в магазине, или на площадке перед ним. Здесь я трачу больше денег, чем где-либо еще в Париже. Это лучшая прикольная улетная книжная лавчонка в мире.
Stolly’s, улица Клош-Персэ. Бар в тесной хибарке. В Марэ. Со столиками и стульями перед входом. Подают английское пиво, французское пиво и всякое-разное бухло. Публика здесь смешанная, в отличие от других парижских кабаков, где бывают или только французы, или только американцы, или только еще кто-нибудь. Я всегда сажусь снаружи, в любую погоду, и смотрю, как люди проходят мимо, читаю, пишу, думаю и мечтаю. Обычно среди посетителей полно интересных чуваков, писателей, художников или ученых. Здесь бухают умники.
Базилика Сакре-Кёр на Монмартре. Церковь. На вершине Монмартра, в самой высокой точке Парижа. Вообще-то я по церквям не фанатею, но эта что-то. Я тащусь. Лестницы вверх тянутся бесконечно, кажется, будто взбираешься на Эверест. Я раза три останавливаюсь на перекур. А вид сверху невероятный. Там есть пятачки с травой, где можно сидеть, смотреть, курить или бухать. Прямо по курсу каменная смотровая площадка. Туристы с фотоаппаратами, у парочек место встречи, верующие спешат на службу, иногда какие-то африканцы впаривают сувениры, иногда полиция гоняет африканцев. Обычно я прихватываю с собой наверх бутылку дешевого красного и пачку курева, подхожу поближе к краю, смотрю на город, на самый прекрасный и цивилизованный город на земле. Вид великолепный. Он успокаивает меня, заставляет умолкнуть, рассказывает истории, забирает из головы мысли или дает сосредоточиться на каких-нибудь из них. Я сижу, смотрю, пишу в блокнотах, иногда читаю, пью, курю. Часто вижу там одного старика. Ему лет восемьдесят, хорошо одет, обычно в черный костюм и рубашку с галстуком, белые волосы старательно расчесаны, лицо в глубоких морщинах. Он всегда на одном и том же месте, у края площадки, чуть сбоку, смотрит на город. Выглядит грустным и одиноким, тяжело вздыхает, иногда опускает голову и смотрит на каменные плиты. Хотел бы я знать, что у него в голове, на душе, в памяти. Что он потерял и когда, сколько у него отняли, какие раны потери оставили в его душе. Знать бы, какую боль он чувствует, как он когда-то радовался, сложилась ли его жизнь так, как ему хотелось, или нет, стоила ли она того, чтобы ее прожить. Кого он любил и чьи сердца он разбил, и кто и что разбило его сердце. Интересно, изменил бы он что-нибудь, если бы вернулся в прошлое, какие ошибки совершил и значат ли они что-нибудь до сих пор. Я никогда не заговариваю с ним, не знакомлюсь, не тревожу его. Ему уже не долго осталось. Надеюсь, он уйдет мирно. Надеюсь, как и я, когда придет мое время.








