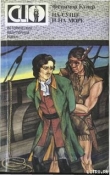Текст книги "Краснокожие"
Автор книги: Джеймс Фенимор Купер
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
* Глава II
Отчего склоняется чело моего государя, как колос, отягченный благодеяниями Цереры?
«Генрих VI»
Я вчера улегся спать не ранее двух часов ночи и встал поутру около десяти, но лишь после одиннадцати ко мне явился Джекоб с докладом, что господин его вышел из своей спальни в столовую и ожидает меня к завтраку. Конечно, я, в свою очередь, немедля поспешил к нему, и несколько минут спустя мы с дядей уже сидели за столом.
При входе меня поразил серьезный, озабоченный вид дяди. Возле его прибора на столе лежало несколько номеров газет и письма. Его обычное приветствие «добрый день, Хегс» было как и всегда ласково и сердечно, но мне послышалась в его словах какая-то грустная нотка.
– Надеюсь, у вас не было никаких неприятных известий?! – воскликнул я, поддавшись первому впечатлению. – Последнее письмо, которое я получил от Марты, нас извещает, что бабушка отлично себя чувствует, и все ее письмо дышит беспечной веселостью.
– Да, матушка моя здорова и, очевидно, несмотря на свои восемьдесят лет, прекрасно сохранилась; но все-таки ей хочется поскорее свидеться с нами, особенно с тобой; ведь внуки всегда бывают любимцами бабушек. А у тебя все известия приятные?
– Да, неприятного нет ничего! Все письма от Марты скорее веселые; я полагаю, что теперь она должна быть красавицей.
– И я в этом уверен, не может быть, чтобы Марта Литтлпедж не была хороша; у нас, в Америке, пятнадцать лет для молоденькой девушки, бесспорно, такой возраст, когда можно почти что безошибочно определить, какая из нее должна быть женщина; к тому же я не раз слыхал от старых людей, знавших нашу бабку, что Марта очень похожа на нее, когда та была в ее летах, а наша бабка в свое время была первейшею красавицей во всей стране.
– В письмах сестры встречаются также намеки на некоего Дарри Бикмэна, который, очевидно, очень сердечно к ней расположен. Вы, дядя, верно, знаете это семейство Бикмэн?
Дядюшка удивленно взглянул на меня; как истый ньюйоркец и по рождению, и по связям, мой дядя питал особое уважение ко всем старым и коренным фамилиям страны и штата.
– Ты и сам, верно, должен знать, Хегс, что у нас имя Бикмэн считается старинным и всеми уважаемым, – ответил дядя. – Есть одна ветвь этих Бикмэнов или Бакмэнов, поселившаяся по соседству с нашим Сатанстое, и я предполагаю, что Марта, навещая мою мать, имела случай видеть и встречать их там. Да, это известие меня сердечно радует. Но, между прочим, я получил одно, которое меня глубоко огорчило! – добавил дядя.
Встревоженный и удивленный, я смотрел на его красивое и огорченное лицо, которое он прикрывал рукою.
– Осмелюсь спросить вас, что это за вести, которые так огорчили вас? – решился я спросить, наконец, дядю.
– Да, я тебе сейчас все расскажу. Ты должен знать об этом уж потому, что ты имеешь прямое отношение к этому делу.
– Я не понимаю, на что вы намекаете, милый дядюшка. Будьте добры, объяснитесь обстоятельнее.
– Я это знаю и потому сейчас же поясню то, что сказал. Ты, конечно, знаешь земли Ван-Ренсселара; они занимают громадное пространство на протяжении сорока восьми миль от запада к востоку и двадцати четырех миль с севера к югу. За исключением трех или четырех городов, лежащих на этом пространстве, вся земля эта принадлежала одному человеку. По смерти последнего Ван-Ренсселара осталось около двухсот тысяч долларов различных недоимок с разных лиц, арендовавших его земли, и этою-то суммой он в своем завещании распорядился по своему усмотрению, назначив и душеприказчиков для приведения в исполнение своей последней воли. И вот попытка собрать эти деньги и вызвала первые смуты и беспорядки в стране. Те, которые столько времени спокойно оставались должниками, не захотели и теперь платить свои долги. Люди эти, зная всю силу и значение большинства в Америке, составили союз с другими им подобными людьми, мечтавшими о том, чтобы одним разом уничтожить всякую поземельную и арендную плату. Вот этот-то союз людей, желающих пользоваться чужой землей, но не желающих платить, и создал так называемые смуты очага. Вдруг появились группы людей, выряженных наподобие индейцев, укутанных в коленкоровые рубашки и маски цвета кожи краснокожих, вооруженных преимущественно ружьями и ножами; они вооруженной силой восстали против законной исполнительной власти полиции и судебных приставов и воспрепятствовали им собирать ренту так нагло, что судебная власть нашла необходимым вытребовать себе на помощь значительный корпус милиции, чтобы оградить своих должностных лиц во время исполнения ими служебных обязанностей. Казалось, что такой радикальной мерой бунтовщики были усмирены и порядок в стране вновь водворен; на самом деле тут вышло на беду одно весьма печальное недоразумение или ошибка. Губернатор провинции, выславший по требованию полиции на место бунта военную милицию, доложил о случившемся в законодательный совет в числе дел, относящихся к жалобам, претензиям арендаторов, как-будто они были в этом деле пострадавшими, тогда как, в сущности, действительно пострадавшими являлись только одни землевладельцы, то есть Ван-Ренсселар в ту пору. Эти беспорядки происходили исключительно только на их земле. И эта-то ошибка губернатора нанесла нашей стране громадный вред, которого, конечно, и сам он не предвидел.
– Я удивляюсь, как могла произойти подобная ошибка, как можно было говорить в защиту арендаторов, когда для землевладельца не было сделано ничего, кроме того, что строго предписывает наш закон.
– Я вижу здесь одну только причину, а именно: все дело в том, что землевладелец – единичная личность, а возмутившихся арендаторов около двух тысяч человек. Несмотря на всевозможные обвинения богатых землевладельцев в феодализме, аристократизме и барстве, ни один из Ренсселаров не имеет ни на йоту более прав или предпочтений перед законом, или иных экономических преимуществ, чем их последний конюх или лакей, если только они не негры. А всяких гарантий и обеспечений даже имеют гораздо меньше, чем их слуги и арендаторы.
– Итак, вы полагаете, что смелость и нахальство этих бунтовщиков исключительно объясняются только тем, что они представляют собою большинство избирательных голосов?
– Да, без сомнения! Если бы на каждой ферме имелось по хозяину, как имеется арендатор, то жалобы этих последних были бы приняты властями с полнейшим равнодушием, а если б на каждого арендатора приходилось по два землевладельца, то, вероятно, те же жалобы с негодованием были бы отвергнуты и оставлены без последствий.
– Но в чем, собственно, состояли жалобы господ арендаторов?
– Они жаловались на некоторые параграфы в своих условиях и контрактах, которые когда-то сами добровольно подписали, или вернее, были недовольны всеми параграфами от первого до последнего; их более всего огорчало то обстоятельство, что они не могли назваться полными, самовластными собственниками тех земель, которые по праву принадлежат не им, а их землевладельцу. Все они возроптали на контракты и всякого рода узаконенные документы, совершенно забывая, что только благодаря им теперь пользуются теми правами, какие им даны на эксплуатируемую ими землю, и что с того момента, как бумаги эти будут признаны недействительными, они тотчас же потеряют всякие права на занимаемые ими земли.
– Но как же не причастная к этому делу часть общины не восстала на защиту правого дела, не потребовала уничтожения подобных злоупотреблений и не уничтожила вконец?
– Ах, милый друг, наши законы писаны в расчет, что они будут добросовестно применяться, с твердой уверенностью, что в нашей республике всегда найдется достаточное число людей, вполне честных и справедливых, которые будут неуклонно следить за святостью и нерушимостью закона. Но на самом деле грустная истина показывает нам, что люди благонамеренные и хорошие обыкновенно бездействуют и остаются совершенно пассивными, а деятельность выпадает почти постоянно на долю людей злонамеренных, людей интриги. Нет, нет! Что там ни говори, но в смысле политического влияния никогда не следует рассчитывать на деятельность добродетели: обязательно следует опасаться во всякое время порочной и преступной деятельности зла.
– Вы смотрите не с особенно лестной точки на наше человечество, милый дядя.
– Я говорю о людях, какими их видел и узнал в двух противоположных полушариях. Но вернемся к вопросу об арендаторах: они стали кричать о правах феодализма еще и на том основании, что некоторые из фермеров господ Ван-Ренсселаров должны были выплачивать известную часть своей арендной платы не деньгами, а живностью или же несколькими рабочими днями в пользу владельца. Мы с тобой ведь достаточно знаем Америку и все ее жизненные условия, чтобы понять, что большинство земледельческого класса было бы очень счастливо, если бы им позволяли уплачивать поземельную ренту рабочими часами или различной живностью, а не деньгами; одно это уже ясно доказывает всю безосновательность вышеупомянутых сетований и жалоб. Да и на самом деле, что в этом обязательстве более феодального, чем в обязательстве булочника или же мясника по отношению к известному лицу, которому бы они обязались в течение определенного срока поставлять ежемесячно или ежедневно известное количество мяса и булок! При том, если никто не возмущается уплатой ренты хлебом и зерном, то почему же возмущаться уплатой ренты птицей?
– Но если я не ошибаюсь, – заметил я, – ведь эти обязательства всегда могут быть заменены денежною платой, не так ли?
– Совершенно верно, это всегда предоставляется на усмотрение фермера, и самое обязательство это, взамен денежной платы, обыкновенно делалось для облегчения и по желанию, и по просьбе самих арендаторов. Каждому здравомыслящему человеку, конечно, вполне ясно, что обязанность платить ренту отнюдь не создает никакой политической зависимости, равно как и открытый кредит в любой лавке – и даже того меньше, особенно если говорить о договорах и условиях арендаторов Ренсселаров; всякий должник или кредитор в любой лавке обязан уплатить свой долг в каждый данный момент, когда того потребует его заимодавец, тогда как фермеры заранее знают срок и день уплаты и могут задолго готовиться к нему. Это чистый абсурд возмущаться арендными условиями и называть их отголосками феодализма; ведь, в сущности, эти условия гораздо выгоднее для арендаторов, чем для кого-либо другого. Как я тебе уж говорил, Хегс, многие из них были «бессрочные» или же «постоянные», не трудно понять, что чем длиннее срок условия, тем выгоднее для нанимателя: предположим, например, что два фермера сняли у некоего землевладельца землю один – на бесконечный срок, а другой – на пять лет. Который же из них, думаешь ты, будет более независим от политического влияния землевладельца? Конечно, тот, который заключил условие на бесконечный срок! Он, в сущности, настолько же независим от своего землевладельца, как и землевладелец от него, за исключением лишь обязательства уплачивать в определенный срок условную арендную плату. Но, погоди, главное-то еще впереди. Ведь я еще не рассказал тебе и половины всех тех ужасов, какие вызвал этот, в сущности, совершенно безосновательный протест.
– Что же еще случилось? Скажите, ради Бога, дядя!
– Вот видишь ли, все эти беспорядки, действительно, начались на землях Ренсселаров; но вскоре не преминуло обнаружиться, что эти злоупотребления феодальной системы простираются далеко за пределы владений господ Ренсселаров, и те же беспорядки возникли и в других местах штата. Открытое сопротивление закону и прекращение арендной платы происходило и на землях Ливингстонов и, наконец, в восьми или десяти других графствах. Образовались почти повсеместно какие-то сборные войска или, вернее, хорошо вооруженные шайки, открыто сопротивляющиеся власти сборщиков поземельной ренты и появляющиеся замаскированными индейцами повсюду, куда только являлись посланные правительством чиновники для взимания с должников следуемой от них ренты. Дело это дошло уж до того, что эти шайки не побоялись уложить на месте и ранить нескольких должностных лиц, – все признаки близкой междоусобицы были налицо.
– Но что же, ради Бога, делало в это время правительство?
– О, оно делало много таких вещей, которых ему, наверное, не следовало бы делать, и наоборот, не делало почти ничего из того, что ему следовало бы делать! Самое простое и вместе с тем и самое разумное было бы, конечно, вызвать порядочный по своей численности отряд войск, который бы появлялся повсюду, где только замечалось присутствие антирентистов с их пресловутыми инджиенс, как они называли свои ряженые шайки; тогда бы разбитые наголову нарушители общественной тишины не замедлили, утомившись от преследований, рассеяться, как пыль по ветру; но вместо того наше правительство буквально ничего не делало, вплоть до того момента, когда дело дошло уж до кровопролития и беспорядки эти стали не только позором для правительства, но и бичом для всех порядочных людей, не говоря уже о тех, права и собственность которых страдали в этом вопросе. И вот, только тогда власти наши, наконец, спохватились и обнародовали закон, гласивший, что всякий, появившийся в публике ряженым и вооруженным, будет считаться законопреступником и судиться как таковой. Однако мой поверенный мистер Деннинг сообщает мне, что в Делаваре уже теперь закон этот открыто нарушается и банды более тысячи человек инджиенсов, переряженных и вооруженных, выказали открытое сопротивление сборщикам арендной платы. Чем это может кончиться, знает один Бог!
– Неужели вы опасаетесь серьезной междоусобной войны?
– Трудно сказать, что из этого может выйти и куда могут привести подобные ошибки и заблуждения, когда им беспрепятственно позволяют развиваться в народе, да еще в такой стране, как наша родина. До сих пор эти бунтовщики, в сущности, не заслуживали ничего иного, кроме презрения и пренебрежения, и всех их можно было бы, при некоторой энергии со стороны правительства, вразумить и привести к порядку менее чем за неделю, но наши власти только бездействуют. В некоторых отношениях наше правительство поступает прекрасно, но зато в других оно настолько пошатнуло и святость собственности, и личные права человека и гражданина, что едва ли эти ошибки легко можно будет исправить, если только вообще дело это еще хоть сколько-нибудь поправимо.
– Мне странно слышать это от вас, дядя, насколько мне известно, вы принадлежите ведь к той же партии и держитесь одних и тех же убеждений, что и те люди, которые теперь стоят у власти.
– Так что ж из этого? Когда ты видел, Хегс, чтобы я в силу своих политических убеждений и симпатий поддерживал или оправдывал то, что я считаю дурным или постыдным? – возразил дядя тоном, в котором слышался легкий упрек и укоризна. Затем он продолжал:
– Прежде всего, правительство взглянуло на этот вопрос совсем не так, как следовало, не разобрав, кто прав, кто виноват, и не поняв даже того, что все претензии и ропот арендаторов сводятся лишь к тому, что другой человек не желает им предоставить распоряжаться его собственностью по их усмотрению. Затем один из губернаторов был даже настолько гуманен, что предложил род компромисса, чтобы уладить это дело, что вовсе не входит в его компетенцию, так как для всякого рода тяжб существуют суды. Как бы там ни было, но этот господин предложил, чтобы Ренсселары получили от каждого из своих арендаторов, который того пожелает, известную сумму денег, доход с которой равнялся бы сумме, получаемой им с данной земли ежегодной арендной платы. Но вот некий гражданин, обладающий совершенно достаточным для него состоянием, не заботящийся нимало о приращении своих богатств, который дорожит своим поместьем вовсе не потому, что оно представляет собою известную стоимость, а потому, что с ним у него связаны многие дорогие для него воспоминания, он получил его от своих предков, он здесь родился, жил и надеялся умереть – и вдруг потому только, что его арендатор, поселившийся на его земле каких-нибудь шесть месяцев тому назад, облюбовал арендованную им ферму и не желает иметь над собою владельца, а желает, чтобы эта ферма стала его личной собственностью, губернатор великого штата Нью-Йорк становится почему-то на сторону этого нахала, вооружаясь против ни в чем не повинного наследственного владельца данного поместья, и предлагает ему без всяких рассуждений продать то, что тот вовсе не имеет желания продавать, да к тому же еще за сумму, значительно меньшую против настоящей ценности этого участка. Разве это не возмутительно?!
– Хотелось бы мне знать, какое употребление посоветует после того его превосходительство сделать бывшему владельцу той земли, которая, по его настоянию, должна была быть продана, из тех денег, которые злополучный их эксземлевладелец выручит от этой насильственной продажи? Быть может, он посоветует ему купить другое поместье и построить там новый дом с тем, чтобы их у него снова отняли, как только какой-нибудь арендатор вздумает вопиять об аристократизме, доказывая свою преданность демократизму тем, что изгоняет неповинного ни в чем человека из его родного гнезда с тем, чтобы занять его место. Нечего сказать, хорошее положение!
– Я нахожу твои замечания, Хегс, весьма дельными, действительно, теперь землевладельцам остается только строить свои дома на колесах, для того, чтобы иметь возможность перемещать свое жилье с одного места на другое, в случае, если кому из арендаторов придет фантазия принудить его продать свой наследственный участок.
Вероятно, наш разговор на эту тему затянулся бы очень долго, если бы нас не прервал приход дядюшкиного банкира, который положил конец всем нашим размышлениям по этому вопросу.
Глава III
О, когда увижу я землю, где я родился? Прекраснейшее место на поверхности земли! Когда я пройду по этому театру любви, по нашим лесам, холмам, сквозь деревни и горы, с девушкой, гордостью наших гор, которую я обожаю.
Монгомери
Поистине, для каждого американца, прожившего долгое время вдали от своей родины, узнать о том, что там, в его родной стране, разыгрываются явления и сцены, достойные истории средних веков, было, конечно, немаловажной новостью! И это та самая страна, которая гордилась не только тем, что служит убежищем для всех обиженных и угнетенных, но и тем, что свято охраняет права каждого человека! Все то, что мне теперь пришлось узнать, огорчало меня до крайности. За все время моих скитаний по чужим краям я привык думать, что Америка – страна самой справедливости и передовой, образцовой внутренней политики, и теперь мне жаль было утратить эту иллюзию.
Между тем дядя и я безотлагательно решили вернуться на родину; это решение, кроме того, настоятельно предписывала нам и осторожность. Мне исполнилось недавно двадцать пять лет, тот возраст, когда я мог вступить в бесконтрольное управление и пользование всем своим состоянием. В письмах, полученных моим бывшим опекуном, а также и в некоторых газетах, упоминалось о том, что некоторые из арендаторов поместья Равенснест также примкнули к союзу антирентистов, делали взносы на содержание инджиенсов и становились настолько же опасными и ненадежными людьми, как многие другие в отношении всякого рода насилия, разрушения и уничтожения, хотя и продолжали еще покуда платить ренту за мои земли.
Согласно нашему решению мы тотчас же приняли все необходимые для того меры, чтобы могли выехать как можно скорее из Парижа, с тем, чтобы в последних числах мая быть уже у себя на месте.
– Стоит только подумать, – говорил дядя между разного рода распоряжениями и указаниями Анри и другим служащим, – стоит только подумать, до каких абсурдов могут доходить люди, когда они начинают в чем-либо пересаливать, будь то в политике, в религии или же даже просто в моде! Так, например, существуют журналы «свободного обмена», которые считают за великий грех прогресс в понятиях и взглядах препятствовать землевладельцу и арендатору заключать между собою те условия, какие для них более всего удобны и приятны, и возмущаются как чем-то чудовищным установлением таксы для извозчиков, чтобы оправдать принцип свободы и свободной торговли; по их мнению, несравненно лучше, чтоб нанимающий извозчика так же, как и извозчик, стояли и мокли под дождем, торгуясь относительно цены. Нет, положительно я не могу понять, как могут люди мириться с своею собственной непоследовательностью! Да, кстати о непоследовательности! Я хотел сказать, что тебе следовало бы расстаться с одним странным украшением над твоим местом в церкви.
– Я не совсем вас понимаю, дядя!
– Да разве ты забыл, что над вашим фамильным местом в церкви святого Андрея, в Равенснесте, красуется род деревянного резного балдахина?
– Ах, да, теперь я вспоминаю; действительно, это весьма безобразное украшение; я всегда находил этот навес не только вычурным и ни к чему не нужным, но и лишенным всякого вкуса и смысла.
– По словам мистера Деннинга, в числе других сетований и претензий против тебя одной из причин является и твое место в церкви, украшенное в знак отличия от мест остальных прихожан этим громоздким балдахином. Конечно, если бы эта скамья, украшенная этим же балдахином, принадлежала, например, семье Ньюкем, никто не вздумал бы обращать на нее внимание, а в данном случае он порождает зависть – его считают атрибутом и проявлением твоей кичливости.
– Да ведь не я же его там поставил, мне даже в голову не приходило, что это знак отличия, я принимал его просто за украшение самого здания церкви!
– Но все же надеюсь, что и ты того мнения, Хегс, что в церкви и на кладбище не должно быть никаких светских отличий, так как и перед Богом, и перед смертью все люди равны. Я вообще всегда был против этого и возмущался всякого рода привилегиями в собрании верующих и среди прихожан одной и той же общины.
– Без всякого сомнения, дядя, я согласен с вами и отнюдь не прочь убрать этот старинный балдахин, но, тем не менее, я не могу понять, какое может быть соотношение между этим старым и безобразным украшением и вопросом ренты и нашими законными правами?
– Все дело в том, что когда причины безосновательны, то неизбежно приходится нагромождать аргументы всякого рода с исключительной целью сбить с толку логику. Но довольно об этом! Нам предстоит еще заниматься этим вопросом гораздо более, чем бы мы того желали. Ты знаешь, что в числе множества полученных мною писем есть также по письму от каждой из моих воспитанниц.
– А, это действительно отрадная для меня новость! – шутливо воскликнул я.
– Обе они, благодарение Богу, здоровы и пишут очень мило; право, мне хочется похвастать тебе письмом Генриетты, которое поистине делает ей честь. Я сейчас принесу его тебе сюда; оно осталось в моей комнате на столе. – И с этими словами дядя направился в свой кабинет.
Теперь мне следует посвятить читателя в один секрет, имеющий некоторую связь с последующим. Перед моим отъездом из Америки мне очень настоятельно советовали помолвиться с одной из трех девиц, а именно: Генриеттой Кольдбрук, или Анной Марстон, или же Оппортюнити Ньюкем.
Мисс Генриетта Кольдбрук была дочь гордого, надменного англичанина, хорошей семьи, человека богатого, переселившегося вследствие каких-то политических веяний в Америку, которую он считал землей обетованной для всяких спекуляций. На самом же деле он сильно подорвал свои капиталы этими спекуляциями и, вероятно, разорился бы вконец, если бы только не умер вовремя.
Единственная дочь его наследовала, однако, после его смерти прекрасное поместье, которое, под добросовестной опекой и в руках деятельного опекуна, моего дяди Ро, стало давать не менее восьми тысяч долларов годового дохода. Это значительное состояние делало Генриетту Кольдбрук весьма желанной невестой для большинства молодых людей. Из писем бабушки моей мне стало известно, что вследствие кое-каких деликатных намеков со стороны моего дяди в душе этой молодой девушки зародилось ко мне какое-то еще смутное чувство, которое я всецело приписал простому любопытству.
Мисс Анна Марстон была также не бедная наследница, но, конечно, не могла соперничать в этом отношении с мисс Кольдбрук; у нее было не более трех тысяч долларов ежегодного дохода и маленький, скопленный ею из процентов капитал. Два ее брата были кутилы и без толку мотали отцовское наследство, но мисс Анна была воспитана своей разумной матерью в прекрасных строгих правилах, и все отзывались о ней, как о девушке красивой, умной, скромной и во всех отношениях прекрасной.
Мисс Оппортюнити Ньюкем слыла красавицей Равенснеста, селения, расположенного на моей земле. Это была так называемая сельская красавица, с сельским образованием и воспитанием и сельскими манерами. Оппортюнити была дочь Овида, а Овид был сын Язона Ньюкема. Все они от отца к сыну наследовали небольшой домишко, построенный дедом теперешнего его владельца на моей земле, арендованной ими на долгий срок. Это жилище вот уже восемьдесят лет носило название дома Ньюкем, а его владельцы в течение всего этого времени арендовали у моих предков мельницу, шинок и ферму, ближайшую к селению Равенснест. При этом я прошу заметить, что семья Литтлпедж владела Равенснестом и всеми прилегавшими к нему землями гораздо ранее, чем на одном из их участков поселилась семья Ньюкем. Я преднамеренно о том напоминаю читателю, так как в очень непродолжительном времени он будет иметь случай убедиться в том, что некоторые люди были весьма склонны забыть об этом.
У Оппортюнити был брат по имени Сенека, или Сенеки, как сам он выговаривал свое имя. Так как семья Ньюкем в течение трех поколений была близка нашей семье и так как молодой Сенека выбился в адвокаты и мог считаться до известной степени человеком с некоторым образованием, то мне иногда случалось бывать в обществе брата и сестры Ньюкем. Оппортюнити выказывала чрезвычайную привязанность к моей бабушке и моей, тогда еще маленькой сестренке, и, по-видимому, очень охотно бывала в «Nest», как в обыденном разговоре принято было называть наш дом в поместье Равенснест, от которого и само селение получило свое имя; мне нередко приходилось испытывать на себе чары мисс Оппортюнити, причем я принужден сознаться, что она никогда не упускала случая испробовать на мне свое искусство.
Но возвратимся к дяде и к письму мисс Генриетты.
– Вот оно! – весело воскликнул мой опекун, выходя с письмом в руке в нашу столовую, где я его все время ожидал. – Прелестное письмо, честное слово! Как бы охотно я прочел тебе его все целиком, но обе мои барышни заставили меня перед отъездом обещать им, что я не покажу их писем никому, то есть тебе. Но тем не менее я того мнения, что переписка этих молодых девушек стоит того, чтобы поинтересоваться ею, и мне кажется, что я сумею прочесть тебе небольшой отрывок из этого письма.
– Мне кажется, что лучше было бы этого не делать; ведь это, так сказать, измена, и я не желал бы быть в этом деле соучастником; если мисс Кольдбрук не желает, чтобы я читал ее письма, то она, вероятно, не пожелала бы, чтобы и вы их мне читали.
Дядя взглянул на меня при этом несколько укоризненно. Между тем, он все еще продолжал держать в руках развернутое письмо, пробегая глазами некоторые строки, то улыбаясь, то посмеиваясь себе под нос, то восклицая: «Как это остроумно! » «Как прелестно! » «Какая, в самом деле, милая девушка! » – как бы желая возбудить мое любопытство; но я по-прежнему оставался совершенно безучастен, и потому дяде пришлось волей-неволей умерить свой энтузиазм и отложить в сторону это письмо.
– Да, – сказал он по некотором размышлении, не лишенном известной доли недоумения, как я заметил, – я уверен, что эти барышни будут очень обрадованы нашим возвращением; в последнем письме я извещаю матушку о том, что мы вернемся осенью, приблизительно в октябре, ну а теперь окажется, что мы уже будем дома в начале июня.
– Я уверен, что сестра моя Патт будет в восторге; что же касается других девиц, то полагаю, что у них найдется такое множество знакомых и друзей, которые их теперь интересуют, что им навряд ли есть время думать о нас.
– Ты к ним несправедлив, Хегс; из их писем я вижу, что они относятся к обоим нам с живейшим интересом.
– Понятно! – воскликнул я. – Какая молодая девушка в наше время ожидает без некоторых радостных надежд возвращения пожилого и богатого друга?! – не без иронии уронил я.
Мой дядя возмутился.
– Ну, в таком случае ты, право, не стоишь ни одной из них!
– Благодарю вас, дядя!
– Твои слова не только глупы, но и дерзки, мой милый; кроме того, я думаю, что ни одна из двух тебя в мужья не пожелает, даже и в том случае, если бы ты вздумал завтра же предложить им себя в мужья.
– Я рад этому верить; в их же интересах, мне кажется, что было бы более чем странно, если бы они приняли предложение человека, которого они почти не знают, не видев с тех пор, как ему минуло пятнадцать лет.
Мой дядя рассмеялся, хотя и было видно, что он всем этим разговором сильно огорчен; так как я старика любил сердечно, то поспешил переменить тему разговора и весело стал обсуждать наш близкий отъезд.
– А знаешь, Хегс, какая у меня явилась мысль? – вдруг неожиданно воскликнул дядя; он в некоторых вещах имел нечто такое почти юношеское, что объясняется, быть может, тем, что он свою жизнь прожил беззаботным холостяком. – Мне вздумалось записаться на пароход под чужим именем, а людей наших мы можем отправить через Ливерпуль, не правда ли, это будет забавно?!
– Да, даже очень, – отозвался я, – так пусть же это будет дело решенное.
Два дня спустя наша прислуга, то есть дядин Джекоб и мой Губерт, отправились в Англию, а мы направились прямо в Гавр. У меня с дядей было большое фамильное сходство, и потому нас принимали без труда за сына с отцом, мистера Давидсона старшего и мистера Давидсона младшего из Мэриленда. В пути не произошло решительно ничего такого, о чем бы стоило упоминать, разве что только, перечитывая еще раз свои газеты и письма, дядя пришел к печальному заключению, что антирентическое движение приняло там, у нас на родине, гораздо более серьезные размеры, чем он предполагал вначале. Один из пассажиров, недавно побывавший в Нью-Йорке, сообщил нам, что землевладельцам положительно не безопасно появляться на своей территории, так как всякого рода оскорбления, насмешки, издевательства, личные обиды и даже смерть могли быть следствием подобной смелости со стороны землевладельца. Вне всякого сомнения, дело близится к серьезному и, может быть, кровавому кризису.
Обсудив надлежащим манером эти подробности, мы с дядей решили устроиться таким образом, чтобы согласовать наши материальные расчеты с требуемой данными условиями осторожностью.