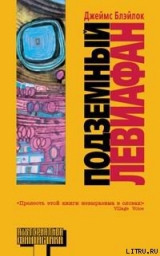
Текст книги "Подземный левиафан"
Автор книги: Джеймс Блэйлок
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Он не успел перелистнуть шестую страницу: дверь гаража стукнула, и появился Гил, груженный здоровенным мотком медной проволоки. Джим быстро засунул дневник обратно под матрас и притворился, что захвачен чтением «Дикого Пеллюсидара». Неделей позже он совершил ошибку, рассказав о дневнике Гила Оскару Палчеку. Тот, недолго думая, его свистнул.
Глава 2
То, что он остался в одном ботинке, Уильям Гастингс заметил, только когда начал перелезать через стену в глубине собственного сада – верно, он потерял его, зацепившись за корень плюща. Прыгая возле кирпичной кладки и безуспешно пытаясь подтянуть свое тело наверх, он тихо ругался, задыхаясь и чувствуя, что теряет пуговицы на пальто. Требовалось действовать тихо – вот в чем был весь фокус. Тихо и быстро, только так. Но былая сила ушла из его рук. Да и тело совершенно утратило гибкость – вероятно, из-за того, что впоследние два года Уильяма регулярно пичкали лекарствами.
Уильям повернулся и, решив отдышаться, некоторое время рассматривал через плечо видный ему из-за угла соседнего пустующего дома испещренный тенями деревьев кусок Стикли-авеню. Погони пока не было, но он знал, что они все равно кинутся следом, по крайней мере Фростикос. Бдительность была крайне необходима. Каждая минута сейчас шла по двадцать долларов, а то и по пятьдесят. Справа, посреди травянистой лужайки, виднелся приземистый дом Пембли. В ту секунду, когда от его пальто отлетела и скрылась в траве очередная пуговица, Уильяму показалось, что он заметил лицо наблюдающей за ним из окна миссис Пембли. Старуха, вне всякого сомнения, следила за ним – он был уверен в этом. Он что есть силы рванулся вверх, навалился на забор грудью, на миг завис в таком положении, перекувырнулся и упал в траву на спину, словно жук.
Сердце стучало в груди словно молот. Уильям полежал тихо, глубоко дыша. Потом попробовал пошевелить пальцами рук и ног – ему показалось, что он сломал позвоночник, что тот хрустнул, словно сухой сучок. Но все было в порядке.
Когда Эдвард Сент-Ивс оторвал взгляд от книги и взглянул в окно, то увидел Уильяма, своего шурина, проворно бегущего к дому на четвереньках. Эдвард поспешно встал и распахнул окно.
– Уильям! – удивленно воскликнул он. – Откуда ты взялся?
Уильям бешено замахал руками, словно комкая невидимую газету, потом быстро и резко указал пальцем через плечо, страшно выпучил глаза и замотал головой. Через секунду он ворвался в дом через черный ход, весь увитый плющом, в растерзанном пальто, и с размаху упал на кухонный стул. Эдвард закурил трубку.
– Решил погостить дома, да? – спросил он. – Устроил себе что-то вроде каникул?
– Верно.
Уильям внезапно снова бросился к двери черного хода и, резко отдернув на ее маленьком окошке занавеску, выглянул на улицу. Ему только что померещилось в щелке между занавеской и краем оконца: кто-то или, может быть, что-то – огромная медная голова или смеющееся детское лицо величиной с купальный тазик – внимательно смотрело на него из-за забора, выследив по оторванным пуговицам и потерянному ботинку. Однако ничего подобного за забором он не заметил.
Эдвард пыхтел трубкой как паровоз – под облаком вьющегося дымка то и дело загорался красный огонек. Уильям катится по наклонной – это было ясно. И не только по потертому пальто без пуговиц и отсутствующему ботинку. Его шурин был бледен и изможден, спутанные нестриженые волосы над ушами торчали на три дюйма. Кроме того, было и что-то еще – косая, жесткая складка рта, выдающая муки многомесячной конспирации и утаиваний.
Уильяму казалось, что в облезающей кудрявыми чешуйками краске на карнизах тихого соседского дома Пембли, в глубоких тенях под облетающими вязами, протянувшими корявые ветви через забор и роняющими осенние листья на лужайку под порывами полуденного ветра, таится предчувствие катастрофы. Он прислушивался, почти не дыша, разбирая и частью понимая кодовое перекаркивание пары черных ворон на ореховом дереве в конце улицы, которые – он видел это даже на расстоянии – следили за ним, подосланные, может быть, самим доктором Иларио Фростикосом.
Тишина надвигающихся сумерек была полна неизъяснимых грозных предположений, похожих на неотвратимо опускающийся кузнечный пресс.
– Что слышно от Пича? – неожиданно поинтересовался он, повернувшись к Эдварду, который задумчиво глядел на телефон.
– Почти ничего. Получили карточку из Виндермеера, месяц назад. Два месяца.
– И что он пишет?
– Ничего важного.
Уильям оставил занавеску в покое, подошел к буфету, распахнул дверцу и достал бутылку портвейна.
– Сейчас все важно, – изрек он. – На прошлой неделе я тоже получил письмо. Что-то затевается. Я совершенно уверен, что письмо читали – отпарили клапан, а потом заклеили снова библиотечным клеем. Я чую его за версту.
Эдвард кивнул. Юмор в таких случаях мало помогал. Безопасней было молчать. А в клинику он решил пока не звонить. Это он успеет сделать в любое время. Но состояние Уильяма действительно ухудшилось. Однако если он немного побудет дома, хуже от этого не станет.
В этот вечер, вернувшись из школы, Джим Гастингс нашел дома отца и дядю, которые уютно расположились в креслах в гостиной. На кофейном столике и на полу под ним были разбросаны годовые подписки «Сайнтифик америкэн» и «Эволюции амфибий», а на сложенных стопкой перед отцом затертом томике избранной поэзии Блэйка и «Луной Амазонки» в твердом переплете лежал скелет маленькой кисти из приливного прудка. Уильям Гастингс был погружен в глубокие раздумья.
На следующее утро с океана нанесло тумана; он клубился над росистой травой двора, капая с ветвей вязов. Уильям стоял у окна, лениво потирая лоб и размышляя о реках тумана, о подземных реках, о реках, несущих свои воды к центру Земли, к подземным морям, где жизнь проявляет себя быстрыми проблесками темных блестящих плавников и гладких спин зубатых китов. Туман на секунду рассеялся, и Уильям моментально прижался лицом к стеклу.
– Эдвард! – взволнованно воскликнул он.
– В чем дело? – Сент-Ивс торопливо вошел в комнату, вытирая руки кухонным полотенцем.
– Взгляни-ка вот на это.
В течение нескольких мгновений за окном не было видно ничего, кроме молочного марева. Затем туман расступился, и Уильям победно указал на лужайку под развесистым вязом.
– И что ты по этому поводу думаешь?
– Что пес все-таки пробрался в наш сад, – раздраженно заметил Эдвард. – Наверно, я оставил ворота открытыми.
Уильям вихрем вылетел из комнаты. Дверь черного хода хлопнула, потом еще раз, и он вновь ворвался в комнату, на этот раз с глазами круглыми, как блюдца.
– Ворота заперты. Но не в воротах дело, черт возьми. Открытые ворота тут ни при чем. Это как раз то, о чем я тебе говорил.
– Ага, – отозвался Эдвард, начиная опасаться, уж не дошло ли и впрямь до этого.
– Я уверен, что Пембли приложили к этому руку. На всем этом дерьме я вижу отпечатки их подлых пальцев.
– По-моему, – ответил Эдвард, не совсем понявший шурина, – кучка нетронута и имеет первозданный вид. Пембли пока рано обвинять. Честно говоря, мне кажется, что ты ошибаешься.
– Они перебрасывают свою собаку через забор, чтобы она гадила на нашу лужайку, ни более ни менее – вот о чем я говорю. Какие уж тут сомнения. Ты наивен, Эдвард, и ничего не замечаешь. А я много думал и наблюдал. И если хочешь знать, то здесь есть связь. Но мы не должны уступать им в бдительности и коварстве.
– Ага, – ответил дядя Эдвард.
– Для начала мы подстрижем живую изгородь вдоль забора. Понимаешь, если укоротить изгородь на фут, то, спрятавшись вон там, за шторой, я смогу видеть всю их гостиную как на ладони. Они примут меня за торшер. Никто ни о чем не догадается. Я собираюсь раскрыть их мелкие каверзы. Им меня не провести – я их вижу насквозь.
И снова дядя Эдвард не знал, как быть – свести все к шутке или вразумлять шурина. Он давно уже взял себе за правило во всем соглашаться с людьми горячими и рьяными, поскольку они в большинстве своем обычно страдали сумасшествием разной тяжести. Вести открытую дискуссию на равных смысла не было.
– В чем конкретно, – спросил он Уильяма, – ты подозреваешь Пембли? Если они строят каверзы, то делают это ужасно ловко.
– Ловко? – фыркнул Уильям с диким смешком. – Да они мне в подметки не годятся. Я их проучу, помяни мое слово. Ты удивляешь меня, Эдвард.
Сказав так, Уильям, видимо, удовлетворенный своим планом стрижки живой изгороди, повалился в зеленое просторное и очень мягкое кресло и, прихлебывая кофе, задумчиво уставился сквозь решетку камина в его пустые, черные от сажи недра.
Внезапно что-то сообразив, он вскинул голову.
– Неужели ты не видишь, что эта рука и рыба профессора Лазарела суть звенья одной цепи? А открытка Пича из Виндермеера? Да здесь голову сломаешь, такая тайна…
Уильям сделал паузу и покосился на свой кофе, потом принялся нашаривать на столе трубку.
– Ты помнишь, – продолжил настаивать он, – второе собрание Общества Блейка? Тот вечер, когда этот университетский болван прочитал нам лекцию об образах рыб у поэтов-романтиков? Как его звали? Как-то ужасно нелепо. Явный псевдоним. Пядинг, так, что ли? Тогда он еще вывел Ашблесса из равновесия. Вспомнил теперь?
– Да, пожалуй, – ответил Эдвард, – тогда действительно вышел небольшой спор. Но никто не срывался. А фамилия того джентльмена была Бадинг. Стирфорт Бадинг. И с докладом тогда выступал не он. Это был Брендан Дойл. А Бадинг совсем ненамного старше Джима и Гила.
– Значит, это был Дойл? Этот маленький заносчивый выскочка? Эксперт по романтикам! Эксперт по многим вопросам, не сомневаюсь! Знаешь, не удивлюсь, если окажется, что это он оставил нам свой автограф под вязом, – широко махнув рукой, Уильям указал на задний двор.
– Он немного хвастлив, это верно, – отозвался Сент-Ивс, пожимая плечами. – Но не так уж плох. Признаться, он мне даже симпатичен.
Во взгляде Уильяма ясно читалось, что в некоторых вещах Эдвард так и остался ребенком.
– Ашблесс в тот вечер налетел на него как петух – и не спорь со мной, Эдвард. Он готов был броситься на него с кулаками и кричал, что расквасит ему нос – вспомнил теперь? И все оттого, что тот допускал исторические несоответствия. Ашблесс тот еще тип. Можешь думать что хочешь о Дойле и об этих грязных Пембли, но с Ашблессом будь осторожен. Это мой тебе совет, – как бы подводя черту под приговором, Уильям махнул в сторону Эдварда черенком трубки.
– Я испытывал недоверие к Ашблессу с того дня, как с ним познакомился, – продолжил Уильям, пускаясь в приятное распутывание чужих интриг. – Человеку, сознательно взявшему псевдоним умершего поэта, для того чтобы прибавить своим стишкам веса, нельзя доверять. Не могу, конечно, сказать, чтобы он был совсем уж плох. В «кахуэнга» он один из лучших поэтов. Но он скользкий, как налим. Знаешь, кого он мне напоминает – Короля из «Приключений Гекльберри Финна». Я так и жду, что однажды он снимет шляпу и объявит при всех: «Я – дофин».
Выслушивая Уильяма, Эдвард медленно распалялся и уже составил в уме фразу в защиту Ашблесса, когда его шурин сорвался с места и стремглав подлетел к своему посту у шторы. Миссис Пембли, с бигуди в волосах и в халате с претензией на восточный стиль, бродила по своему саду за забором, высматривая что-то в сорняках. Крупный, мускулистый доберман-пинчер описывал круги около нее.
– Старуха что-то замышляет, – доложил Уильям. – Голову даю на отсечение – она перебрасывает ночью свою псину через забор, чтобы та гадила на нашу лужайку. Какая-то подлость затевается, помяни мое слово.
На секунду остановившись под вязом, миссис Пембли подняла голову и зачем-то заглянула вглубь кроны дерева.
– Понял! – выкрикнул Уильям с жаром, взмахивая левой рукой. – Проще пареной репы. Неужели они и в правду надеялись меня провести?
Эдвард определенно чувствовал, что обстановка накаляется.
– О чем это ты? – спросил он осторожно.
– Блок и помочи с уздой. Они переносят проклятую зверюгу через стену при помощи помочей с уздой и блока, дожидаются, пока она совершит свою гнусность, а потом выдергивают ее обратно, словно марионетку, будь она неладна.
И прежде чем Сент-Ивс нашелся, что ответить, Уильям уже был у задней двери. Выхватив из ящика с садовыми принадлежностями лопату, он подбежал к вязу, подхватил на лопату следы преступления и перебросил их через забор прямо в сорняки Пембли. Увидев, от кого исходит угроза, миссис Пембли прижалась спиной к стене гаража, стиснув обеими руками и что есть силы запахнув на груди отвороты халата. Казалось, она лишилась дара речи.
– Зря стараетесь! – прокричал ей Уильям и, пребывая в полной уверенности, что его ответный выпад и комментарии поняты должным образом, победоносно бросил лопату себе под ноги. Картинно отряхнув с рук пыль, он развернулся и возвратился в дом, к Эдварду, задумчиво скребущему макушку, в ожидании неминуемой бури. Но обошлось без последствий. Уильям вышел полным победителем. Позднее, тем же утром, он подстриг мешающую обзору часть живой изгороди и битых два часа передрапировывал шторы и переставлял мебель в гостиной, превращая ее в наблюдательный пост, заняв который он мог бы казаться случайному стороннему наблюдателю торшером, стоящим в углу перед окном. В своих стараниях Уильям зашел так далеко, что, приказав Эдварду прогуливаться с подчеркнуто беззаботным видом взад-вперед вдоль внешней части забора, сам, надев на голову широкополую соломенную шляпу (на западе такими иногда украшают напольные лампы, а на востоке их носят преимущественно кули), простоял некоторое время как фламинго на одной ноге за занавеской. О том, что дело шурина плохо, Эдвард догадался как только увидел Уильяма бегущим по двору на четвереньках, но то, что регресс оказался таким быстрым, стало для него пугающим сюрпризом. Выход из положения был только один: срочно перенаправить поток мыслей его бедного шурина в русло погони за интеллектуальными ценностями, отвратив его от воображаемых угроз. Нужно было подумать о Джиме. Мальчику наверняка тяжело смотреть, как его отец медленно, но верно «съезжает с катушек». Необходимо оградить сына Уильяма от заразительного безумия. В качестве одного из первых шагов нужно уговорить Уильяма снять с рубашек омерзительные алюминиевые бутылочные крышечки, которые он прикреплял там при помощи пробковых прокладок от этих крышечек. Вид подобных украшений на одежде отца несомненно причинял Джиму боль.
– На завтра намечено собрание Общества, – заметил Сент-Ивс Уильяму, когда идея с торшером исчерпала себя.
– Общества Блэйка?
– Нет, ньютонианцев, – ответил Эдвард. – Соберутся у нас. Придет кое-кто из твоих старых друзей.
– Сквайрс?
– И он тоже. Он сейчас занимается модификацией своей батисферы – устанавливает в ней нечто под названием «абсолютный гироскоп». Насколько я понял, это механизм, который помогает сохранять равновесие, но ты ведь знаешь, я не инженер. Лазарел затевает в следующем месяце экспедицию с погружением в одну из главных впадин Пало-Верде.
– Старина Сквайрс, – протянул Уильям. – У меня есть кое-какие идеи – хочу опробовать их на нем. Я недавно прочитал Эйнштейна, и у меня есть сюжет для превосходного рассказа. Высокая наука, высочайшая – гранит. Именно поэтому я хочу, чтобы Сквайрс был первым, кому я все расскажу. – Уильям почесал переносицу. – Как поживает лабиринт – цел еще?
– Конечно, – ответил Эдвард.
– Тогда пойду покопаюсь там пару часов. – Заново набив трубку, Уильям раскурил ее и поднялся из кресла, пыхая дымом. – Мыши, конечно, сдохли?
– Нет, – ответил Эдвард. – И есть прибавление. Все белые, ни единого черного пятнышка. Одна самка разродилась только вчера.
– Отлично! – воскликнул Уильям, просияв. – Нужно будет поместить помет к bufomorinus. Может, если мы будем кормить его кониной до отвала, он оставит мышат в покое и даст им возможность освоиться с ним. Это будет означать, что мы на полпути к успеху.
– Буфо сдох два месяца назад. Но я купил аксолотля – он здоровый как кролик, и разницы особенной нет.
Уильям кивнул, уже подхваченный вихрем научной мысли.
– Это хорошо, – сказал он. – Просто отлично. Наружные жабры – тоже хорошо. Кстати, как поживает Гил Пич?
– Лучше всех. По-моему, он напал на что-то крупное. Джон Пиньон присматривает за ним.
Не успели последние слова слететь с губ Эдварда, как он пожалел о том, что произнес их.
– Пиньон! – Уильям задохнулся. – Пиньон добрался своими грязными лапами до Гила Пича? Но Пич наш!
– Конечно, – успокоительно отозвался Эдвард. – Конечно. Я неверно выразился. К черту Пиньона.
В конце концов Уильям, надев широкий кожаный фартук, направился к задней двери, все еще бормоча себе под нос. На полдороге к «лабиринту» он остановился, повернулся, ворвался обратно в дом и проорал в кухонную дверь что-то нечленораздельное. Все, что Эдварду удалось разобрать, было «Пиньон» и «извращенец», но, решив не уточнять, он не стал спрашивать у Уильяма объяснений.
Глава 3
Общество ньютонианцев устраивало свои встречи раз в месяц, а если находилась причина, то и чаще. Два года назад то же самое общество носило имя Блэйка и занималось обсуждением вопросов литературы. В те времена Уильям Гастингс еще не «съехал с катушек» и был вполне в себе: обычный, может быть слегка эксцентричный, профессор университета Игл-Рок, специалист по романтической литературе, владелец потрясающей библиотеки, который, обнаружив в один субботний вечер, что у него на книжных полках в гостиной уже нет места для книг, отчего-то решил приспособить под это дело холодильник и засунул Геродота и томик «Белых дубов Джалны» между банками консервированного перца и пикулей.
Общество ньютонианцев образовалось уже после ухода со сцены Уильяма Гастингса, когда за ним, по жизнерадостному выражению Оскара Палчека, «закрылась дверь». Лирику принесли в жертву физике, а точнее, открытым разборам теорий профессора Лазарела. Вечером следующего после неожиданного появления Уильяма Гастингса дня – это был субботний вечер – Гил Пич и Джим торопливо шагали к дому Джима, взволнованно предвкушая встречу с учеными мужами и в особенности желая услышать мнение профессора Лазарела по поводу найденной в приливном прудке маленькой руки.
Средство передвижения профессора Лазарела – другого наименования для этого аппарата Джим просто не мог подобрать – со скрежетом затормозило возле кустов перед домом Джима как раз тогда, когда мальчики подходили к дверям. Это был допотопный «лендровер», огромное кубическое сооружение, казалось, почти целиком сделанное из дерева – дерева, покрытого слоями дорожной серой пыли, что наводило на мысли о саркофагах египетских фараонов, пролежавших дюжину веков в пустыне; дерева, которое само, под влиянием неведомых метаморфоз, постепенно начинало превращаться в пыль. Джим был уверен, что наступит день, когда эта машина, со скрипом и стуком преодолевая очередной извив шоссе в юго-восточной пустыне, наконец завершит трансформацию и превратится в несколько пригоршней серого праха, который развеет над песком смерчик, порожденный внезапной остановкой движения. Водитель едущего вдогонку автомобиля, еще не успев поверить до конца в существование катящегося впереди механизма, увидит в некотором отдалении серебристое облачко, тающее на голубом горизонте в туманном мареве, поднимающемся от горячей пустыни, и примет видение за мираж, не обратив внимание на удаляющуюся спину уцелевшей сердцевины исчезнувшего патриарха автомобильного движения – профессора Лазарела, спокойно шествующего с сачком для бабочек на плече к ближайшим зарослям юкки. Джим отдал бы все на свете, чтобы самому иметь такую же машину.
Следовало отметить, что профессор Лазарел всегда был готов к походу, это было его привычным состоянием. К огромному заднему бамперу его авто было приторочено нечто похожее на колчан с доисторическими лопатами и кирками и несколько парусиновых бурдюков для воды, которые вечно протекали, но в которых всегда что-то плескалось. Внутри «лендровера» по сиденьям были разбросаны топографические карты и лежала примерно миля пеньковой веревки, свернутой в бухту.
Сам Лазарел был свиреп и сухощав, все и вся принимал всерьез и презирал использование расчески. По сравнению с машиной, его пальто оставляло желать лучшего. Он торопливо прошагал мимо Джима, быстро кивнув, но, увидев Гила Пича, остановился. Мучительно придумывая, что сказать, профессор Лазарел пожал Гилу руку. Было заметно, что не смотреть на остатки жабр на шее Гила, которые почти не были видны под высоким воротом свитера, стоило Лазарелу огромного труда.
– Ты виделся с профессором Пиньоном? – спросил Лазарел внезапно, поднимая бровь.
Гил ответил, что виделся, вчера.
– Ах вот как, – отозвался профессор Лазарел, кивая. – И что же он сказал интересного?
– Ничего, сэр. Спрашивал меня о землеройной машине.
– Ах вот как, – снова сказал профессор Лазарел. – О той твоей машине, которая сможет передвигаться под землей? Эдвард много мне о ней рассказывал. Мне хотелось бы на нее взглянуть, если получится.
Гил ничего не ответил. Он слабо кивнул, не выказывая особого энтузиазма – что было странно, поскольку обычно Гил с жаром рассказывал о своих изобретениях. Джим заметил, что профессор Лазарел растерян, хотя и старается этого не показать. Они гуськом вошли в дом, в котором уже слышались громкие голоса, лился по рюмкам портвейн и висел густой табачный дым. Заметив отца, оживленно беседующего с Ройкрофтом Сквайрсом, Джим испытал облегчение. Страх перед тем, что под тонкой наружной пленкой нормальности в отце таится и ждет своего часа безумие, никогда не отпускал Джима. Ему казалось, что в любой момент его отец может соскользнуть с узкого края нормальности, дядя помчится к телефону, и появится санитарная машина, белая и завывающая сиреной. Оскар Палчек любил называть тех людей «парни в белых халатах» и очень веселился, описывая сачки, точь-в-точь как для ловли бабочек, только гораздо больше, и пастушьи арканы. Обычно Джим виновато смеялся над этими шутками. Но теперь отец был дома, и Джиму стало не до шуток. По правде говоря, он не мог сказать, как он относится к отцу. Все мысли Джима будто скрывала стена дымки, сквозь которую его разум не мог проникнуть. Насколько он понимал, такая же стена, порожденная той же туманной неопределенностью, существовала и в голове отца. Джим нередко возвращался в мыслях к тому дню, когда его мать умерла на склоне холма в предместье Лос-Анджелеса, и иногда задавал себе вопрос – вспоминает ли об этом дне его отец, и если вспоминает, то как часто?
В тот день они отправились на пикник в Гриффит-парк – Джим, его отец и мать. Общим голосованием было решено, что дядя Эдвард останется дома, тем более что и сам он собирался повозиться в гараже. Мама Джима сделала бутерброды, сказала, что они сначала прокатятся по холмам – уже покрытым зеленью после весенних дождей, – перекусят где-нибудь, а потом посетят дневной сеанс в планетарии.
На холмах они нашли небольшую дубовую рощицу (на деревьях еще совсем не было листьев), расположились и съели свои припасы. Мама говорила о новых занавесках для кухни, о знаках внимания, которые дядя Эдвард оказывает Вильме Пич, матери Гила. Джим помнил этот разговор слово в слово, несмотря на то, что в ту пору был совершенно равнодушен к кухонным занавескам и не понимал, почему кто-то должен интересоваться Вильмой Пич, да и вообще чьей-либо матерью. Теперь же, два года спустя, выцветшие кухонные занавески прочно связывались в его памяти с лицом мамы, и он мог вспоминать и думать только о том и другом одновременно.
После ленча Джим с отцом принялись бродить по бесчисленным тропинкам на склоне холма среди чапараля, наполняя бумажный мешок всяким полезным барахлом. У них и в мыслях не было наводить на холме чистоту; они были заняты поисками сокровищ – интересного и не очень механического мусора, которым можно было пополнить бочку в гараже Гила. В тот день на холмах их улов на девяносто процентов состоял из бутылочных крышечек того типа, у которых изнутри имеется пробковая прокладка и которые можно использовать по-разному с большим толком. Можно было, например, вынув прокладку, приложить крышечку к рубашке и вставить прокладку через рубашку обратно, зажимая тем самым ткань – крышечка после этого висела прочно и не падала. В ту субботу в парке Уильям Гастингс был просто одержим идеей бутылочных крышечек, и к тому времени, как их жажда сокровищ была отчасти утолена, их рубашки украшало от пятнадцати до двадцати бутылочных знаков отличия на каждого, отчего оба они напоминали представителей съезда в поддержку безалкогольных прохладительных напитков.
Мама Джима в притворном ужасе закатывала глаза, словно ее мужчинам такие проделки грозили жизнью в палате с мягкими стенами. В конце концов она согласилась поносить одну из найденных крышечек на блузке сама, по крайней мере до тех пор, пока они не приедут в планетарий.
Наполнив мешок доверху, Джим с отцом мирно спускались по тропинке к месту пикника, где их ожидала мама, отказавшаяся принять участие в экспедиции, – сославшись на непонятного происхождения боли, она осталась под дубами с книгой; Джим отлично помнил, что это был Бальзак и мама читала его в подлиннике. С первого взгляда Джиму показалось, что его мать уснула. Он поднял шум – засвистел и закричал отцу, который шел в пяти шагах позади, крикнул маме, какие замечательные вещи лежат в их бумажном мешке. Запустив руку в мешок, Джим вытащил оттуда вполне приличный перочинный нож с отскочившей костяной накладкой с одной стороны ручки.
По неким причинам отец Джима не повторил его ошибки и сразу понял, что мама вовсе не спит. Возможно, это объяснялось положением ее тела, тем, как она лежала. Следующие полчаса показались Джиму жуткой пантомимой: первые десять минут его отец пытался привести маму в чувство, а следующие двадцать сидел рядом с ней неподвижно, оцепенело глядя на голые ветви дуба, напротив которого стоял Джим.
Два рейнджера из охраны Парка, вызванные водителем случайно проезжавшей мимо машины, отнесли мать Джима на носилках к карете «скорой помощи», которая доставила ее в Мемориальный госпиталь, где было объявлено, что она умерла. Дядя Эдвард приехал в госпиталь за Джимом и его отцом. При желании Джим мог по минутам вспомнить три унылых, белых и хромированных часа, проведенных им в госпитале. Однако теперь, спустя два года, эти воспоминания никак не связывались в его памяти с матерью и, стало быть, не значили для него ничего. Он почти ничего не знал о работе человеческого сердца, и ему казался необъяснимым тот факт, что сердце матери вдруг решило остановиться, как часы, у которых кончился завод. Когда вечером дядя Эдвард вез их из госпиталя домой, на рубашках Джима и его отца все еще было полно бутылочных крышечек. Спросить, что это и откуда, дяде Эдварду не хватило чувства юмора. Сейчас, на встрече ньютонианцев, через два года после тех событий, Джим заметил, что отец все еще носит крышечки – к его рубашке были прикреплены две: крем-сода «Уайт Рок» и «Нэхи орандж». С чувством вины и досады Джим поймал себя на мысли, что хочет, чтобы отец не носил такие украшения.
Однако сию минуту Уильям Гастингс был далек мыслями от того трагического и переломного в его судьбе полдня в парке, от которого он не мог оправиться потом почти два года, – сейчас он был увлечен рассказом, который собирался написать. Ройкрофт Свайрс кивал, косился по сторонам, ковырялся в своей трубке с отделкой под армадилл, запихивал в ее просторную чашечку большую щепоть кудрявого табака, уминая сначала большим пальцем, а потом шляпкой большого гвоздя.
– Я понял, – вещал Уильям, попыхивая трубкой, – что релятивистская механика выеденного яйца не стоит. У меня родилась на ее счет своя мысль – выслушай меня, Рой, только со стула не свались.
Сквайрс кивнул, давая понять, что готов ко всему, в том числе и к падению со стула.
– Предположим, есть некий предмет, который разгоняется до скорости света, – продолжил Уильям, подавшись вперед и наставив на Сквайрса черенок трубки. – Масса предмета при этом возрастает, и это означает, что сам он увеличивается – наш предмет становится все больше и больше. Раздувается, словно воздушный шар, если ты понимаешь мою мысль. Именно это не позволяет развивать скорость, равную световой, – при такой скорости для нас места не хватит во всей вселенной.
Сквайрс хотел было что-то сказать, может быть опротестовать услышанное, но не успел и рта открыть, как Уильям, захваченный переполняющими его догадками и идеями из области науки и искусства, обрушил на него новое откровение.
– Кроме того, при приближении к скорости света мы оказываемся в условиях, которые на языке физиков называются «замкнутая прямая». Все вокруг нас, как ты понимаешь, идет по кругу – смена времен года, четыре этапа жизни человека, трансмутация основных металлов в золото, циклы эволюции, пространство и время. Все имеет одну и ту же природу. Кстати, ты знаком с диалогами Фибоначчи о цветах подсолнухов и циркулярных потоках звезд во вращающихся галактиках?
Вопрос был риторическим. Уильям и не думал дожидаться ответа.
– Параллельные линии, – продолжил он, – встречаются в отдаленном месте пространства. Прямая, уходящая в бесконечность, ловит свой хвост, как известный мифологический морской змей. Видишь ли, Рой, люди науки допускают здесь основную ошибку, потому что остаются слепы к определенным таинствам, к некоторым связям. Они полагают, что лесная поляна и в солнечном свете, и в лунном остается той же самой поляной. Но мы с тобой оба знаем, что это не так.
Сквайрс наконец уловил нить рассуждений. И кивнул.
– Понимаешь, Рой, лучи лунного света – отраженные и живые, но дневной свет – это совсем другое дело.
Хочу сказать тебе, что все это имеет первостепенное значение. В моем рассказе астронавт летит в своем корабле к альфе Центавра. Откинувшись на спинку кресла, он сидит перед большим круглым обзорным экраном и глядит на приближающиеся к нему звезды, представляя всю Вселенную в виде океана у своих ног, где звезды, как говорится в популярных стихах, «плавают, что сельди». Или можно сказать иначе: ему кажется, что он в озере с рыбой, а звезды и планеты, кружащие около него в пространстве, это следящие за ним, стремящимся вперед, глаза. Астронавт начинает расти – сначала незаметно, потом очень сильно. Его корабль распухает, достигая невообразимых размеров. Лицо астронавта приобретает сходство с улыбающимся месяцем, но сам он этого не замечает. Его корабль заполняет Вселенную. И вдруг впереди, там, где горит его цель, нужная ему звезда, в то время как его родная звезда у него за спиной мигает, угасая – столь велика его скорость, – он замечает невиданное: сквозь просторы космоса мчит сияющий корабль, колоссальный, застящий полнеба, весь в переливах разноцветных огней, непрерывно разрастающийся от безумной и все увеличивающейся скорости. Наш астронавт бросается за таинственным кораблем в погоню, чувствуя, как в глубине души зарождается благоговейный холод. И вдруг через смотровой иллюминатор прекрасного корабля он видит голову и плечи могучего гиганта, гротескного круглощекого бога, парящего над просторами Млечного Пути. И в краткий миг яростного прозрения и кристальной ясности сознания узнает незнакомца!








