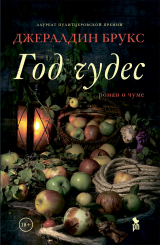
Текст книги "Год чудес"
Автор книги: Джералдин Брукс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
1665, весна
Венок из роз[5]5
Отсылка к народной песенке из сборника «Стихи и песенки Матушки Гусыни»: «Венок, венок из роз, / Букет с собой я нес. / Апчхи! Апчхи! / Наземь шлеп». По одной из версий, в песенке описывается чума. Розы – это багровые пятна на коже; букетики с цветами и травами прижимали к носу, чтобы не вдыхать ядовитые миазмы, чихание – один из признаков заражения, а последняя фраза намекает на печальный исход.
[Закрыть]
Никогда прежде не знала я столько тягот, как в первую зиму после гибели Сэма в шахте. А потому, когда весной Джордж Викарс постучал в мою дверь и сказал, что желает снять жилье, я подумала, что его послал сам Господь. Впоследствии некоторые говорили, что послал его дьявол.
О его приходе возвестил малыш Джейми. Краснея от удовольствия, путаясь в ногах и в словах, он пролепетал:
– Мама, там дядя! К нам дядя пришел!
При виде меня Джордж Викарс поспешно снял шляпу и почтительно уставился себе под ноги. Совсем не то что другие мужчины, которые разглядывают тебя, точно скотину на торгах. Когда восемнадцати лет от роду ты уже вдова, быстро привыкаешь к таким взглядам и учишься давать отпор.
– Если позволите, миссис Фрит, в доме священника сказали, что у вас, быть может, найдется для меня комната.
Мистер Викарс сообщил мне, что он странствующий портной, и, судя по его простому, добротному платью, свое дело он знал. Несмотря на долгий путь из Кентербери, выглядел он чисто и опрятно, и это меня подкупило. Мистер Викарс уже успел наняться в подмастерья к моему соседу, Александру Хэдфилду, у которого в ту пору отбоя не было от клиентов. Держался мистер Викарс скромно, говорил тихо, но, узнав, что он готов уплачивать по шесть пенсов в неделю за комнату у меня на чердаке, я приняла бы его, будь он даже шумлив, как пьянчуга, и грязен, как свинья. Нам очень недоставало дохода от шахты Сэма. Том был еще грудным младенцем, а мое стадо не давало большой прибыли, и, хотя по утрам я прислуживала в доме священника, а по особым случаям – в Бредфорд-холле, если там не хватало рук, заработки мои были слишком скудны. Шесть пенсов были для нас ощутимой суммой. Однако уже на исходе недели я сама готова была платить своему жильцу. Джордж Викарс возвратил в дом смех. Впоследствии, когда я вновь могла о чем-либо думать, я утешала себя мыслями о тех весенних и летних деньках, когда Джейми смеялся.
Пока я работала, за Джейми и Томом приглядывала юная дочка Мартинов. Она была порядочной девушкой, да и за детьми следила зорко, но из-за пуританского воспитания полагала, что веселье и смех порочны. Такая строгая нянька была Джейми не по душе, и, завидев меня в окно, он всегда бежал мне навстречу и обхватывал мои колени. Однако на другой день после прибытия мистера Викарса Джейми не встречал меня на пороге. Его тоненький смех раздавался из теплого уголка у очага, и я, как сейчас помню, подумала: что это нашло на Джейн Мартин, если она села с ним играть? Но, пройдя в дом, я увидела, что Джейн помешивает похлебку в котелке, губы привычно сжаты в нитку. По комнате на четвереньках ползал мистер Викарс, а верхом на нем, восторженно повизгивая, сидел Джейми.
– Джейми! Ну-ка немедленно слезай с бедного мистера Викарса! – воскликнула я.
Но портной лишь рассмеялся, а затем закинул назад светловолосую голову и по-лошадиному заржал.
– Я его лошадка, миссис Фрит, с вашего позволения. Он отменный наездник и почти никогда не бьет меня хлыстом.
Еще через день, когда я возвратилась домой, Джейми, подобно Арлекину, весь был увешан пестрыми лоскутками из корзинки мистера Викарса. А на третий день они вдвоем привязывали мешки с овсом к стульям, сооружая укрытие.
Я стала благодарить мистера Викарса за его доброту, но он лишь отмахнулся:
– Славный у вас мальчонка. Отец, должно быть, страшно им гордился.
Тогда я постаралась отплатить ему иным способом – накрывала особенно хороший стол, и он щедро нахваливал мою стряпню. В ту пору мистер Хэдфилд был единственным портным на все окрестные города, и работы его подмастерью хватало с лихвой. Мистер Викарс часто засиживался с шитьем допоздна, ловко орудуя иголкой и сжигая за вечер по целой лучине. Если у меня оставались силы, я находила себе какое-нибудь занятие близ очага, чтобы составить ему общество, за что он награждал меня историями о местах, где ему довелось побывать. Для такого молодого человека он многое перевидал и вдобавок был искусным рассказчиком. Как и большинство местных, я никогда не заезжала дальше небольшого городка в семи милях от нашей деревни. До Честерфилда, ближайшего к нам крупного города, добираться вдвое дольше, и у меня еще ни разу не было потребности туда отправиться. Мистеру Викарсу были знакомы величие Лондона и Йорка, кипящая портовая жизнь Плимута и неиссякающий поток паломников Кентербери. Я с удовольствием слушала его рассказы об этих местах и о том, как устроена там жизнь.
У меня никогда не бывало таких вечеров с Сэмом – обо всех событиях в крошечном мирке, что был ему дорог, Сэм узнавал от меня. Ему по нраву было слушать лишь о тех жителях деревни, кого он знал с малых лет; о том, какие мелкие заботы составляли их дни. И я рассказывала, что корова Мартина Хайфилда отелилась бычком, а вдова Хэмилтон обещала приехать за настригом шерсти со своих овец. Сэму довольно было просто сидеть рядом, изможденно, крупное тело свисает по краям стула, столь крошечного в сравнении с ним. Я болтала о делах соседей и похождениях детей, а он неизменно глазел на меня с полуулыбкой, позволяя словам обволакивать себя. Когда поток новостей иссякал, он улыбался шире и протягивал ко мне руки. Руки у него были большие, все в трещинах, с черными обломанными ногтями, а близость для него была кратким сплетением в липкий клубок, а дальше – судорога и сон. После я, бывало, лежала под тяжестью его руки, воображая темные закрома его сознания. Мир Сэма был сырым и мрачным лабиринтом лазов и ходов на глубине тридцати футов под землей. Он знал, как отбивать известняк при помощи воды и огня; знал, сколько можно выручить за блюдо свинца; знал, на чьей выработке до конца года иссякнут запасы руды и кто застолбил чужой отвод на краю утеса. И – насколько ему было ведомо, что такое любовь, – он знал, что любит меня, что полюбил еще крепче с тех пор, как я подарила ему сыновей. Вот чем ограничивалась его жизнь.
Мистера Викарса, казалось, ничто и никогда не ограничивало. Переступив наш порог, он принес с собой целый мир. Родился он здесь, в Скалистом крае, но еще мальчиком его отослали в Плимут, в ученики к портному. В этом портовом городе он видел торговцев шелком, возвратившихся с Востока, и даже водил дружбу с плетельщиками кружева – врагами нашими голландцами. Каких только историй он не рассказывал – о варварийских мореплавателях, меднолицых, в тюрбанах цвета индиго; о мусульманском купце с четырьмя женами, каждая укутана с головы до пят и выглядывает из-за покрывала одним глазом. Окончив обучение, мистер Викарс отправился в Лондон, где после возвращения и восстановления на престоле Карла II процветали ремесла и торговля. Там у него было много заказов на платье для прислуги, работавшей в домах придворных. Впрочем, столица быстро его утомила.
– Лондон – место для очень юных и очень богатых, – пояснил он. – Остальным там не преуспеть.
С улыбкой я отвечала, что, поскольку ему еще нет и двадцати пяти, мне он кажется достаточно молодым, чтобы унести ноги от грабителей и оправиться после бурной ночи в трактире.
– Может, и так, госпожа, – согласился он. – Но мне прискучило упираться взглядом в черные стены и слушать грохот колес. Мне там не хватало простора и свежего воздуха. Язык не повернется назвать воздухом то, чем люди дышат в Лондоне. Камины, что топят углем, распространяют повсюду сажу и запах серы, загрязняют воду и даже дворцы превращают в закоптелые казармы. Этот город стал похож на грузного человека, что пытается втиснуться в колет, который носил ребенком. Столькие переехали туда в поисках заработка, что людям приходится ютиться вдесятером в одной комнате величиной не больше этой. Бедолаги всячески стараются расширить свои убогие жилища, ухватить побольше пространства. Там и сям бесформенные надстройки нависают над головами прохожих и громоздятся на прогнивших крышах, едва способных удерживать их вес. Водосточные трубы и желоба сделаны как придется, и липкая влажность преследует тебя даже спустя много дней после дождя.
Вдобавок, продолжал он, ему до смерти надоело иметь дело с господами, что заказывают ливреи для своих лакеев, а плату по счетам задерживают на целый год.
– К концу этого срока я бывал счастлив получить с них хоть что-то, – сказал мистер Викарс. – Знатные должники разорили уже не одного портного.
Увидев, что чрезмерная набожность мне чужда, он поведал немало историй о кутеже и разврате, которые имел случай наблюдать, когда король после изгнания возвратился с чужбины. Я была уверена, что приукрашивать рассказы для него все равно что вышивать узоры на ткани, и упрекнула его в этом как-то вечером, когда мы уютно устроились у огня: он на полу, длинные ноги скрещены, в руках иголка и льняное полотно, а я за столом, пальцы в муке от овсяных лепешек, которые я раскатывала и развешивала сушиться перед очагом.
– Нет, госпожа. Если я и погрешил против истины, то в пользу скромности, чтобы вас не оскорбить.
На это я со смехом ответила, что не настолько скромна, чтобы гнушаться правды, и желаю знать, как устроен мир. Возможно, я слишком усердно его упрашивала, а может, все дело во второй кружке доброго эля, который я варю сама, только мистер Викарс начал описывать, как король в чужом платье тайно проник в шлюший дом, а там его обобрали до нитки. К его удивлению, я лишь рассмеялась и выразила надежду, что некая дама пировала потом по-королевски, – она, несомненно, заслужила это, ублажив такого гостя и многих похуже.
– Вы не осуждаете ее за то, что она избрала путь похоти и разврата? – вопросил мистер Викарс, с притворной строгостью сдвинув брови.
– Прежде чем осуждать ее, я хотела бы знать, велик ли у нее был выбор в том жестоком мире, который вы обрисовали. Когда барахтаешься в сточной канаве, больше всего тебя заботит, как бы не утонуть, а не чем там пахнет.
Пожалуй, не стоило мне говорить так откровенно, ибо следующий его рассказ, о любимом поэте короля графе Рочестере, так ошеломил меня, что один из приведенных стишков я помню по сей день. Мистер Викарс был превосходным подражателем. Его честное, открытое лицо исказилось в самодовольной ухмылке, а голос, обычно столь кроткий, сделался визглив и гнусав.
Не дав ему закончить, я зажала уши и с извинениями заторопилась вон из комнаты. Право, не мне судить других, но как могут аристократы, вечно настаивающие на своем превосходстве над нами, так опуститься, что худшие из нас рядом с ними покажутся сущими ангелами? Позже, лежа на соломенной постели с малышами под боком, я пожалела о своем порыве. Я жаждала узнать как можно больше о местах и людях, которых и не надеялась увидеть своими глазами, а теперь мистер Викарс будет считать меня ханжой и перестанет говорить свободно.
И действительно, на другой день бедняга места себе не находил от смущения, полагая, что нанес мне непоправимую обиду. Тогда я сказала, что, по словам преподобного Момпельона, знание само по себе не есть зло и не погубит душу, если использовать его во имя добра. Я очень благодарна, продолжала я, что он открыл мне истинное положение вещей в самых высших кругах, и с удовольствием послушаю другие стишки такого толка, ибо не в том ли роль подданных его величества, чтобы стараться ему подражать? Так мы свели все к шутке и вскоре, когда весна растворилась в лете, были уже на короткой ноге.
Мистер Хэдфилд ожидал из Лондона посылку с тканями, и когда ее доставили, как бывало со всеми товарами из большого города, она вызвала в деревне настоящий переполох. Многим было любопытно, какие цвета и фасоны носят в столице. Из-за того, что последний отрезок пути посылку везли под дождем в открытой телеге, ткани промокли, и мистер Хэдфилд велел мистеру Викарсу хорошенько их просушить. Мистер Викарс протянул перед нашими домами веревки и развесил на них отрезы материи, предоставив всем желающим возможность разглядывать и обсуждать. Джейми, конечно же, сразу придумал себе забаву – носился между рядами развевающихся полотен, изображая рыцаря на турнире.
У мистера Викарса было столько заказов, что я глазам своим не поверила, когда, возвратившись с работы через несколько дней после прибытия посылки, увидела на своей кровати бережно сложенное платье тонкой шерсти. Оно было золотисто-зеленым, как омытая солнцем листва, фасон скромный, но изящный, манжеты и наплечная косынка оторочены генуэзским кружевом. Я отродясь не носила таких красивых вещей – даже на обручальном обряде была в платье с чужого плеча. А со смерти Сэма и вовсе ходила в одном и том же бесформенном балахоне из грубой шерсти, черном, как у пуританки, и безо всякой отделки. Я полагала, что так будет и дальше, наряжаться мне было не на что и ни к чему. И все же с детским трепетом я приложила мягкую материю к груди и прошлась по комнате, стараясь поймать свое отражение в оконном стекле. В нем-то я и увидела мистера Викарса, стоявшего у меня за спиной. Мне стало стыдно, что меня застали за самолюбованием, и я тотчас опустила руки. Мистер Викарс улыбался, широко и открыто, но, заметив мое смущение, вежливо уставился в пол.
– Простите меня, но при первом же взгляде на эту ткань я сразу подумал о вас, ведь она точно такого оттенка, как ваши глаза.
Я с досадой почувствовала, что краснею, и от этого шея и щеки запылали еще сильней.
– Любезный господин, вы очень добры, но я не могу принять этот подарок. Вы здесь живете, и я несказанно рада иметь такого жильца, как вы. Но вы и сами понимаете, что, когда мужчина и женщина делят кров, они должны быть предельно осторожны. Как бы наши отношения не сделались слишком дружескими…
– На это я и надеюсь, – тихо произнес мистер Викарс, не сводя с меня серьезного взгляда.
Тут я снова залилась краской и не нашлась что ответить. Его щеки тоже тронул румянец, и сперва я подумала, что он и сам смутился, но затем, сделав шаг мне навстречу, он покачнулся и схватился рукой за стену. При мысли, что он тайком прикладывался к кувшину с элем, во мне всколыхнулся гнев. Я приготовилась дать ему отпор, как насосавшимся грога олухам, которые порой докучали мне после смерти Сэма, но мистер Викарс не стал распускать руки, а с силой потер виски, будто у него заболела голова.
– Возьмите платье в любом случае, – пробормотал он. – Я лишь хотел отблагодарить вас за то, что оказали чужаку радушный прием и окружили его уютом.
– Спасибо, сэр, но мне не пристало, – сказала я, складывая платье и протягивая ему.
– Почему бы вам не спросить завтра совета у вашего пастора? – предложил мистер Викарс. – Вы, конечно, примете подарок, если он не усмотрит в этом вреда?
Идея показалась мне разумной, и я согласилась. Если не сам священник – ведь не могла же я обратиться к нему по такому делу, – то миссис Момпельон уж непременно сумеет мне помочь. К тому же я с удивлением обнаружила, что рано похоронила себя как женщину, ибо мне все-таки хотелось надеть это платье.
– Быть может, хотя бы примерите его? Любой мастер желает знать, преуспел ли он в своем ремесле, и если назавтра вы узнаете, что принять такой подарок неприлично, то, по крайней мере, вознаградите мои труды и потешите мою гордость, показав результаты моей работы.
Правильно ли я поступила, поддавшись на его уговоры? Я стояла, поглаживая тонкую материю, и любопытство перевесило всякие представления о пристойности. Выпроводив мистера Викарса за дверь, я скинула свое грубое саржевое платье. Впервые за много месяцев я заметила, как неопрятна моя сорочка – сплошь в пятнах от пота и грудного молока. Негоже было надевать новое платье поверх грязного исподнего, поэтому сорочку я скинула тоже. Несколько мгновений я стояла на месте, разглядывая свое тело. Тяжкий труд и голодная зима иссушили мягкие формы, оставшиеся после рождения Тома. Сэму нравилось, чтобы я была попышнее. Интересно, а что нравится мистеру Викарсу? Эта мысль взволновала меня, щеки вспыхнули, в горле встал ком. Я взяла в руки зеленое платье. Оно мягко заскользило по голой коже. Впервые за долгое время мое тело словно бы ожило, и я прекрасно сознавала, что дело не только в платье. Когда я сделала шаг, юбка качнулась, и мне вдруг тоже захотелось двигаться, танцевать, как в девичестве.
Мистер Викарс стоял ко мне спиной, согревая руки у очага. Заслышав на лестнице мои шаги, он обернулся и ахнул, лицо его расплылось в довольной улыбке. Я закружилась на месте, и юбка красиво всколыхнулась. Он захлопал в ладоши, затем развел руки в стороны.
– Госпожа, я готов сшить вам дюжину подобных платьев, так они подчеркивают вашу красоту! – игриво воскликнул он, а потом вдруг голос его сделался низким и хрипловатым. – Как я мечтаю, чтобы вы сочли меня достойным заботиться о вас во всех ваших нуждах…
Он пересек комнату, обхватил меня за талию, нежно притянул к себе и поцеловал. Не берусь сказать, чем бы все закончилось, не окажись его губы столь горячими, что я невольно отпрянула.
– Да у вас жар! – воскликнула я, по-матерински кладя ладонь ему на лоб. Теперь уже, на беду или на счастье, случай был упущен.
– Вы правы. – Он отпустил меня и снова потер виски. – Весь день я чувствовал приметы зарождающейся лихорадки, и вот кожа моя горит, голова раскалывается, а кости гложет нестерпимая боль.
– Отправляйтесь в постель, – мягко сказала я. – Я дам вам отвар против жара, а обо всем прочем потолкуем завтра, когда оправитесь.
Не знаю, хорошо ли спалось мистеру Викарсу в ту ночь, но мне было не до сна – мешал клубок мыслей и пробужденных чувств, которым я была лишь отчасти рада. Я долго лежала в темноте и слушала тихое, звериное сопение моих малышей. Закрыв глаза, я воображала прикосновение мистера Викарса – как его руки нежно ложатся мне на талию, обхватывают ее покрепче. Я была подобна человеку, который весь день не вспоминал о еде, пока аромат чужого жаркого не пробудил в нем волчий аппетит. Впотьмах я нашарила крохотный, словно бутон, кулачок Тома, и хотя мне милы были прикосновения ручек моих сыновей, тело мое жаждало других прикосновений – грубых и настойчивых.
Наутро я встала до петухов, чтобы управиться с домашними делами, прежде чем мистер Викарс спустится с чердака. Мне не хотелось видеться с ним, не изучив сперва своих желаний. Когда я уходила, дети спали дремотным комком: малютка Том свернулся, будто орешек в скорлупе, а Джейми лежал поперек кровати, раскинув тонкие ручки в стороны. Они так сладко пахли, окутанные ночным теплом. Их головы в тонком светлом пушке, как у их отца, сияли в полумраке. Эти светлые кудряшки были полной противоположностью моим густым темным волосам, однако лицом – насколько можно судить по еще не оформившимся чертам – они, по всеобщему мнению, больше походили на меня. Уткнувшись носом детям в шеи, я вдыхала их дрожжеватый запах. Господь предостерегает, чтобы мы не любили ни одно земное создание сильнее, чем его, и все же в материнское сердце он вкладывает столь пылкую привязанность к ребенку, что я никогда не постигну, как он может так нас испытывать.
Спустившись, я раздула угли и сложила в очаге дрова, затем натаскала воды на весь день и повесила над огнем большой чайник. Налив в лохань воды, чтобы умыться, когда развеется колодезный холод, я принялась драить мощенные песчаником полы. А затем, пока пол сох, я поплотнее закуталась в теплый платок, взяла миску бульона и ломоть хлеба и вышла в светлеющий сад – наблюдать, как на востоке розовеет горизонт, а с двух ручьев, окаймляющих деревню, поднимается туман. С нашего холма открывается дивный вид, а в то утро воздух был напитан глинистым запахом лета. Идеальное утро, чтобы обдумывать новые начинания, и, наблюдая за чеканом, несущим в клюве червяка на корм птенцам, я задалась вопросом, не пора ли и мне найти кого-то, кто помог бы растить моих деток.
Сэм оставил мне дом и овчарню, но его жилу застолбили в тот же день, когда принесли его тело. Я сразу объявила его товарищам, что нет нужды делать новые зарубки на вороте[7]7
Ворот – механизм для подъема руды, который устанавливается над стволом шахты. К валу ворота прикреплен подъемный канат с бадьей на конце; вал приводят во вращение при помощи рукояток.
[Закрыть] – будь то через три недели, через шесть или девять, потому что сама я не сумею восстановить рухнувшую крепь, а нанимать для этого рабочих мне не по карману. Выработка досталась Джонасу Хоу. Джонас, добрый малый и друг Сэма, корит себя за то, что якобы меня обманул, – ума не приложу отчего, ведь испокон веков у нас тут действует один закон: кто не добудет блюда свинца до третьей зарубки, лишится своего отвода. Он пообещал, что обучит моих мальчиков горному делу наравне со своими, когда подрастут. Я поблагодарила его, но, сказать по правде, я не желала для своих сыновей этой подземной жизни – вгрызаться в камень, вечно боясь воды, огня и обвала. То ли дело работа портного – в это ремесло я бы охотно их отдала. Что до самого мистера Викарса, это был человек достойный и умный. Его общество было мне в радость. Его объятья – приятны. За Сэма я пошла, прельстившись куда меньшим. С другой стороны, мне было уже не пятнадцать и я не питала более радужных надежд.
Подкрепившись, я поискала в кустах яйца на завтрак Джейми и мистеру Викарсу. Мои куры неуправляемы и несут где угодно, только не в курятнике. Я замесила тесто для хлеба, накрыла его и оставила подходить у огня. Отложив все прочие дела до обеда, я поднялась наверх и дала Тому грудь, чтобы к приходу Джейн Мартин он был уже накормлен. Как я и надеялась, когда я взяла Тома на руки, он даже не шелохнулся, лишь смерил меня долгим взглядом и, довольно зажмурившись, принялся сосать.
Благодаря столь раннему подъему к дому священника я пришла задолго до семи, но Элинор Момпельон уже трудилась в саду, а рядом высилась гора отрезанных ветвей. В отличие от большинства дам, миссис Момпельон не гнушалась пачкать руки. Особенно она любила ухаживать за растениями, и нередко лицо у нее было грязным, как у поденщицы, оттого что, копая и пропалывая, она то и дело поправляла упавшие на лоб прядки волос.
В свои двадцать пять лет Элинор Момпельон обладала хрупкой, детской красотой. Она вся была перламутрово-бледная, с облаком тонких белокурых волос и кожей настолько прозрачной, что видны были подрагивающие вены у висков. Даже глаза у нее были бледные, блекло-голубые, цвета зимнего неба. В нашу первую встречу она напомнила мне опушенный одуванчик, такой легкий и воздушный, что не выдержит первого же дуновения ветра. Но тогда я еще не знала ее. Хилая телом, она была натурой увлекающейся, с острым умом и неистощимой энергией, толкающей к действию. Казалось, ее душу поместили не в то тело, ибо она постоянно брала на себя изматывающие, а то и непосильные задачи и из-за этого часто хворала. Было в ней нечто такое, что не могло, не желало видеть различий между сильными и слабыми, мужчинами и женщинами, господами и слугами, – различий, которые проводил остальной мир.
В воздухе разливался аромат лаванды. Умелые руки миссис Момпельон каждый день словно бы одевали сад в новые цвета и узоры: туманная голубизна незабудок таяла в насыщенной синеве шпорника, а тот растворялся в розовых россыпях просвирника. Под окнами она расставляла вазы с гвоздиками и ветвями жасмина, чтобы сладкие запахи наполняли весь дом. Она называла этот сад своим маленьким Эдемом, и, судя по тому, как пышно там цвели самые разные цветы – даже те, что обыкновенно не переносят суровые зимы на горном склоне, – Господь против такого сравнения не возражал.
В то утро она стояла на коленях, обрывая отцветшие ромашки.
– Здравствуй, Анна, – сказала она, завидев меня. – А знаешь ли ты, что отвар из этих невзрачных цветков снимает жар? Тебе, как матери, не помешает быть сведущей в целебных травах – может статься, когда-нибудь от этого будет зависеть благополучие твоих детей.
Миссис Момпельон никогда не упускала случая чему-нибудь меня научить, и обычно я слушала ее с большой охотой. Обнаружив во мне неутолимую жажду знаний, она принялась подпитывать меня разными сведениями с таким же рвением, с каким удобряла свои ненаглядные клумбы.
Я с готовностью принимала все, что она давала мне. Я всегда любила высокий язык. В детстве для меня не было большей радости, чем ходить в церковь, – не из праведности, а чтобы послушать дивные звуки молитв. «Агнец Божий», «Муж скорбей», «И Слово стало плотию». Я растворялась в мелодике этих фраз. И хотя тогдашний наш настоятель, старый пуританин Стэнли, отвергал литании святым и идолопоклоннические молитвы папистов пресвятой Деве Марии, я цеплялась за каждую фразу, которую он осуждал. «Лилия долин», «Роза таинственная», «Звезда морская». «Се, раба Господня; да будет Мне по слову Твоему». Обнаружив, что мне под силу запоминать целые отрывки богослужений, каждое воскресенье я пополняла свои запасы слов, точно фермер, складывающий сено в стога. Подчас, если удавалось ускользнуть от мачехи, я задерживалась на церковном кладбище и срисовывала очертания букв, выгравированных на надгробиях. Я знала, кто покоится в некоторых могилах, и могла соотнести звучание имен с надписями на плитах. Вместо грифеля я использовала палку с заостренным концом, а вместо аспидной доски – клочок разровненной земли.
Как-то раз отец застукал меня за этим занятием, когда вез телегу дров в пасторский дом. При виде него я вздрогнула, палка хрустнула у меня в пальцах, в ладонь впилась заноза. Джосая Бонт не любил тратить слов, разве что на проклятья. Глупо было ожидать, что он поймет мое желание овладеть столь бесполезным, с его точки зрения, навыком. Я уже упоминала, что он любил выпивку. Следует добавить, что выпивка не отвечала ему взаимностью, превращая его в угрюмое, опасное существо. Я со страхом ждала, когда на меня обрушится его кулак. Он был крупным человеком и на тумаки не скупился, даже по пустякам. Однако он не стал бить меня за отлынивание от домашних дел, а лишь взглянул на кривые буквы – результат моих трудов, – поскреб грязной пятерней щетинистый подбородок и пошел по своим делам.
И только на другой день, когда соседские дети стали меня дразнить, я поняла, что отец хвастался моими успехами в «Горняцком дворике» и даже посетовал, что не имеет средств отдать меня в школу. Пустые слова, за которые не придется отвечать, ведь в таких деревнях, как наша, даже для мальчиков не было школ. И все же мне было приятно, и чужие насмешки уже не могли меня задеть. Никогда прежде я не слышала от отца похвалы, а потому, узнав, что он считает меня способной, я и сама начала в это верить. С тех пор я уже не скрытничала и зачастую во время работы, желая усладить свой слух, бормотала отрывки псалмов или фразы из воскресной проповеди – так ненароком я прослыла самой набожной девушкой в деревне. Именно благодаря этой незаслуженной репутации меня и взяли в пасторский дом, где для меня открылись двери к настоящим знаниям.
Всего за год Элинор Момпельон так славно обучила меня грамоте, что, пусть почерк мой оставался непригож и не всегда разборчив, зато я почти без труда читала из любой книги в ее библиотеке. Обыкновенно она заходила к нам после обеда, когда Том уже спал, и, задав мне какой-нибудь урок, отправлялась к другим жителям деревни. Завершив свой обход, она вновь заглядывала ко мне – посмотреть, как я справилась с заданием, и помочь с трудными местами. Иной раз я прерывалась на полуслове и начинала смеяться от удовольствия. Она смеялась вместе со мной, ибо как я любила учиться, так и она любила учить.
Иногда к моему удовольствию примешивалось чувство вины: я знала, что не получала бы столько внимания, если бы ей удалось зачать. Когда они с Майклом Момпельоном приехали в нашу деревню – юные, только из-под венца, – мы все затаили дыхание. Шли месяцы, сменялись времена года, а талия миссис Момпельон оставалась тонкой, как у девочки. От неприютности ее чрева была польза всему приходу: Элинор нянчила детей, обделенных заботой в тесноте многолюдных домов, принимала участие в одаренных юношах, нуждавшихся в покровительстве, наставляла сомневающихся и навещала больных – словом, стала незаменима для всех и каждого.
Но обо всяких снадобьях слушать я не желала: одно дело жене священника быть осведомленной в таких вещах, и совсем другое – бедной вдове вроде меня. В глазах толпы вдова может вмиг превратиться в ведьму, и первое, что вменят ей в вину, – это интерес к врачеванию. У нас в деревне такое уже случалось, когда я была маленькой: в колдовстве обвинили Мем Гоуди, умную женщину, к которой все ходили за отварами, припарками и когда нужна была помощь при родах. Год выдался суровый, неурожайный, и у многих женщин случались выкидыши. После того как одна роженица произвела на свет мертвых близнецов, сросшихся грудиной, стали говаривать о происках дьявола; подозрение тотчас пало на вдову Гоуди, и ее объявили ведьмой. Наш тогдашний священник, пуританин Стэнли, взялся проверить эти обвинения самолично и увел ее в поле. Не знаю, каким он подвергал ее испытаниям, но после долгих часов суда мистер Стэнли объявил, что ни в каких злодеяниях она не повинна, и жестоко упрекнул всех, кто на нее наговаривал. Но у него и для Мем была припасена строгая отповедь – за то, что врачевала людей вопреки Божьей воле своими отварами, мешочками с травами и настоями. Пастор верил, что все недуги ниспосланы Богом, чтобы испытать и покарать тех, кого он потом спасет. Избегая болезней, мы упустим уроки, которые приготовил для нас Господь, ценой куда более страшных мучений после смерти.
Теперь никто не посмел бы сказать и слова против старухи Мем, однако некоторые косо поглядывали на ее молодую племянницу Энис, которая жила при ней, помогала ей принимать роды, выращивать и сушить травы и приготовлять снадобья. Невзлюбила ее и моя мачеха. В неразвитом уме Эфры уживалось множество суеверий, и она с равной охотой верила в небесные знамения, обереги и приворотные зелья. К Энис она относилась со смесью страха и благоговения – а может, и не без зависти. Однажды, когда я была у мачехи в гостях, Энис принесла ей мазь против воспаления глаз, которым страдали в ту пору все малыши. Каково же было мое удивление, когда Эфра незаметно сунула ножницы, раскрытые крестом, в складки подстилки на стуле, куда намеревалась усадить гостью. Когда Энис ушла, я упрекнула ее. Но Эфра лишь отмахнулась, а затем показала мне «куриного бога», спрятанного в детской постели, и пузырек с солью, заткнутый за дверной косяк.
– Что ни говори, а не пристало бедной сироте расхаживать с видом королевы, – заявила моя мачеха. – Эта девица так себя ведет, будто знает больше нашего.
Но ведь так оно и есть, отвечала я. Разве она не смыслит во врачевании и разве все мы от этого не выигрываем? Разве она не принесла сейчас мазь для детей, что снимет боль куда быстрее, чем любые наши средства? Эфра скривилась:








