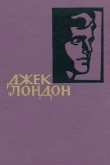Текст книги "Мартин Иден. Рассказы"
Автор книги: Джек Лондон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Большое место в романе занимает проблема нового человека, идущего на смену людям, чьи души искалечены миром собственнических отношений. Черты нового человека, предвестника тех, кому должно принадлежать будущее, заметны в Мартине. В его таланте заключено новое восприятие мира. Мартин рожден и воспитан трудовым народом, «четвертым сословием», он несет в себе его одаренность, его мораль, его понимание действительности. Проблема формирования новой интеллигенции, выходящей из рабочего класса и готовой отдать ему свои силы, воплощена пе только в Мартине, но – и, быть может, не с меньшей силой – в образе Лиззи Конолли.
Как расцветает ее душа, как быстро зреет ее живой и энергичный разум под влиянием знаний, доступ к которым ей помог получить Мартин! Может быть, она стала на этот путь, чтобы не быть ниже Мартина, которого она навсегда и самоотверженно полюбила, но в конце романа она уже настолько самостоятельна, личность ее настолько развилась, что она чувствует себя сильнее Мартина, говорит с ним, как нежный и заботливый друг. Нельзя не сравнить ее с образами женщин из народа, выведенными в романах Драйзера «Сестра Керри» и «Дженни Герхардт»: в обоих этих романах судьбы женщин ограничены рамками и возможностями буржуазного общества. Лиззи Конолли – предвестница того нового типа американской женщины, который сложился в борьбе американского рабочего класса за свои права, тип сознательной дочери американского пролетариата.
Кризис, губящий молодого, полного сил писателя, тоже заслуживает того, чтобы читатель задумался над его причинами. Конечно, судьба Мартина – прежде всего яркое доказательство того, насколько враждебно подлинному искусству буржуазное общество. Мартину, писателю, вышедшему из рабочего класса, нечем дышать в мире Морзов и Бэтлеров, даже если они вынуждены признать его талант. Они умеют поработить и подчинить своим вкусам талантливого, хотя и чуждого им художника. Буржуазное общество сначала отравило талант Мартина, а затем привело его к смерти. Мысль о страшной судьбе подлинного художника в буржуазном мире настойчиво преследовала Лондона, это была мысль о своей собственной судьбе, пророческая мысль о судьбах многих других талантливых писателей XX века – в том числе и американских. Сколько таких судеб видели мы уже после смерти Лондона!
Но есть и другая причина гибели Мартина. Она кроется в том, что Мартин утратил пути к народу – туда, откуда он вышел и где лежат корни, питающие его талант и характер. Он потерял свою среду[2]2
О значении народа для формирования личности интеллигента Лондон пишет и в рассказе «По ту сторону рва», который является как бы вариантом основной темы «Мартина Идена». Герой этого рассказа – молодой буржуазный ученый – социолог – навсегда бросает свою среду и карьеру, переходит на сторону рабочих, с которыми он сроднился, изучая их повседневную жизнь.
[Закрыть]. Кроме того, Лондон прямо говорит о необратимом отравляющем воздействии, которое оказали на еще неопытный ум Мартина различные декадентские теории. Особенно сильным и губительным было воздействие ницшеанских идей: они воспитали болезненный индивидуализм Мартина, от которого он уже не в силах освободиться, хотя и чувствует всю порочность и ложность идей Ницше. Эта ситуация лишний раз напоминает об известной автобиографичности романа: комплекс ницшеанских идей остался не преодоленным до конца и для Лондона, хотя Лондон сам писал о том, что «Мартин Идеи» и «Морской волк» – книги, направленные против ницшеанства.
Эстетические идеи писателя Мартина Идена безмерно выше уровня буржуазного искусства. Когда Мартин чувствует, что он должен приноравливаться к этому жалкому уровню, он видит в этом измену своим заветным мечтам, своим представлениям о подлинном искусстве, которое должно служить «Приключению с большой буквы» – прославлению подлинных подвигов. Только о них хотел писать Мартин.
Вероятно, именно в этом романе Лондон ближе всего подошел к тому идеалу искусства, который он видел в творчестве М. Горького. Еще в 1901 году, в пору своего мужественного движения вперед, в пору овладения писательским мастерством, он писал в своей рецензии на американское издание романа «Фома Гордеев»: «Его реализм (Лондон говорит о Горьком. – Р. С.) более действен, чем реализм Толстого или Тургенева. Его реализм живет и дышит в таком страстном порыве, какого они редко достигают. Мантия с их плеч упала на его молодые плечи, и он обещает носить ее с истинным величием…»
«Он, – заключает Лондон свою статью о Горьком, – знает жизнь и знает, как и для чего следует жить».
Так говорил американский революционный писатель начала XX века об основоположнике социалистического реализма. Он верно почувствовал в его искусстве черты «нового реализма», как определил Лондон творческий метод Горького.
Лондон стремился к тому новому, действенному искусству, которое учило, «как и для чего следует жить», и в романе «Мартин Иден» достиг многого.
Характерной чертой того искусства, за которое боролся Лондон и его герой в романе «Мартин Иден», наряду с острым критическим изображением буржуазного общества, наряду с беспощадным анализом переживаний героев романа, является и ясно выраженная романтическая тенденция. Эта тенденция свойственна и эстетике Лондона в целом.
В конспекте своих лекций о русской литературе, читанных в начале XX века на острове Капри, Горький писал о «социальном романтизме» как о важном направлении в литературах конца XIX – начала XX века.
Действительно, критика капитализма, с новой силой вспыхнувшая в мировой литературе вместе с переходом капитализма в его последнюю стадию – в стадию империализма, – дала импульс для волны романтических настроений, характерных для многих писателей этого времени. Литературная критика конца столетия – начала XX века охотно говорила о явлениях «неоромантизма», то есть нового романтизма в творчестве писателей-современников. При этом в число «неоромантиков», противостоявших душным и бесчеловечным будням позднего капитализма, заносили писателей очень различных – и Кнута Гамсуна с его сильным человеком, вернувшимся к общению с природой, и болезненно хрупкого Гофмансталя, артиста и сноба до кончиков ногтей, убегавшего от венской бюргерской пошлости в мир утонченных эстеских переживаний, и поэта строителей Британской империи Редьярда Киплинга с его пафосом отречения от личности во имя солдатского долга и во имя служения идее британской мировой империи.
Но была и другая линия «нового романтизма», звавшая к борьбе против буржуазного мира под знаменами революции, во имя создания действительно нового общества, в котором человек станет действительно свободным. Революционная романтика звала к себе все большее количество активных натур, и, видимо, эти настроения Горький объединял под понятием «социального романтизма».
Героический идеал многих произведений Лондона, образ смелого, чистого духом, бескорыстного человека, способного умереть «за други своя», – это идеал, несущий в себе черты социального романтизма. Сильнее всего он выражен в образе Эвергарда – героя «Железной пяты», вождя революционных рабочих. Идеи революционного социального романтизма вспыхнут и в повести «Мексиканец», в образе худого смуглого юноши, героически помогающего делу мексиканской революции. Есть они и в «Мартине Идене» – в образе Лиззи Конолли, в образе самого Мартина, в том, что рассказывает Лондон об эстетике писателя Идена, мечтавшего воспеть нечто необычное, «Приключение с большой буквы» – подвиг.
Позже, в романах 1910-х годов, в творчестве Лондона возобладают другие стороны неоромантической поэтики – идиллическое изображение природы, под сень которой спешат укрыться его уставшие от классовых битв герои, даже мистические представления о сильных и смелых душах, над которыми не властны тупые и жестокие законы «реального», то есть буржуазного мира («Звездный скиталец»). Но и герой романа «Мартин Иден», и сам автор стремятся к романтике действия.
В страшном и жестоком финале романа есть своя логика. Финал книги говорит о том, что Лондон, несмотря на сильнейшие романтические тенденции, не был писателем-романтиком исключительно. В его творческом методе, как почти у всех больших художников, – и об этом Горький тоже говорил, – романтический метод был переплетен с реалистическим, дополнял и обогащал его. И в целом роман «Мартин Иден», конечно, произведение глубоко реалистическое, как реалистичен рассказ об участи одинокого писателя, не выстоявшего в тяжелой борьбе с враждебным ему социальным строем именно потому, что он оказался одинок. Романтическая победа одинокого художника над обществом выглядела бы красивой неправдой. Ведь и судьба самого Лондона складывалась трагически.
Соединение элементов романтизма и критического реализма в той или иной пропорции характерно – но с преобладанием реализма – и для рассказов Лондона. К тому времени, когда Лондон выдвинулся в области этого жанра, рассказ уже был одним из самых распространенных жанров американской прозы. Уже существовала традиция американской новеллы, представленная В. Ирвингом, Брет-Гартом, М. Твеном, О. Генри, С. Крейном и другими, менее значительными мастерами.
Но и на этом богатом фоне произведения Лондона быстро заняли свое, только им принадлежащее место, породили подражания и попытки конкурировать с ними, определили тип американского приключенческого рассказа. Стремительность действия, яркость характеров, свежие жизненные подробности, почерпнутые из огромного опыта, накопленного писателем, энергичный и выразительный стиль, богатый зрительными образами и меткими, точными эпитетами, привлекал к рассказам Лондона и массового читателя, которому были понятны и интересны его «истории», и знатоков литературы. Последние не могли не оценить и новизну материала, и своеобразие изложения, поэтичность Лондона, умевшего найти художественный эффект в самом, казалось бы, обычном предмете – в описании упряжки собак или хижины золотоискателен. К этому надо добавить богатство северных пейзажей, открытых Лондоном, картины природы, к которой писатель был так чуток.
Из неисчерпаемого богатства рассказов Лондона мы могли для настоящею издания выбрать сравнительно немногое. Мы постарались дать представление о мире, открывающемся в северных рассказах Лондона. Тема величия человеческого характера, выдерживающего жесточайшие испытания, не может не увлечь тех, кто в наши дни воздвигает города в полярной тундре, покоряет гигантские реки, оживляет пустыни, борется с морозом и ветрами, охраняющими заветные, некогда дикие углы нашей земли. Правда, именно в северных рассказах в свое время сказались заблуждения Лондона, весьма увлеченного идеями Г. Спенсера, делившего народы на «жизнеспособные» и «нежизнеспособные», якобы обреченные на подчинение и вымирание. Отголоски этой реакционной теории ясно видны даже в таких известных рассказах, как «Сын Волка», где индейцы – «дети Ворона» – должны повиноваться «Сыну Волка», белому человеку, будто в силу закона природы. Но эти заблуждения Лондона перечеркнуты такими рассказами, полными веры в духовные силы и благородство индейцев, как «Лига стариков» или «Сивашка».
О величии старого индейца, о его мудрости и мужестве перед лицом смерти говорит и небольшой рассказ «Закон жизни». Северный эпос Лондона жив и сейчас, ибо герои лучших его произведений оказываются братьями в минуту беды, верными друзьями в час подвига, делят честно и последнюю корку, и смерть, которую они умеют встретить бестрепетно. Они проявляют ту победительную энергию, которой дышит рассказ «Любовь к жизни», так понравившийся В. И. Ленину. Мужество героев северных рассказов Лондона уходит своими корнями в народные представления о человеческом достоинстве, в народную этику.
Другой мир открывается в экзотических южных рассказах Лондона, на счастливых Гавайях и на других архипелагах Тихого океана, жизнь которых была совсем недавно открыта в европейской литературе
XIX века. Столь же ярко, как и угрюмые пейзажи Клондайка, изобразил писатель очарование и богатство островной природы, просторы южных морей, по которым он сам водил свой «Снарк», заботливо собирая впечатления от этих чудесных островов и предания об их прошлом. Хотя и в тихоокеанских рассказах Лондона, как и в северных его рассказах, встречаются мотивы противопоставления деловитого белого человека – отсталому, погрязшему в патриархальной старине «туземцу», но и здесь преобладает подлинный человеческий интерес к необыкновенным формам жизни, к своеобразным характерам, с которыми столкнулся Лондон на островах. Рассказ «Страшные Соломоновы острова» и, особенно, «Кулау-прокаженный» полны фактов, впервые подмеченных Лондоном, свидетельствуют о его уменье оценить по существу и трагедию народов Тихого океана, истребляемых бизнесом, водкой, болезнями и оружием белого человека, и разбойничий характер политики США и других империалистических держав на Тихом океане. О жестокости и подлости белых авантюристов, об их бесчеловечности говорит рассказ «Под палубным тентом». Интернационализм Лондона, который был все же сильнее его предрассудков и помогал ему создавать такие произведения, проникнутые духом братства народов, как рассказ «Ало-ха-Оэ», сказывается в той искренней любви и восхищении, с которыми он описывает жизнь коренных обитателей тихоокеанских архипелагов. Он отдает должное их мужественным попыткам сопротивляться нашествию белых захватчиков, которые несут с собой гибель, разрушение и смерть на острова южных морей, так же как и на далекий Север. Из этих двух групп рассказов Лондона встает правдивая картина захвата и грабежа, побеждавшего всюду, где хозяйничал империализм янки в любых его формах – в виде ли компаний, разрабатывавших недра Аляски, или в виде колонизаторов, превращавших сказочный мир Гавайских островов в базы для военно-морского флота.
В рассказах Лондона так или иначе звучат социальные мотивы. Но есть группа его рассказов, где они решительно преобладают, где Лондон, изображая не северные окраины и не южные пределы, а обычную американскую действительность, выступает как ее достоверный наблюдатель, зорко ведущий счет несправедливостям и низостям, творимым американским буржуа у себя дома. Таков рассказ «Отступник». Лондон остается верен друзьям детства и юности и в те годы, когда он – преуспевающий американский писатель – создает свои поздние произведения на калифорнийском ранчо. К числу рассказов, обращенных к былым друзьям Лондона по годам странствий и тяжкого труда, относится и рассказ о настоящем моряке «Крисе Фаррингтоне», один из лучших рассказов Лондона о простых людях.
Яркий образец лирической прозы Лондона, его эссеистического мастерства – этюд «О себе». Он вбирает в себя очень богатый автобиографический материал и раскрывает стилистическое многообразие прозы Лондона. Опыт Лондона – мастера в жанре рассказа – навсегда останется для мировой литературы наследием, которое не только радует и будет радовать еще многие поколения читателей, но и будет изучаться теми, кто хочет овладеть искусством напряженного, захватывающего, яркого повествования, увлекающего высокими и сильными чувствами, деятельным и бодрым восприятием жизни.
При всем том, что Лондону-романисту и Лондону – автору рассказов и повестей свойственны общие особенности творческого метода, своеобразие жанра накладывает очень сильный отпечаток на его мастерство. Сюжетам рассказов Лондона присуща стремительность, усугубленная лаконичностью изложения и особым интересом автора к острым драматическим ситуациям. В противоположность этому в романах Лондона – может быть, за исключением романа «Сердца трех» – нельзя усмотреть столь усиленной заботы о сюжете и его развитии. Скорее романы имеют тенденцию распадаться на отдельные новеллы – как это видно особенно из романа «Звездный скиталец». В рассказах Лондона характеры раскрываются в одной-двух ситуациях, и чаще всего толчком для раскрытия служит острая сюжетная коллизия. Наоборот, в романах характеры действующих лиц раскрываются постепенно, в них чувствуется интерес к самому процессу анализа.
Очень важно заметить значение природы, пейзажа в рассказах Лондона. Выдающийся художник природы, замечательный мастер словесного пейзажа, Лондон в своих рассказах всегда придает пейзажу некий активный характер: пейзаж становится у него как бы действующим лицом, он не просто фон, он используется для портрета действующих лиц как возможность раскрыть мужество северных героев, первобытную непосредственность и силу людей с островов Тихого океана. Надо всеми пейзажами рассказов Лондона господствуют величественные образы моря – Лондон был одним из крупных маринистов среди писателей XX века – и образ безлюдной снеговой пустыни, образ «Белого безмолвия», зачаровавший его во время его собственной «Северной Одиссеи».
Лучшие рассказы Лондона учат писателей великой экономности средств, искусству отбора их, искусству сконцентрированного изложения и многообразного эмоционального воздействия на читателей самых разных возрастов и вкусов. Кто устоит перед прелестью этих набросков, полных красками, звуками, запахом жизни, полных действием, которое никогда не оставит нас равнодушными к тому, о чем говорит писатель.
Мы поместили в нашем однотомнике и статью Д. Лондона о романе Горького «Фома Гордеев» – этот образец публицистики Лондона, поместили не только потому, что в ней видно мастерство Лондона в этом жанре, но и потому, что статья звучит как манифест большого писателя, чье творчество отразило наступление новой эры в истории мирового искусства, в истории человечества,
Р. САМАРИН
Мартин Иден
Глава 1
Он отпер дверь своим ключом и вошел, а следом, в смущении сдернув кепку, шагнул молодой парень. Что-то в его грубой одежде сразу же выдавало моряка, и в просторном холле, где они оказались, он был явно не к месту. Он не знал, куда девать кепку, стал было засовывать ее в карман пиджака, но тот, другой, отобрал ее. Отобрал спокойно, естественно, и парень, которому тут, видно, было не по себе, в душе поблагодарил его. «Понимает, – подумал он. – Поможет, все обойдется».
Парень враскачку шел за тем, другим, невольно расставляя ноги, словно этот ровный пол то, кренясь, взмывал на волне, то ухал вниз. Шел вперевалку, и большие комнаты становились тесными, и страх его брал, как бы не задеть широкими плечами дверной косяк, не скинуть какую-нибудь дорогую вещицу с низкой каминной полки. Он шарахался то вправо, то влево и лишь умножал опасности, что мерещились ему на каждом шагу. Между роялем и столом посреди комнаты, на котором громоздились книги, могли бы пройти шестеро в ряд, он же пробирался с опаской. Могучие ручищи болтались по бокам. Он не знал, куда их девать, вдруг в страхе отпрянул, точно испуганная лошадь, – вообразил, будто сейчас свалит груду книг на столе, и едва не наскочил на вращающийся табурет перед роялем. Он приметил, какая непринужденная походка у того, впереди, и впервые осознал, что сам ходит совсем не как все прочие люди. И на миг устыдился своей неуклюжести. На лбу выступили капельки пота, он остановился, отер загорелое лицо платком.
– Обождите, Артур, дружище, – сказал он, пытаясь прикрыть тревогу шутливым тоном. – У меня аж голова кругом пошла. Надо ж мне набраться храбрости. Сами знаете, не желал я идти, да и вашему семейству, смекаю, не больно я нужен.
– Ничего-ничего, – ободряюще сказал Артур. – Незачем нас бояться. Мы самые обыкновенные люди. Э, да мне письмо!
Он отошел к столу, вскрыл конверт и принялся читать, давая гостю опомниться. И гость понял и в душе поблагодарил хозяина. Был у него дар понимания, проникновения; и хотя чувствовалось, что ему сейчас отчаянно не по себе, дар этот ни на минуту не изменил ему. Он опять вытер лоб, осмотрелся, и теперь лицо уже было спокойно, только взгляд настороженный, словно у дикого зверя, когда он чует ловушку. Оказавшись в незнакомом окружении, со страхом думая, что же будет дальше, он не понимал как себя здесь вести, ощущал, что ходит и держится неуклюже, боялся, что каждое его движение, и сама его сила отдает все той же неуклюжестью. Был он на редкость чуток, безмерно застенчив, и затаенная усмешка во взгляде Артура, брошенном поверх письма резанула его как ножом. Он заметил этот взгляд, но виду не подал, ибо в ту науку, которую он превзошел, входило и умение владеть собой. Взгляд, этот ранил его гордость. Он клял себя за то, что пришел и, однако, решил, что, уж раз пришел, будь что будет, отступать он не намерен. Лицо стало жестче, глаза сверкнули воинственно. Все примечая, он спокойнее огляделся по сторонам, и в мозгу отпечаталась каждая мелочь красивого убранства этой комнаты. Ничто не ускользнуло от его зоркого взгляда, широко раскрытые глаза вбирали окружающую красоту, и воинственный блеск в них уступал место теплому сиянию. Он всегда чутко отзывался на красоту, а тут было на что отозваться.
Его внимание приковала картина, писанная маслом. Могучий прибой с грохотом разбивается о выступ скалы, мрачные грозовые тучи затянули небо, а вдали, за линией прибоя, на фоне грозового закатного неба – лоцманский бот в крутом повороте, он накренился, так что видна каждая мелочь на палубе. Была здесь красота, и она влекла неодолимо. Парень позабыл о своей неуклюжей походке, подошел ближе, совсем близко. И красота исчезла. На лице его выразилось замешательство. Он смотрел во все глаза на эту, как ему теперь казалось, неряшливую мазню, потом отступил на шаг. И полотно вновь ослепило красотой. «Картина с фокусом», – подумал он разочарованно, однако среди множества захлестнувших его впечатлений кольнула досада: такую красоту принесли в жертву фокусу. Живопись была ему неведома. Прежде он только и видел олеографии да литографии, а они всегда четки и определенны, стоишь ли рядом или смотришь издали. Правда, в витринах магазинов он видел и картины, писанные маслом, но стекло не давало всмотреться в них поближе.
Он оглянулся на приятеля, читающего письмо, и увидел на столе книги. В глазах тотчас вспыхнула тоскливая зависть и жадность, точно у голодного при виде пищи. Враскачку он двинулся к столу и вот уже любовно перебирает книги. Скользит глазами по названиям, по именам авторов, выхватывает обрывки текста, – ласкает том за томом и руками и взглядом, – но лишь одну книгу он когда-то читал. Остальные книги и писатели незнакомы. Ему попался том Суинберна, и он начал читать подряд, стихотворение за стихотворением, и забыл, где он, и щеки у него разгорелись. Дважды он закрывал книгу и, придерживая страницу пальцем, еще раз смотрел имя автора. Свинберн! Надо запомнить. У этого малого глаза на месте, он все видел как надо – и цвет и сверкающий свет. Кто же такой этот Свинберн? Давным-давно помер, как почти все поэты? Или еще живой, пишет? Он поглядел на титульный лист. Да, у Свинберна есть и другие книги. Что ж, утром первым делом надо сходить в библиотеку, разжиться его книжицами. Парень опять погрузился в чтение и забыл обо всем на свете. Он не заметил, что в комнату вошла молодая женщина. Опомнился, лишь услыхав слова Артура:
– Руфь, это мистер Иден.
Он закрыл книгу, заложил указательным пальцем и, еще прежде чем обернуться, ощутил радостное волнение – не от знакомства с девушкой, но от слов ее бpата. В этом мускулистом парне таилась безмерно ранимая чуткость. Стоило внешнему миру задеть какую-то струну в его сознаний – и все мысли, представления, чувства тотчас вспыхнут, запляшут, точно трепетное пламя. Был он на редкость восприимчив и отзывчив, а живое воображение не знало покоя в беспрестанном поиске подобий и различий. «Мистер Иден» – вот что радостно поразило его, ведь всю жизнь его звали Иден. Мартин Иден или просто Мартин. И вдруг, «мистер»! Это кое-что да значит, отметил он про себя. Память мигом обратилась в громадную камеру-обскуру, и перед его внутренним взором заскользили нескончаемой вереницей картины пережитого – кочегарки и кубрики, стоянки и причалы, тюрьмы и кабаки, тифозные бараки и трущобы, и одновременно раскручивалась нить, воспоминаний – как называли его при всех этих поворотах судьбы.
А потом он обернулся и увидел девушку. И вихрь призрачных картин растаял. Он увидел бледное воздушное создание с облаком золотистых волос и одухотворенным взглядом огромных голубых глаз. Он не заметил, что на ней надето, знал только, что одежда была такая же поразительная, как она сама. Хрупкий золотистый цветок на тоненьком стебле. Нет, дух, божество, богиня – земля не могла породить такую возвышенную красоту. Или, выходит, книги не врут, и в высших сферах и впрямь много таких, как она. Ее вполне мог бы воспеть этот малый Свинберн. Видать, когда писал про ту деву, Изольду из книжки со стола, какая-нибудь такая и была у него на уме. Все это он увидел, почувствовал; подумал в одно мгновенье. А меж тем все шло своим чередом. Девушка протянула руку и, прямо глядя ему в глаза, просто, будто мужчина, обменялась с ним рукопожатием. Женщины, каких он до сих пор встречал, жмут руку по-другому. Да по правде сказать, мало кто из них здоровается за руку. Поток воспоминаний, картин – как он знакомился с женщинами – хлынул, грозя его захлестнуть. Но он отмахнулся от них и смотрел на девушку. Отродясь такой не видал. Ему знакомы совсем другие женщины! И тотчас подле Руфи, по обе стороны, выстроились женщины, которых он знал. Бесконечно долгое мгновенье стоял он посреди какой-то портретной галереи, где царила она, а вокруг расположилось множество женщин, и всех надо было окинуть беглым взглядом и оценить, и непреложной мерой была она. Вот вялые нездоровые лица фабричных работниц и бойкие, ухмыляющиеся девчонки из кварталов к югу от Маркетстрит. Скотницы с ферм и смуглые мексиканки с неизменной сигаретой в углу рта. Их вытеснили японки с кукольными личиками, жеманно переступающие ножками в туфельках на деревянной подошве; евразийки с нежными лицами, отмеченными печатью вырождения; пышнотелые, темнокожие, увенчанные цветами женщины Южных морей. А потом всех заслонила нелепая чудовищная толпа – неряхи и распустехи, слоняющиеся на панелях Уайтчепеля, опухшие от джина ведьмы из гнусных притонов и все непристойные, сквернословящие исчадия ада, гарпии в ужасающем женском обличье, которые охотятся на матросов, портовая грязь и нечисть, распоследние отребья и отбросы человечества.
– Присядьте, мистер Иден, – говорила меж тем девушка. – Я давно хотела с вами познакомиться, с тех самых пор, как Артур нам рассказал. Вы поступили так мужественно…
Он протестующе махнул рукой, пробормотал, мол, чего он такого особенного сделал, всяк на его месте поступил бы так же. Она заметила, что рука, которой он махнул, покрыта свежими подживающими ссадинами, взглянула на другую, опущенную руку – то же самое. Кинула и еще быстрый оценивающий взгляд, заметила на щеке шрам, другой виднеется из-под волос на лбу, и еще один уходит под крахмальный воротничок. Она подавила улыбку, заметив красную полосу на бронзовой шее – натерло воротничком. Не привык, видно, к жестким воротничкам. Своим женским глазом увидела она и его костюм – дешевый, неизящный крой, на плечах морщит и на рукавах тоже – выпирают бицепсы.
Отмахиваясь и бормоча, мол, ничего такого он не сделал, он подчинился ей, решил, надо где-то сесть. Успел восхититься непринужденностью, с какой села она, и направился к креслу напротив, подавленный сознанием собственной неуклюжести. Ощущение это было ему внове. Всю жизнь, вплоть до сегодняшнего дня, он и знать не знал ловкий он или неуклюжий. Ни о чем таком он никогда не задумывался. Он опасливо сел на краешек кресла, мучительно гадая, куда девать руки. Как ни положи, все они не на месте. Артур пошел к двери, и Мартин Иден проводил его тоскующими глазами. Один на один в комнате с этим бледным неземным созданием он совсем растерялся. Ни тебе бармена – заказать выпивку, ни какого ни то мальчонки – послать за угол за банкой пива, и таким вот приятным образом свести знакомство.
– У вас шрам на шее, мистер Иден, – заговорила девушка.
– Как это случилось? Наверно, вы пережили какое-нибудь приключение.
– Один мексиканец полоснул, – ответил он, облизнул запекшиеся губы и прокашлялся. – Драка у нас была. Нож-то я у его выдернул, а он чуть не откусил мне нос.
Сказал он скупо, а перед глазами возникло красочное видение – знойная звездная ночь в Салина-Крус, белая полоса песчаного берега, огни грузовых пароходов а гавани, приглушенные расстоянием голоса пьяных матросов, толпятся портовые грузчики, разъяренное лицо мексиканца, звериный блеск глаз при свете звезд, и сталь впивается в шею, фонтан крови. Толпа, крики, два сцепившихся в схватке тела, его и мексиканца, перекатываются опять и опять, взрывают песок, а откуда-то издали томный звон гитары. Все это встало перед глазами, и трепет воспоминания охватил его – интересно, как бы все это получилось у того парня, который нарисовал шхуну там на стене. Белый берег, звезды, огни грузовых пароходов – вот бы здорово, а в середке, на песке, темная гурьба зевак вокруг дерущихся. И чтоб нож как следует виден, блестит в свете звезд. Но всего этого было не угадать по его скупым словам.
– Мексиканец чуть не откусил мне нос, – только и сказал он в заключение.
– О-о! – выдохнула Руфь чуть слышно будто издалека, и на ее чутком личике выразился ужас.
Тут и его опалило жаром, сквозь загар на щеках слегка проступила краска смущения, ему же показалось, будто щеки жжет, как перед открытой топкой в кочегарке. Видать, не положено говорить с порядочной девушкой об эдаких подлостях, о поножовщине. В книгах люди вроде нее про такое не говорят, а может, ничего такого и не знают.
Оба молчали, разговор, едва начавшись, чуть не оборвался. Потом она сделала еще одну попытку, спросила про шрам на щеке. И еще не договорила, а он уже сообразил, что она старается говорить на понятном ему языке, и положил, наоборот, разговаривать на языке, понятном ей.
– Случай такой взошел, – сказал он, потрогав щеку. – Ночью дело было, вдруг заштормило, сорвало гик, потом тали, гик проволочный, хлещет по чему попало, извивается будто змея. Вся вахта старается изловить, я кинулся, ну и схлопотал.
– О-о! – произнесла она на сей раз так, будто все поняла, хотя на самом деле это была для нее китайская грамота, и она представления не имела ни что такое «гик», ни что такое «схлопотал».
– Этот парень, Свинберн, – начал он, желая переменить разговор, как задумал, но коверкая имя.
– Кто?
– Свинберн, – повторил он с той же ошибкой. – Поэт.
– Суинберн, – поправила Руфь.
– Вот-вот, он самый, – пробормотал Мартин, вновь залившись краской. – Он давно умер?
– Да разве он умер? Я не слыхала, – Она посмотрела на него с любопытством. – Где ж вы с ним познакомились?
– В глаза его не видал, – был ответ. – Прочитал вот его стихи из той книжки на столе, перед тем как вам войти. А вам его стихи нравятся?