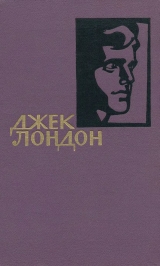
Текст книги "Собрание сочинений в 14 томах. Том 3"
Автор книги: Джек Лондон
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 31 страниц)
В двадцати милях от Санрайза они плыли в лодке, отталкиваясь шестами. Лодка шла вдоль скалистого берега. Вдруг раздались два выстрела. Тимоти Браун вывалился из лодки в воду и пошел ко дну, пуская красные пузыри. Так погиб Тимоти Браун. Он, Леклер, бросился на дно лодки, чувствуя острую боль в плече. Он лежал недвижно, посматривая на берег. Немного погодя два индейца высунули головы из-за прикрытия и вышли на берег, таща на плечах челнок из березовой коры. Когда они спускали его. на воду, Леклер выстрелил. Он попал в одного индейца, и тот рухнул в реку, как Тимоти Браун. Другой упал на дно челнока, затем челнок и лодка понеслись вниз по течению, обгоняя друг друга. Вскоре они подплыли к месту, где река делилась на два рукава и челнок обогнул остров с одной стороны, а лодка с другой. Леклер больше не видел челнока, в Санрайз он приехал один. Да, судя по тому, как подпрыгнул индеец в челноке, он, Леклер, несомненно, попал в него. Вот и все.
Этому показанию не поверили. Леклеру дали десять часов отсрочки, а «Лиззи» послали вниз по течению на поиски. Десять часов спустя «Лиззи», посапывая, вернулась в Санрайз. Узнать ничего не удалось. Показания Леклера не подтвердились. Ему посоветовали сделать завещание, так как в Санрайзе у него был прииск, стоивший пятьдесят тысяч долларов, а здешние люди не только сами устанавливали законы, но и соблюдали их.
Леклер пожал плечами.
– Но вот что, – сказал он, – маленькая… как это вы называть… милость… да, вот именно, маленькая милость… Я давать свои пятьдесят тысяч долларов церкви, я давать свой эскимосский пес Батар черту. Маленькая милость. Сперва вы вешать его, а потом вы вешать меня. Эт-то хорошо, да?
Хорошо, согласились они, пусть «исчадие ада» проложит для своего хозяина путь через последний перевал. Заседание суда перенесли на берег реки, где стояла большая одинокая ель. Лежебока Чарли сделал петлю на конце толстой веревки, надел ее Леклеру на шею и затянул. Потом Леклеру связали руки за спиной и помогли стать на ящик из-под сухарей. Свободный конец веревки перекинули через сук, натянули и завязали узлом. Оставалось только выбить ящик из-под ног, чтобы тело закачалось в воздухе.
– А теперь собаку, – сказал Уэбстер Шоу, бывший горный инженер. – Вешать ее придется тебе, Лежебока.
Леклер осклабился. Лежебока откусил жевательного табака, сделал скользящую петлю и не спеша принялся наматывать веревку на руку. Раз или два он отрывался от этого занятия, чтобы смахнуть с лица особенно назойливых комаров. Все отмахивались от комаров, кроме Леклера, и над его головой они толклись маленьким облачком. Даже Батар, растянувшийся на земле, отгонял их передними лапами от глаз и морды.
Но пока Лежебока ждал, когда Батар поднимет голову, тишину нарушил далекий крик, и все увидели, что кто-то выбежал из Санрайза и, размахивая руками, мчится по низине. Это был лавочник.
– П-постойте, ребята! – проговорил он, еле переводя дух, и, отдышавшись, начал: – Только что явились Маленький Сэнди и Бернадотт. Высадились ниже по течению и пришли пешком напрямик. Привели с собой Бобра. Захватили его в челноке, в дальнем протоке. У Бобра две пулевые раны. Другой был Клок-Катс, тот, что изувечил свою скво и смылся.
– Как? А я что говорить? Как? – ликующе закричал Леклер. – Эт-то он! Я знать, что я говорить правду.
– Слушайте: надо нам проучить этих проклятых сивашей, – промолвил Уэбстер Шоу. – Они разжирели и обнаглели, и нам придется их осадить. Соберите-ка всех индейцев и вздерните Бобра для примера. Вот какая у нас будет программа. Идем послушаем, что он скажет в свою защиту.
– Эй, месье! – закричал Леклер, когда толпа хлынула в Санрайз и стала скрываться из виду в сумерках. – Я тоже очень хотеть посмотреть на спектакль.
– Мы тебя развяжем, когда вернемся! – крикнул ему Уэбстер Шоу, оглянувшись. – А пока поразмысли о своих грехах и путях провидения. Это тебе пойдет на пользу, спасибо нам скажешь.
Как и все люди со здоровыми нервами, привыкшие к опасностям и научившиеся терпению, Леклер приготовился ждать долго, иначе говоря, примирился с мыслью об этом. Но тело его не могло примириться с неудобным положением: веревка принуждала Леклера стоять вытянувшись. Стоило чуть-чуть ослабить мускулы ног, как жесткая веревка врезалась ему в шею; если же он выпрямлялся, плечо начинало сильно болеть. Он выпятил нижнюю губу и дул кверху, стараясь отогнать комаров от глаз. Но даже в таком неприятном положении было чем утешиться: ведь есть расчет немного потерпеть, если удалось вырваться из лап смерти. Жаль, конечно, что не придется посмотреть, как будут вешать Бобра.
Так он раздумывал, пока взгляд его не упал на Батара, который дремал, растянувшись на земле и положив голову на передние лапы. И тогда раздумья кончились. Леклер начал внимательно присматриваться к Батару, стараясь понять, действительно ли он спит или только притворяется спящим. Бока Батара мерно приподнимались, но Леклер чутьем угадывал, что дышит он немного быстрее, чем обычно дышит спящий, и что все в нем, до последнего волоска, насторожилось, как нельзя насторожиться во сне, который всегда расковывает тело. Леклер охотно отдал бы свой прииск в Санрайзе, лишь бы знать наверное, что собака действительно спит, и когда у него случайно хрустнули суставы, он быстро и виновато взглянул на Батара, ожидая, что тот встрепенется. В этот миг Батар не встрепенулся, но несколько минут спустя он встал, медленно и лениво потянулся и внимательно огляделся кругом.
– Sacredam, – процедил сквозь зубы Леклер.
Убедившись, что поблизости никого нет, Батар сел, скривил верхнюю губу, – казалось, будто он улыбается, – посмотрел вверх на Леклера и принялся лизать лапы.
– Я видеть мой конец, – проговорил человек и сардонически расхохотался.
Батар подошел ближе. Его искалеченное ухо болталось, здоровое вытянулось в струнку. Игриво склонив голову набок, он стал приближаться мелкими, танцующими шажками. Потом тихонько потерся о ящик, и тот сдвинулся с места. Леклер осторожно переминался с ноги на ногу, стараясь сохранить равновесие.
– Батар, – проговорил он спокойным голосом, – берегись! Я тебя убью.
Услышав знакомое слово, Батар зарычал и толкнул ящик сильнее. Потом он стал на задние лапы, а передними с силой уперся в верхнюю часть ящика. Леклер хотел было пнуть его ногой, но веревка так врезалась ему в шею, что он чуть не потерял равновесия.
– Хай-йа! Пошел! Вперед! – заорал он.
Батар отступил футов на двадцать с таким сатанински лукавым видом, что Леклер уже не мог ошибиться в его намерениях. Он вспомнил, как пес много раз разбивал ледяную корку на проруби, подпрыгивая и бросаясь на нее всем телом, и понял, что тот замышляет. Батар повернулся кругом и замер. Он оскалил свои белые зубы – и Леклер осклабился в ответ, – потом взметнулся вверх и всей своей тяжестью рухнул на ящик.
Четверть часа спустя Лежебока Чарли и Уэбстер Шоу, возвращаясь, различили в сумраке страшный маятник, качающийся из стороны в сторону. Подбежав ближе, они увидели мертвое человеческое тело и вцепившееся в него живое существо, которое трясло его, трепало, раскачивало.
– Хай-йа! Прочь ты, исчадие ада! – завопил Уэбстер Шоу.
Батар только злобно сверкнул на него глазами и угрожающе зарычал, но не разжал челюстей.
Лежебока Чарли вытащил револьвер, но руки у него дрожали, словно от холода, и он не решился выстрелить.
– Возьми ты, – сказал он, протянув револьвер товарищу.
Уэбстер Шоу коротко рассмеялся, прицелился псу в лоб между горящими глазами и нажал курок. Тело Батара дернулось, забилось в судороге о землю и вдруг обмякло. Но его стиснутые челюсти так и не разжались.
Осколок третичной эпохи
(перевод Р. Облонской)
Я с самого начала умываю руки. Не я, а он все это сочинил, и я не собираюсь отвечать за его рассказ. Заметьте, я делаю эти предварительные оговорки, чтобы никто не усомнился в моей честности. Я женат, достиг кое-какого положения, и, чтобы не опорочить доброе имя людей, чье уважение я имел честь заслужить, и не повредить нашим детям, я не вправе рисковать, как когда-то, с юношеским легкомыслием и беспечностью утверждая то, в чем не уверен. Итак, повторяю, я умываю руки, снимаю с себя всякую ответственность за этого Нимрода, могучего охотника, этого нескладного, веснушчатого, голубоглазого Томаса Стивенса.
Теперь, когда я все выложил и чист перед самим собою и перед всеми нашими потомками, сколько бы мне их жена ни подарила, я могу себе позволить быть великодушным. Не скажу дурного слова о том, что рассказал мне Томас Стивенс, более того, я вообще оставлю свое мнение при себе. Если меня спросят, почему, я могу лишь ответить, что у меня нет на этот счет никакого мнения. Я много раз думал, взвешивал, оценивал, но, право слово, так ни к чему и не пришел, а все потому, что далеко мне до Томаса Стивенса. Если он говорил правду – хорошо, если неправду – тоже хорошо. Ибо кто может подтвердить его слова? Или опровергнуть? Я выхожу из игры, ну, а маловеры могут поступить, как поступил в свое время я: разыщите упомянутого Томаса Стивенса и потолкуйте с ним обо всем, что я надеюсь вам рассказать. Вы спросите, где его найти? Пожалуйста, где-нибудь между пятьдесят третьим градусом северной широты и полюсом и между восточными берегами Сибири и западной оконечностью Лабрадора – в любом месте, где водится дичь. Он, без сомнения, где-то там, место вполне определенное, даю вам честное, благородное слово человека, который заботится о своем будущем, а потому не лукавит и держится подальше от греха.
Может, Томас Стивенс и великий выдумщик, но не могу не сказать, что он забрел в мой лагерь в тот самый час, когда я сидел один и думал, что от тех мест, где можно встретить цивилизованного человека, меня отделяет тысяча миль. При виде человека, первого за долгие, томительные месяцы, я едва не вскочил и не обнял его (а я вовсе не склонен к бурным проявлениям чувств), для него же в этом посещении не было, кажется, ничего удивительного. Он просто забрел на огонек, поздоровался по обычаю охотников и бродяг и, отодвинув в одну сторону мои лыжи, в другую – собак, расчистил себе место у очага. «Заглянул одолжить щепотку соды, – сказал он, – а заодно поинтересоваться, нет ли у вас хоть немного доброго табаку». Он вынул старую трубку, тщательно набил ее и, глазом не моргнув, отсыпал половину золотистых сухих завитков из моего кисета в свой. Да, табачок был хорош! Не испытывая ни малейших угрызений совести, он блаженно затянулся, а я глядел на него, и мое сердце курильщика радовалось.
Охотник? Зверолов? Старатель? Он пожал плечами. Нет, просто бродит здесь вокруг. Недавно побывал у Большого Невольничьего, подумывает прогуляться на Юкон. В Кошимской фактории говорили о россыпях на Клондайке, и он решил поглядеть, чем дело пахнет.
Я заметил, что он называет Клондайк по старинке, на местный лад Рекой Северного оленя – привычка гордых старожилов, не желающих, чтоб их смешивали с чечако и прочими неженками. Но у него это получилось так непосредственно и просто, что не уязвляло, и я простил его. Он сказал, что, пока не перевалил кряж и не спустился к Юкону, ему, пожалуй, не худо бы еще заглянуть в форт Доброй Надежды.
Надо сказать, что форт Доброй Надежды далеко на севере, за Полярным кругом, куда редко ступает нога человека, и когда среди ночи к вам невесть откуда является этакий бродяга, подсаживается к огню и сыплет такими словечками, как «прогуляться» на Юкон и «заглянуть» в форт Доброй Надежды, самое время встать и протереть глаза. И я огляделся: брезент, защищающий от ветра, под ним – сосновые сучья, на которых я на ночь расстилал меховые одеяла, увидел мешки с провизией, фотографическую камеру, пар от дыхания псов, что улеглись вокруг костра, а в вышине – гигантское полотнище северного сияния, раскинувшееся в небе с юго-востока на северо-запад. Я вздрогнул. Есть в ночах Севера какое-то колдовство, которое пробирает до костей, словно лихорадка на болотах. Не успеешь оглянуться, как ты уже в его власти и повержен наземь. Потом я взглянул на свои лыжи, они лежали плашмя, крест-накрест там, где он их бросил. Увидел я и кисет. По крайней мере половины моего солидного запаса курева как не бывало. Все сомнения рассеялись. Стало быть, мне не померещилось.
Верно, нечеловеческие лишения свели его с ума, подумал я, в упор глядя на гостя, как видно, это одна из жертв золотой лихорадки – из тех, что давно забыли родной дом и бродят, как неприкаянные, по бескрайним и бесплодным просторам. Ну что ж, пусть его болтает, пока, быть может, его омраченное сознание не прояснится. Как знать, вдруг при звуке человеческой речи он придет в себя.
И вот я старался втянуть его в разговор, и вскоре он, к моему изумлению, со знанием дела заговорил о дичи, о зверье и их повадках. Оказывается, он подстрелил однажды сибирского волка на крайнем западе Аляски и серну в самом сердце Скалистых гор. Он знает местечки, где по сей день бродит последний бизон, он преследовал по пятам стотысячное стадо чем-то испуганных карибу и спал на зимней тропе мускусного быка на Бесплодных землях.
И, слушая эти рассказы, я переменил мнение о нем (в первый раз, но отнюдь не в последний) и решил, что передо мной сама правдивость. Не знаю, почему, но мне вздумалось рассказать ему историю, услышанную от человека, прожившего в этих краях так долго, что он уже не мог не привирать. Он уверял, что на крутых откосах горы св. Илии водится огромный медведь, который никогда не спускается ниже, на более отлогие склоны. И вот бог так создал, приспособил этого зверя, что обе его правые лапы – передняя и задняя – на фут короче левых. И вы, конечно, согласитесь, что это очень удобно.
От первого лица, в настоящем времени я пустился рассказывать, как самолично охотился на этого редкого зверя, для пущего правдоподобия сдобрил местным колоритом, приукрасил все, как полагается, и поглядывал на своего слушателя в надежде, что мой рассказ ошеломит его.
Ничуть не бывало. Усомнись он, я бы его простил. Заспорь он, скажи, что такая охота не опасна, – ведь зверь не может повернуться и побежать в другую сторону, – возрази он хоть слово, и я крепко пожал бы его руку, руку честного человека. Но ничуть не бывало. Он фыркнул, поглядел на меня и снова фыркнул; потом воздал должное моему табаку, положил ногу мне на колени и предложил пощупать мокасины. То были муклуки, какие носят аляскинские эскимосы, – сшитые сухожилиями, не украшенные ни бисером, ни какой-либо другой отделкой. Но шкура, из которой они были сшиты, – вот что меня поразило. Толщиной добрых полдюйма, она напоминала моржовую, но на этом сходство кончалось, ибо ни один морж не может похвастать такой удивительной шерстью. Сбоку, на лодыжках, она почти вся вытерлась оттого, что он изо дня в день продирался сквозь снег и кустарник, но сзади и сверху, в местах, более защищенных, была черная, без блеска и необыкновенно густая. Я с трудом разобрал мех, чтобы поглядеть на великолепный подшерсток, которым отличаются звери Севера, но его не оказалось. Зато шерсть была необычайной длины. В самом деле, на уцелевших, не вытершихся островках она достигала добрых семи, а то и восьми дюймов.
Я поглядел на своего гостя, и он убрал ногу и спросил:
– Ну как, у вашего медведя тоже такая шкура?
Я покачал головой.
– Не видал такой ни у одного зверя ни на море, ни на суше, – чистосердечно признался я.
Толщина шкуры и длина шерсти озадачили меня.
– Это шкура мамонта, – сказал он самым будничным голосом.
– Чепуха! – воскликнул я, не в силах сдержать свое неверие. – Дорогой мой, мамонт давным-давно исчез с лица земли. По окаменелым остаткам, обнаруженным в земле, и по замерзшему скелету, который сибирское солнце сочло нужным вытопить из самой толщи ледника, мы знаем, что некогда это животное существовало, но мы знаем также, что до наших дней оно не дожило. Наши исследователи…
– Ваши исследователи? – нетерпеливо прервал он. – Тьфу! Хилое племя. И слышать о них не хочу. Но скажи мне, человече, что знаешь ты о мамонте и его повадках?
Тут явно что-то кроется, и я закинул удочку – порывшись в памяти, стал выкладывать все, что знал о мамонтах. Прежде всего я подчеркнул, что это животное доисторическое, и выставил в поддержку все имеющиеся в моем распоряжении факты. Я сослался на песчаные отмели сибирских рек, где в изобилии находят остатки скелетов мамонта, упомянул огромные количества мамонтовой кости, закупленной у эскимосов Торговой компанией Аляски, поведал, что мне и самому довелось выкопать два бивня – один шести футов, другой– восьми в золотоносном песке на притоках Клондайка.
– И все эти ископаемые остатки, – заключил я, – мы находим в наносных породах, отлагавшихся в давние времена.
– Помню, еще парнишкой я видел окаменелый арбуз, – тут Томас Стивенс фыркнул (ужасно противно он фыркал). – Значит, хоть некоторые фантазеры и воображают, будто они выращивают и едят арбузы, а на самом деле никаких арбузов давным-давно не существует.
– А чем бы они питались? – продолжал я, не обращая внимания на этот ребяческий довод, не имеющий отношения к делу. – Чтобы прокормить таких исполинов, земля должна родить щедро и безотказно. Нигде на Севере не найдешь такого изобилия. Следовательно, мамонт не может существовать в наши дни.
– Я прощаю вам полную неосведомленность о полярных землях, вы ведь еще молоды и мало путешествовали, но в одном я готов с вами согласиться. Мамонтов больше нет. Откуда я знаю? Вот этой рукой я убил последнего мамонта.
Так вещал Нимрод, могучий охотник. Я швырнул в собак головешкой, приказал им прекратить адский вой и ждал. Уж, конечно, этот редкостный враль не утерпит и отплатит мне за медведя с горы св. Илии.
– Дело было так, – начал он наконец, выдержав подобающую случаю паузу, – однажды разбил я лагерь…
– Где именно? – прервал я.
Он махнул рукой куда-то на северо-восток, где простирались неведомые безбрежные просторы, – мало кто отваживался вступать на ту землю и почти никто не вернулся оттуда.
– Разбил я лагерь, и Клуч вертелась тут же. Красивая была собака, лучше и не найти в наших краях. Отец ее был чистокровный мейлмют из Пастилика на Беринговом море, а мать я ей тоже выбрал с толком – лучшую суку из тех, что разводят у Гудзонова залива. Отличная была помесь, можете мне поверить. Так вот, в тот самый день, помню, Клуч принесла мне щенят от дикого волка; из них выросли бы отличные псы – серые, длинноногие, широкогрудые и на редкость выносливые. Слыхали вы что-нибудь подобное? Я вывел новую породу и каких только не строил планов!
Стало быть, она благополучно разрешилась, все честь по чести. Я сидел на корточках и разглядывал щенят– семь крепких слепых зверенышей, как вдруг позади раздался рев, точно в медные трубы затрубили. Что-то налетело, будто шквал, и не успел я подняться, как меня сбило с ног и я уткнулся в землю носом. И тут я услыхал, как охнула Клуч – прямо как человек, когда его стукнешь кулаком в живот. Можете биться об заклад, что я лежал тихо, только чуть повернул голову и увидел, что надо мной нависла какая-то огромная туша. Потом мне снова открылось голубое небо, и я поднялся на ноги. И успел увидеть, как волосатая живая гора скрылась в зарослях на краю прогалины. Мелькнул толстый, толщиной с меня, торчащий хвост. Через мгновение у меня перед глазами был только широченный пролом в чаще, но еще слышен был гул, будто удалялся ураган: трещали вырываемые с корнем кусты, с грохотом ломались и падали деревья.
Я кинулся за ружьем. Оно было положено на землю, под дулом был чурбан – чтоб не загрязнилось. Теперь от ложа остались одни щепки, ствол был искривлен, затвор сплющен. Потом я поискал глазами Клуч и… и что, по-вашему, увидел?
Я покачал головой.
– Гореть мне у сатаны на сковородке, если от нее хоть что-нибудь осталось! И Клуч и семь крепких слепых зверенышей исчезли все до единого. На том месте в мягком грунте оказалась скользкая, кровавая вмятина – добрый ярд в поперечнике, а по краям жалкие клочки шерсти.
Я отмерил на снегу три фута, описал круг, и поглядел на Нимрода.
– Чудище было длиной в тридцать футов, а ростом в двадцать, – пояснил он, – а в каждом бивне шесть раз го три фута. Я и сам глазам своим не поверил. Может, мне все почудилось, но как же сломанное ружье и пролом в чаще? А Клуч со щенками, куда они девались? Господи, да меня и сейчас в жар бросает, как вспомню Клуч! Ведь это была новая Ева! Прародительница нового племени. И вот дикий, взбесившийся мамонт, точно второй потоп, снес их с лица земли! Право слово, земля, пропитанная кровью, взывала к небесам. Понятно, я схватил топор и кинулся в погоню.
– Топор? – в полнейшем восторге воскликнул я, представив себе эту картину. – С топором на огромного мамонта тридцати футов в длину и двадцати…
Нимрод тоже развеселился и даже прыснул от удовольствия.
– Помереть можно со смеху, а? – воскликнул он. – Хороша история? Я сам потом сколько раз смеялся, но тогда мне было не до смеху. Я совсем рассвирепел из-за ружья и из-за Клуч. Нет, вы только подумайте! Сгинула новенькая с иголочки порода, ее еще и в списки не занесли и патента мне не дали. Не успели щенята прозреть, не успели на них выправить бумаги, как их уничтожили! Что ж, ладно. Жизнь полна разочарований, и это правильно. Мясо вкусней, когда проголодаешься, а постель мягче после тяжелой дороги.
Так вот, схватил я топор, и припустился за зверем, и гнался за ним по пятам. Но когда он повернул назад и помчался вверх по долине, я остановился, чтобы перевести дух. И насчет еды я вам заодно кое-что объясню. Там, в горах, причудливо все устроено. Счету нет маленьким тесным ущельям, и все одинаковые, как близнецы, а стены крутые, отвесные. В устье долины всегда узкий проход, пробитый ледниками или талыми водами. Только через него и можно проникнуть в долину, но эти проходы все узкие, один уже другого. Так вот о еде – вы ведь путешественник и, наверное, тонули в грязи под проливными дождями на островах у берегов Аляски, туда, поближе к Ситхе. И знаете, какие там леса и травы, густые, сочные – джунгли да и только. Ну, и в этих долинах то же самое. Земля жирная, плодородная, папоротник и всякие там травы кое-где выше головы. Летом три дня из четырех льет дождь, и жратвы хватит на тысячу мамонтов, а уж о мелкой дичи для человека и говорить нечего.
Да, так ближе к делу. У выхода из долины я совсем задохнулся и бросил погоню. И стал я раскидывать умом, и едва я перевел дух, гнев мой разгорелся вовсю, и я уже знал, что не успокоюсь, пока не отведаю жареной ноги мамонта. И еще знал, что теперь не миновать Skookum mamook puka puk – прошу прощения, что говорю по-чинукски, я хотел сказать: не миновать большой драки. Так вот, устье моей долины было очень узкое, а стены совсем крутые, и с одной стороны нависла огромная глыба весом в сотни две тонн, и не просто нависла, а качалась – такие еще называют маятниками. Как раз то, что нужно. Я сбегал в лагерь, все время оглядываясь, не вылез ли мамонт из долины, и прихватил патроны. Но что в них толку, ружье-то разбито. Так что я открыл гильзы, высыпал порох под этот самый камень и подложил бикфордов шнур. Заряд был невелик, но валун лениво качнулся и ухнул вниз, загородив проход, только и осталась щель, чтобы течь ручью. Теперь зверь был мой.
– Как это ваш? – засомневался я. – Где это видано, чтобы человек убил мамонта топором? Да и вообще чем бы то ни было?
– Разве я не сказал вам, что прямо взбесился от злости? – ответил задетый за живое Нимрод. – Да, я был зол из-за Клуч и ружья. И разве я не охотник? И разве мне не интересно поохотиться на такую невиданную дичь? А вы говорите, топор! Тьфу! Да он мне вовсе и не понадобился. Это была такая охота, какая случалась, наверное, только, когда мир был молод и пещерный человек охотился с каменным топором. Ну, и от моего топора было не больше толку, чем от каменного. Но разве не правда, что человек способен пройти больше собаки и лошади, верно? Что он выносливей, потому что куда умней?
Я кивнул.
– И что же?
Но я, кажется, уже понял и ждал продолжения.
– Если обойти всю мою долину кругом, получалось миль пять. Устье завалено. Выбраться ему некуда. Этот мамонт оказался зверем не из храбрых и теперь был в моей власти. Я снова припустился за ним в погоню, вопил, как дьявол, забрасывал его камнями, трижды заставил обежать долину, а потом отправился ужинать. Понимаете, в чем штука? Гонки! Человек и мамонт! Ипподром, а вместо судей солнце, луна и звезды.
Я убил на это два месяца, но своего добился. И это вам уже не анекдот. Я гнал его круг за кругом, сам бежал по внутренней дорожке, наспех закусывал вяленым мясом и икрой лосося, а между забегами ухитрялся вздремнуть минутку-другую. Бывало, конечно, что он с отчаяния нет-нет, да и взбунтуется и повернет на меня. Тогда я мчался к ручью, где земля была мягкая, и клял на чем свет стоит окаянного зверя и всех его предков и подзадоривал подойти поближе. Но он был слишком умен, знал, что может завязнуть в грязи. Однажды он загнал меня к отвесной скале, и я заполз в глубокую расщелину и затаился. Всякий раз, как он тянулся ко мне хоботом, я колотил его топором, пока он от ярости не поднимал такой рев, что у меня прямо лопались барабанные перепонки. Он знал, что я попался, а достать меня не мог, это его и бесило. Но он был не дурак. Понимал, что, пока я в щели, ему ничто не грозит, и решил не выпускать меня оттуда. И он был совершенно прав, только вот о припасах не подумал. Поблизости не оказалось ни пищи, ни воды, ясное дело, он не мог долго держать осаду. Часами сторожил он у расщелины и хлопал огромными, как одеяло, ушами, отгоняя москитов. Потом его одолевала жажда, и он начинал трубить так, что земля дрожала, и поносил меня, как только мог. Это он хотел нагнать на меня страху, решив, что я достаточно напугался, он тихонько пятился и пытался улизнуть к ручью. Иногда я давал ему отойти почти к самой воде – она была всего в сотне-другой ярдов – и тогда выскакивал, и он тотчас с грохотом мчался назад, обвал да и только. Но скоро он разгадал мою хитрость и переменил тактику. Понял роль времени, так сказать. Ни словечком не предупредив, он, как сумасшедший, мчался к ручью, рассчитывая обернуться прежде, чем я сумею удрать. В конце концов он страшно изругал меня, снял осаду и неторопливо зашагал к воде.
Это был единственный раз, когда он взял надо мной верх, но после этих трех дней гонка не прекращалась ни на час. Шесть дней кряду шли эти гонки без всяких правил – делай все, что тебе по вкусу, – но ему-то все это было совсем не по вкусу. Одежда моя разорвалась в клочки, чинить ее было некогда, так что под конец я бегал нагишом, как дитя природы, с топором в одной руке и с булыжником в другой. Я не останавливался ни ночью, ни днем, лишь изредка на минутку вздремнешь в какой-нибудь расщелине. Что до мамонта, он худел прямо на глазах – потерял самое малое несколько тонн – и стал нервный, как засидевшаяся в девках учительница. Стоило мне подойти к нему и крикнуть или кинуть в него издали камнем, и он сразу подскочит и весь задрожит, точно пугливый жеребенок. А потом опять как припустится, хвост и хобот выставит, косится на меня через плечо, глаза так и горят, а уж ругает меня, уж клянет – на все корки. Бесстыжий был зверь, разбойная душа и богохульник.
Но под конец он угомонился и только все хныкал и скулил, как дитя малое. Он совсем пал духом и стал жалкий, несчастный. Этакая гора, а трясется, как студень. Начались у него сердцебиения, его качало, как пьяного, и он валился наземь, сбив ноги в кровь. А то, бывало, бежит и плачет. Боги, и те смилостивились бы над ним, вы бы тоже не удержались от слез, никто не удержался бы. На него было жалко смотреть – такой огромный и такой несчастный, но я только больше ожесточился в сердце своем и прибавил шагу. Наконец я совсем загонял его, и он свалился – в отчаянии, задыхаясь, мучимый голодом и жаждой. Видя, что он не в силах пошевельнуться, я перерезал ему сухожилия и потом чуть не весь день врубался в него топором, а он сопел и всхлипывал, пока я не врубился так глубоко, что он затих. Да, он был тридцати футов в длину, двадцати ростом, а между бивнями можно было гамак подвесить и спать в свое удовольствие. Правда, я выжал из него все соки, а все же он был недурен на вкус, и одних ног, зажаренных целиком, хватило бы на год. Я провел там всю зиму.
– А где эта долина? – поинтересовался я.
Он махнул рукой куда-то на северо-восток и сказал:
– Хорош у вас табачок. Добрую долю его я унесу в кисете, а воспоминание о нем сохраню до самой смерти. В знак того, как высоко я ценю вашу любезность, разрешите взамен ваших мокасин поднести вам эти муклуки. Это память о Клуч и семи слепых щенятах. А кроме того, они напоминают о событии, какого не знала история: об уничтожении последнего представителя самого древнего и самого раннего на земле звериного племени. А муклукам сносу не будет.
Вручив мне муклуки, он выбил трубку, пожал мне на прощание руку и исчез в снежной пустыне. Вы, конечно, не забыли, что я с самого начала снял с себя всякую ответственность за эту историю, а всем маловерам я советую посетить Смитсоновский институт. Если они представят соответствующие рекомендации и приедут в урочное время, их, без сомнения, примет профессор Долвидсон. Муклуки теперь хранятся у него, и он подтвердит если не то, каким образом они были добыты, то уж во всяком случае, какой на них пошел материал. Он авторитетно утверждает, что они сшиты из шкуры мамонта, и с ним соглашается весь ученый мир. Чего же вам еще надо?








