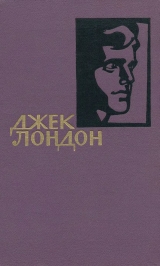
Текст книги "Собрание сочинений в 14 томах. Том 3"
Автор книги: Джек Лондон
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)
– Что у вас? – спросил он.
– Яйца, – с трудом выговорил Расмунсен хриплым голосом, чуть громче шепота.
– Яйца! Ура! Ура! – Человек подпрыгнул, бешено завертелся и пустился в пляс. – Не может быть! Это все яйца?
– Да, все.
– Послушайте, вы, верно, Человек с Тысячей Дюжин? – Он обошел Расмунсена кругом и посмотрел на него с другой стороны. – Нет, в самом деле! Это вы и есть?
Расмунсен не был в этом вполне уверен, но ответил утвердительно, и человек в шубе несколько успокоился.
– Сколько же вы за них хотите? – осторожно спросил он.
Расмунсен осмелел.
– Полтора доллара, – сказал он.
– Заметано! – поспешно ответил человек. – Давайте мне дюжину!
– Я… я хочу сказать, полтора доллара за штуку, – нерешительно объяснил Расмунсен.
– Ну да, я слышал. Давайте две дюжины. Вот песок.
Человек вытащил объемистый мешочек с золотом, толстый, как колбаса, и небрежно постучал им о шест. Расмунсен ощутил странную дрожь под ложечкой, щекотание в ноздрях и почти непобедимое желание сесть и расплакаться. Но вокруг уже начинала собираться толпа любопытных, и покупатели один за другим требовали яиц. Весов у Расмунсена не было, но человек в медвежьей шубе принес весы и услужливо отвешивал песок, пока Расмунсен отпускал товар. Скоро началась толкотня и давка, поднялся шум. Каждый хотел купить и каждый требовал, чтобы ему отпустили первому. И чем больше волновалась толпа, тем спокойней становился Расмунсен. Тут что-нибудь да не так. Неспроста они покупают яйца нарасхват, за этим что-нибудь да кроется. Умнее было бы сначала выждать и узнать цену. Может быть, яйцо теперь стоит уже два доллара. Во всяком случае, полтора доллара он всегда получит.
– Конец! – объявил он, распродав сотни две яиц. – Больше не продаю. Устал. Мне еще надо найти хижину; вот тогда приходите, поговорим.
Толпа охнула, но человек в медвежьей шубе поддержал Расмунсена. Двадцать четыре штуки мороженых яиц со стуком перекатывались в его объемистых карманах, и ему не было никакого дела до того, будут сыты остальные или нет. Кроме того, он видел, что Расмунсен едва стоит на ногах.
– Есть хижина недалеко от «Монте-Карло», второй поворот, сейчас же за углом, – сказал он, – окно там из содовых бутылок. Хижина не моя, мне только поручили ее сдать. Цена десять долларов в день, и это еще дешево. Сейчас же и въезжайте, я к вам зайду потом. Не забудьте: вместо окна – бутылки.
– Тра-ла-ла! – пропел он минутой позже. – Пойду к себе есть яичницу и мечтать о доме.
По дороге Расмунсен вспомнил, что голоден, и зашел в лавку Компании запастись кое-какой провизией, а потом в мясную – купить бифштекс и вяленой рыбы для собак. Он сразу нашел хижину и, не распрягая собак, развел огонь и поставил кипятить кофе.
– Полтора доллара за штуку… Тысяча дюжин… Восемнадцать тысяч долларов! – твердил он вполголоса, хлопоча возле печки.
Когда он бросил бифштекс на сковородку, дверь скрипнула. Расмунсен обернулся. Это был человек в медвежьей шубе. Он вошел очень решительно, видимо, с какой-то определенной целью, но, взглянув на Расмунсена, словно растерялся, и лицо его выразило смущение.
– Вот что, послушайте… – начал он и замялся.
Расмунсен подумал, уж не пришел ли он за квартирной платой.
– Послушайте, черт возьми! А ведь яйца-то, знаете ли, тухлые!
Расмунсен зашатался. Его словно огрели по лбу дубиной. Стены перекосились и заходили перед ним ходуном. Он протянул вперед руку и ухватился за печку, чтобы не упасть. Резкая боль и запах горелого мяса привели его в чувство.
– Понимаю, – с трудом выговорил он, роясь в кармане. – Вы хотите получить деньги обратно?
– Не в деньгах дело, – ответил человек в медвежьей шубе, – а нет ли у вас других яиц, посвежее?
Расмунсен покачал головой.
– Возьмите деньги обратно.
Но тот отказывался, пятясь к дверям.
– Я лучше приду потом, когда вы разберете товар, и обменяю на другие.
Расмунсен вкатил в дом колоду и внес ящики с яйцами. Он принялся за дело очень спокойно. Взял топорик и стал рубить яйца пополам, одно за другим. Половинки он внимательно разглядывал и бросал на пол. Сначала он брал яйца на выбор из разных ящиков, потом стал рубить подряд. Куча на полу все росла. Кофе перекипел и убежал, бифштекс подгорел, и комната наполнилась чадом. Он рубил без отдыха, не разгибая спины, пока не опустел последний ящик.
Кто-то постучался в дверь, еще раз постучался и вошел.
– Что такое тут творится? – спросил гость, останавливаясь у порога и оглядывая комнату.
Разрубленные яйца начали оттаивать от печного жара, и с каждой минутой вонь становилась все сильнее и сильнее.
– Должно быть, на пароходе испортились, – заметил вошедший.
Расмунсен уставился на него пустыми глазами.
– Я Мэррей, Большой Джим Мэррей, меня тут все знают, – отрекомендовался гость. – Мне сказали, что у вас испортился товар, предлагаю вам двести долларов за всю партию. Это, конечно, не то, что рыба, но для собак годится.
Расмунсен словно окаменел. Он не пошевельнулся.
– Подите к черту! – сказал он без всякого выражения.
– Да вы подумайте. Цена хорошая за такую тухлятину, все-таки лучше, чем ничего. Две сотни. Ну, так как же?
– Подите к черту, – негромко повторил Расмунсен, – убирайтесь вон!
Мэррей взглянул на него со страхом, потом тихонько вышел, пятясь задом и не сводя с Расмунсена глаз.
Расмунсен вышел за ним и распряг собак. Побросав им всю рыбу, которую купил, он отвязал и намотал на руку постромки от нарт. Потом вошел в дом и запер за собой дверь. От обуглившегося бифштекса в комнате стоял едкий чад. Расмунсен стал на койку, перебросил постромки через стропила и прикинул длину на глаз. Должно быть, ему показалось, что коротко, – он поставил на койку табурет и влез на него. Сделав на конце постромок петлю, он просунул в нее голову, а другой конец закрепил. Потом отшвырнул табурет ногой.
История Джис-Ук
(перевод И. Гуровой)
Бывают жертвы и жертвы. Но сущность жертвы всегда одна. Ее парадокс в том, что человек отказывается от самого дорогого во имя чего-то еще более дорогого. И так было всегда. Так было, когда Авель принес от первородных стада своего и от тука их. Первородные стада его и тук их были ему дороже всего на свете, а все же он отдал их, чтобы сохранить хорошие отношения с богом. Так было, когда Авраам возложил сына своего Исаака на жертвенник. Он любил Исаака, но бога он почему-то любил еще больше. Может быть, впрочем, он просто его боялся. Но, как бы то ни было, с тех пор несколько миллиардов людей уверовали, что Авраам возлюбил господа и жаждал служить ему.
А поскольку решено, что любовь – это служение, и поскольку жертвовать – значит служить, то из этого следует, что Джис-Ук, простая темнокожая девушка, любила великой любовью. Джис-Ук умела читать лишь приметы погоды да следы дичи; она была несведуща в священной истории и никогда не слышала ни об Авеле, ни об Аврааме. Заботы добрых сестер Святого Креста миновали ее, и никто не рассказал ей о моавитянке Руфи, которая пожертвовала даже своим богом ради чужой женщины из далекой страны. Джис-Ук знала только один вид жертвы – под угрозой дубины, как собака жертвует украденной костью. И все же, когда настало время, она сумела подняться до царственных высот белой расы и принести поистине королевскую жертву.
Вот рассказ о судьбе Джис-Ук, а также о судьбах Нийла Боннера, Китти Боннер и двух детей Нийла Боннера.
Хотя кожа у Джис-Ук была темная, она не была ни индианкой, ни эскимоской, ни иннуиткой. В устных преданиях упоминается имя Сколкза, индейца-тойата с Юкона, который в дни своей юности добрался до селения иннуитов в Великой Дельте, где встретил женщину, чье имя было Олилли. Мать женщины Олилли была эскимоска, а отец – иннуит. И от Сколкза и Олилли родилась Хали, наполовину тойатка, на четверть иннуитка и на четверть эскимоска. А Хали была бабушкой Джис-Ук.
Хали, в которой смешалась кровь трех племен, не боялась дальнейших смешений и сочеталась с русским торговцем пушниной по имени Шпак, известным также под прозвищем Жирный. Шпак здесь назван русским за отсутствием более точного термина: его отец, русский каторжник, бежал с ртутных рудников в Северную Сибирь, где он познал Зимбу, женщину из племени Оленя, и она стала матерью Шпака, деда Джис-Ук.
Если бы Шпака в детстве не захватили Люди Моря, которые влачат жалкое существование на берегах Ледовитого океана, он не стал бы дедом Джис-Ук, и рассказывать было бы не о чем. Но Люди Моря его захватили, и он бежал от них на Камчатку, а оттуда на норвежском китобойном судне добрался до Балтийского моря. Затем Шпак оказался в Петербурге, и не прошло и нескольких лет, как он отправился на восток той же тяжелой дорогой, которую за полстолетия до этого прошел в кандалах его отец. Только Шпак ехал как свободный человек, служащий Русской мехопромышленной компании. Исполняя свои обязанности, он забирался все дальше и дальше на восток и наконец переправился через Берингово море в Русскую Америку, где в Пастилике, у Великой Дельты Юкона, стал мужем Хали, бабушки Джис-Ук. От этого союза произошла девочка Тюксен.
По распоряжению Компании Шпак отправился в лодке на несколько сотен миль вверх по Юкону, к посту Нулато. Он взял с собой Хали и девочку Тюксен. Это было в 1850 году, а именно в 1850 году на Нулато напали индейцы и стерли его с лица земли. Так погибли Шпак и Хали. В эту ужасную ночь Тюксен исчезла. Тойаты и по сей день клянутся в своей непричастности к этому нападению, но, как бы то ни было, остается фактом, что девочка Тюксен выросла среди них.
Тюксен дважды выходила замуж, но детей у нее не было. Поэтому другие женщины качали головами, и не нашлось третьего тойата, который захотел бы жениться на бесплодной вдове. Но в это время на много сотен миль выше по реке в Форте Юкон жил человек по имени Спайк О'Брайен. Форт Юкон принадлежал Компании Гудзонова залива, а Спайк О'Брайен был одним из ее служащих. Служил он хорошо, но пришел к заключению, что служба плоха, в подтверждение чего со временем дезертировал. Потребовался бы год, чтобы от поста к посту добраться до Йоркской фактории на Гудзоновом заливе. Кроме того, посты принадлежали Компании, и О'Брайен знал, что на этом пути ему не избежать ее когтей. Оставалась единственная дорога – вниз по Юкону. Правда, до сих пор ни один белый еще не спускался по Юкону, ни один белый не знал, впадает ли Юкон в Ледовитый океан или в Берингово море, но Спайк О’Брайен был кельтом, и опасность всегда была для него неотразимой приманкой.
Спустя несколько недель, довольно оборванный, весьма голодный и едва живой от лихорадки, он выбросил свое каноэ на отмель у деревни тойатов и тут же потерял сознание. Отлеживаясь там и набираясь сил, он увидел Тюксен, и она понравилась ему. Отец Шпака дожил до глубокой старости среди сибирского племени Оленя, и О’Брайен мог бы так же состариться среди тойатов, но в его сердце жила жажда приключений, и она гнала его все дальше и дальше. Он уже проделал путь от Йоркской фактории до Форта Юкон, а теперь он мог добраться от Форта Юкон до моря и завоевать лавры человека, первым открывшего сухопутный Северо-Западный проход. Поэтому он отплыл вниз по реке, завоевал эти лавры и остался неизвестным и невоспетым. Впоследствии он был содержателем матросской харчевни в Сан-Франциско и прослыл отчаянным вралем, потому что рассказывал истинную правду. А у Тюксен, бесплодной Тюксен, родился ребенок. Это и была Джис-Ук. Ее родословная прослежена здесь так далеко для того, чтобы показать, что она не была ни индианкой, ни эскимоской, ни иннуиткой, ни кем-нибудь еще, а также чтобы показать, что пути поколений неисповедимы и что все мы только игра бесконечных причудливых сочетаний.
И вот Джис-Ук, в жилах которой текла кровь многих племен, выросла замечательной красавицей. Красота ее была необычной и настолько восточной, что могла бы сбить с толку любого этнолога. Джис-Ук была гибка и грациозна. Бесспорно кельтским в ней было только живое воображение. Правда, быть может, именно горячая кельтская кровь сделала ее лицо менее смуглым, а тело более светлым, но, быть может, этим она была обязана Шпаку Жирному, который унаследовал цвет кожи своих славянских предков. Особенно хороши были огромные черные сияющие глаза Джис-Ук, глаза полукровки, миндалевидные и чувственные – знак столкновения темных и светлых рас. И, наконец, сознание того, что в ней течет кровь белых, порождало в Джис-Ук своеобразное честолюбие. В остальном же, в привычках, в отношении к жизни, она была самой настоящей индианкой-тойаткой.
Как-то зимой, когда Джис-Ук была еще совсем молода, в ее жизни появился Нийл Боннер. Появился он в ее жизни, как, впрочем, и вообще на Аляске, не совсем по своей воле. Пока его отец стриг купоны и выращивал розы, а мать предавалась светским развлечениям, Нийл Боннер сбился с пути. Он не был порочен от природы, но когда человек сыт и ему нечего делать, его энергия Ищет выхода, а Нийл Боннер был сыт и ему нечего было делать. И он расходовал свою энергию так бурно, что, когда наступила неизбежная катастрофа, его отец, Нийл Боннер-старший, в испуге выполз из роз и с изумлением уставился на своего отпрыска. Затем он направил свои стопы к старому другу и советчику по части роз и купонов, и они вместе решили судьбу Нийла Боннера-младшего. Ему следовало уехать и безупречным поведением искупить свои шалости, дабы со временем стать таким же полезным членом общества, как и они.
Принятое решение выполнить было нетрудно. Нийл-младший испытывал стыд и раскаяние, а старые друзья были видными акционерами Компании Тихоокеанского побережья. Эта Компания, владевшая флотилиями речных и океанских пароходов, не только бороздила моря. Она также прибрала к рукам несколько сотен тысяч квадратных миль той территории, которая на географических картах обозначена белыми пятнами. Итак, Компания послала Нийла Боннера-младшего на Север, туда, где белые пятна, чтобы он работал на нее и стал со временем достойным сыном своего отца. «Пять лет простой жизни в близости к природе и в отдалении от соблазнов сделают из него человека», – изрек Нийл Боннер-старший и уполз в свои розы. Нийл-младший сжал зубы, упрямо выставил подбородок и взялся за дело. Он был хорошим работником и снискал расположение начальства. Нельзя сказать, чтобы работа ему особенно нравилась, но лишь она спасала его от безумия.
В течение первого года он призывал смерть. В течение второго он слал проклятия богу. А когда наступил третий, он то призывал смерть, то проклинал бога и, запутавшись в своих чувствах, поссорился с лицом власть имущим. Из ссоры он вышел победителем, но за лицом власть имущим осталось последнее слово, и это слово послало Нийла Боннера в такую глушь, по сравнению с которой его прежнее место казалось раем. Нийл уехал без жалоб, так как Север успел сделать из него человека.
Кое-где на белых пятнах карты попадаются крохотные кружки, вроде буквы «о», а около них виднеются названия, например, «Форт Гамильтон», «Пост Танана», «Двадцатая Миля», и может показаться, что белые пятна усеяны городами и деревнями. Но это только кажется. Двадцатая Миля, которая похожа на все остальные фактории, представляет собой бревенчатое строение величиной с бакалейную лавку, где верх сдается жильцам. На заднем дворе – кладовая на высоких сваях и два сарая. Задний двор не огорожен, он тянется до самого горизонта и даже дальше. Рядом нет никакого жилья, разве тойаты иногда разобьют зимний лагерь милях в двух ниже по Юкону. Вот какова Двадцатая Миля, одно из бесчисленных щупалец Компании Тихоокеанского побережья! Здесь агент Компании и его помощник торгуются с индейцами из-за мехов и выменивают золотой песок у случайно забредших золотоискателей. Здесь агент Компании и его помощник всю зиму ждут весны, а когда весна приходит, они, проклиная все на свете, перебираются на крышу, пока Юкон моет помещение. И вот сюда, на четвертый год своего пребывания на Севере, приехал Нийл Боннер, чтобы взять дела в свои руки.
Он никого не лишил места. Прежний агент покончил с собой – «из-за тяжелых условий», как сообщил его помощник. Правда, у тойатских костров говорили другое. Этот помощник был сутулый человек со впалой грудью и впалыми щеками, чуть прикрытыми редкой черной бородой. Он часто кашлял, словно туберкулез пожирал его легкие, и в его глазах горел лихорадочный огонь безумия, как это бывает у чахоточных в последней стадии. Звали его Пентли – Амос Пентли. Боннеру он не нравился, хотя ему было искренне жаль одинокого и отчаявшегося человека. Эти двое не поладили; а им особенно нужна была дружба: ведь предстояли холода, безмолвие и мрак долгой зимы.
В конце концов Боннер пришел к выводу, что Амос не совсем нормален, и решил его не трогать, взяв на себя всю работу, за исключением стряпни. Но Амос продолжал бросать на него злобные взгляды, не пытаясь скрыть свою ненависть. Боннеру было тяжело: для него так много значили бы здесь улыбающееся лицо, бодрая шутка, дружба, рожденная общими невзгодами. И зима только началась, а Нийл Боннер уже понял, что с таким помощником у прежнего агента было достаточно причин, чтобы наложить на себя руки.
На Двадцатой Миле было очень одиноко. Унылая пустыня простиралась кругом до самого горизонта. Снег, или, вернее, иней, покрыл землю белым плащом, и все погрузилось в безмолвие смерти. Неделями стояла ясная, холодная погода, и термометр неизменно показывал сорок – пятьдесят градусов ниже нуля. Затем наступала перемена. Влага, медленно просачиваясь в атмосферу, собиралась в бесформенные свинцовые тучи. Теплело. Термометр поднимался до минус двадцати, и на землю падали твердые кристаллики, хрустевшие под ногами, как сахар или сухой песок. Затем снова устанавливалась ясная, холодная погода; а когда в воздухе накапливалось достаточно влаги, чтобы укрыть землю от холода, опять наступало потепление. И все. Не было никаких происшествий. Не было ни бурь, ни шума воды, ни треска ломающихся деревьев – ничего, кроме регулярного выпадения ледяных кристаллов. Пожалуй, самым значительным событием за эти долгие, тоскливые недели был подъем ртути до неслыханной высоты – пятнадцать ниже нуля. Потом, словно в отместку, землю охватил космический холод, ртуть замерзла, а спиртовой термометр две недели стоял на семидесяти. Наконец он лопнул, и неизвестно, насколько упала температура после этого. Другим явлением, монотонным в своей регулярности, было то, что ночи становились все длиннее и длиннее, пока день не превратился в короткий проблеск света, прорезавший мрак.
Нийл Боннер любил общество себе подобных. Самые его проступки, за которые он теперь нес покаяние, родились из его чрезмерной общительности. И вот на четвертом году своего изгнания он оказался в обществе – само это слово звучало здесь пародией – угрюмого, молчаливого человека, в чьих глазах таилась беспричинная, но глубокая ненависть. И Боннер, которому дружеская беседа была нужна, как воздух, жил, словно призрак, терзаемый памятью о радостях прошлого существования. Днем лицо его было непроницаемо и губы сжаты, но зато ночью он ломал руки и катался по постели, рыдая, как ребенок. Часто он вспоминал лицо власть имущее и в долгие ночные часы слал ему проклятия. И еще он проклинал бога. Но бог понимает все, и в сердце его нет осуждения слабым смертным, богохульствующим на Аляске.
И вот сюда, на Двадцатую Милю, явилась Джис-Ук, чтобы купить муки и бекона, бус и ярких тканей для рукоделия, и чтобы с ее приходом, хотя об этом она сама не знала, одинокий человек на Двадцатой Миле стал еще более одиноким, чтобы ночью во сне он ловил в объятия пустоту. Ведь Нийл Боннер был только мужчиной. Когда Джис-Ук впервые пришла на склад, он глядел на нее, как умирающий от жажды смотрит на прозрачный ключ. А она, в чьих жилах струилась кровь Спайка О’Брайена, улыбнулась ему не так, как темнокожие должны улыбаться людям царственных рас, но как женщина улыбается мужчине. Дальнейшее было неизбежным, но он не понимал этого, и чем сильнее его влекло к Джис-Ук, тем яростнее он боролся со своим влечением. А она? Она была Джис-Ук, настоящая индианка из племени тойатов, если не по рождению, то по воспитанию.
Она часто приходила в факторию за товарами и часто садилась у большой печки, болтая с Нийлом Боннером на ломаном английском языке. И он уже ожидал ее, и в те дни, когда она не приходила, скучал и не мог найти себе места. Иногда он вдруг задумывался о происходящем, и тогда Джис-Ук встречала холодную сдержанность, которая злила ее и сбивала с толку, хотя она была убеждена в неискренности его поведения. Но чаще Боннер не решался задумываться, и фактория оглашалась смехом и болтовней. Амос Пентли, задыхаясь, как рыба на песке, содрогаясь от глухого, могильного кашля, глядел на них и усмехался. Он, так хотевший жить, был обречен и терзался тем, что другие будут жить. Он ненавидел Боннера за то, что тот здоров и полон жизни, за то, что он так радуется приходу Джис-Ук. А самому Амосу стоило только подумать о девушке, как у него начинало бешено биться сердце и горлом шла кровь.
Джис-Ук была проста, мыслила прямолинейно и не привыкла разбираться в жизненных тонкостях. Для нее Амос Пентли был открытой книгой. Она предостерегла Боннера ясно и недвусмысленно, не тратя лишних слов, ко он, привыкший к условностям цивилизации, не сумел правильно оценить положение и только посмеялся над ее страхами. Для него Амос был жалким больным, обреченным на смерть, а Боннер после перенесенных страданий научился прощать.
И вот однажды утром, во время сильных морозов, он встал из-за стола после завтрака и прошел на склад. Джис-Ук, порозовевшая с дороги, дожидалась там, чтобы купить мешок муки. Через несколько минут Нийл уже привязывал мешок к ее нартам. Нагибаясь, он почувствовал, что ему сводит шею, и его охватило тревожное предчувствие беды. Затянув последнюю петлю, он попытался выпрямиться, но сильная судорога швырнула его в снег. Голова его откинулась, спина выгнулась, руки и ноги неестественно вытянулись, и казалось, что сведенное судорогами тело разрывается на части. Не вскрикнув, без единого звука, Джис-Ук опустилась в снег рядом с ним, но он отчаянно стиснул ее руки, и, пока длились конвульсии, она ничего не могла сделать. Через несколько секунд припадок кончился, наступила глубокая слабость, на лбу Боннера выступили капли пота, губы покрылись пеной.
– Скорей! – хрипло прошептал он. – Скорей! В дом!
Он пополз было на четвереньках, но Джис-Ук подхватила его своими сильными руками, и с ее помощью ему удалось дойти до склада. Там опять начались конвульсии, она не смогла удержать его, и он в судорогах покатился по полу. Вошедший Амос Пентли с интересом смотрел на происходящее.
– О Амос! – вскричала Джис-Ук вне себя от страха и от сознания своей беспомощности. – Он умирай, а?
Но Амос только пожал плечами и продолжал наблюдать.
Тело Боннера обмякло, судороги прекратились, и на лице появилось облегчение.
– Скорей! – проскрежетал он. Губы его дергались от усилия преодолеть приближающийся припадок. – Скорей, Джис-Ук! Лекарство! Тащи меня! Тащи!
Она знала, что аптечка в глубине комнаты за печью, и поволокла туда за ноги бьющееся в конвульсиях тело. Припадок миновал, и Нийл, превозмогая слабость, с трудом открыл аптечку. Ему приходилось видеть, как в подобных же конвульсиях умирали собаки, и он знал, что надо делать. Он достал флакон хлоралгидрата, но слабые, негнущиеся пальцы не могли вытащить пробку. Это сделала Джис-Ук, пока он снова корчился в судорогах. Очнувшись, он увидел перед собой открытый пузырек, а в больших черных глазах Джис-Ук прочел то, что всегда читают мужчины в глазах женщины-подруги. Он проглотил большую дозу наркотика и, когда миновал следующий припадок, с усилием приподнялся на локте.
– Слушай, Джис-Ук, – сказал он медленно, понимая, что времени терять нельзя, и все же боясь торопиться. – Делай, что я скажу. Останься тут, только не трогай меня. Меня нельзя трогать, но не отходи от меня. – У него начало сводить челюсти, лицо исказилось, но он, сглатывая слюну, пытался справиться с поднимающейся судорогой. – Не уходи и не выпускай Амоса. Понимаешь? Амос должен остаться здесь.
Она кивнула. Припадки следовали один за другим, но становились теперь все слабее и реже. Джис-Ук не отходила от Боннера, но, следуя его наставлениям, не решалась прикоснуться к нему. Амос вдруг забеспокоился и направился было к кухне, но угрожающий блеск в глазах девушки остановил его, и потом только тяжелое дыхание и глухой кашель напоминали о его присутствии.
Боннер спал. Тусклый свет недолгого дня погас. Под пристальным взглядом Джис-Ук Амос зажег керосиновые лампы. Надвигалась ночь. Небо в окне, выходившем на север, расцветилось северным сиянием, затем игра огненных сполохов сменилась мраком. Прошло еще немного времени, и Нийл Боннер проснулся. Прежде всего он убедился, что Амос не ушел, потом улыбнулся Джис-Ук и встал. Тело его одеревенело, каждый мускул болел, и он криво улыбался, ощупывая и растирая поясницу. Затем его лицо приняло суровое и решительное выражение.
– Джис-Ук, – сказал он. – Возьми свечу. Иди на кухню. Там на столе еда: сухари, бобы и бекон. И еще кофе на печке. Принеси все это сюда, на прилавок. Принеси еще стакан, воду и виски. Бутылка на верхней полке в шкафу. Не забудь виски.
Выпив стакан крепкого виски, Нийл начал внимательно просматривать содержимое аптечки, отставляя в сторону некоторые флаконы. Затем он взял остатки пищи и попытался произвести анализ. Когда-то в колледже ему приходилось работать в лаборатории, и он был достаточно изобретателен, чтобы теперь, даже не имея под рукой всего необходимого, добиться своей цели. Характер судорог, которыми сопровождались припадки, упрощал задачу. Боннер знал, что ему следует искать. Исследование кофе не дало результатов, в бобах тоже ничего не было. Особенно тщательно Боннер занялся сухарями. Амос, понятия не имевший о химии, с любопытством наблюдал за его действиями, но Джис-Ук глубоко верила в мудрость белых и особенно в мудрость Нийла Боннера, а потому, зная, что она ничего не знает, смотрела на лицо Нийла, а не на его руки.
Исключая одну возможность за другой, Нийл перешел наконец к последней проверке. Подняв к свету узкий пузырек, который служил ему вместо пробирки, он глядел, как в растворе медленно осаждается соль. Он не произнес ни слова, хотя увидел то, что ожидал. Джис-Ук, не отрывавшая глаз от его лица, тоже что-то увидела. Как тигрица, она кинулась на Амоса и великолепным, сильным и гибким движением опрокинула его навзничь на свое колено. В свете лампы блеснул ее нож. Амос злобно хрипел, но, прежде чем лезвие опустилось, успел вмешаться Боннер:
– Умница, Джис-Ук. Но не надо. Пусти его.
Она покорилась с явной неохотой, и Амос тяжело упал на пол. Боннер толкнул его носком мокасина.
– Вставайте, Амос! – приказал он. – Вы должны сегодня же собраться в дорогу.
– Что это значит?.. – забормотал Амос в ярости.
– Это значит, что вы пытались убить меня, – продолжал Нийл холодным, ровным тоном. – Это значит, что вы убили Бердзола, хотя в Компании и считают его самоубийцей. Меня вы травили стрихнином. Бог знает, чем вы прикончили его. Повесить вас я не могу: вы и так почти мертвец. Но на Двадцатой Миле нам двоим нет места, и вам придется уехать. До миссии Святого Креста двести миль. Если будете беречь силы, – доберетесь. Я дам вам провизии, нарты и трех собак. Держать вас под замком здесь смысла нет: из здешних мест вам все равно не выбраться. Я оставляю вам один шанс. Вы на краю могилы. Ладно. Я ничего не сообщу Компании до весны. Вот вам срок, чтобы умереть. А теперь – живо!
– Ты ложись спать, – настаивала Джис-Ук, когда Амос растворился в ночи. – Ты больной еще, Нийл.
– А ты хорошая девушка, Джис-Ук! – ответил он. – И вот тебе моя рука. Но тебе пора домой.
– Я тебе не нравлюсь, – сказала она просто.
Он улыбнулся, помог ей надеть парку и проводил до двери.
– Слишком нравишься, Джис-Ук, – сказал он тихо. – Слишком!
Но когда покров арктической ночи еще плотнее окутал землю, Нийлу Боннеру пришлось убедиться, что в свое время он слишком мало ценил даже угрюмое лицо умирающего убийцы Амоса. На Двадцатой Миле воцарилось полное одиночество. «Ради бога, Прентис, пришлите мне кого-нибудь!» – написал он агенту Компании в Форт Гамильтон, находившийся в трехстах милях вверх по реке. Через шесть недель посланный индеец вернулся с лаконичным ответом: «Дело дрянь. Отморозил обе ноги. Самому нужен. Прентис».
Еще хуже было то, что большинство тойатов ушло в глубь страны вслед за стадом карибу и Джис-Ук ушла с ними. Чем дальше она была, тем ближе казалась, к воображение Боннера постоянно рисовало ее то на стоянках, то в пути. Плохо быть одному. Часто он без шапки выбегал из тихого склада и грозил кулаком светлой полоске в южной части неба, означавшей день. А холодными, ясными ночами он выскакивал на мороз и вопил во всю силу легких, бросая вызов тишине, как будто она была живым существом и могла принять этот вызов. Иногда он кричал на спящих собак, пока они не начинали выть. Одного косматого пса он поселил в доме, играя в нового помощника, присланного Прентисом. Он пытался приучить собаку спать ночью под одеялом и есть за столом, как человек. Но она, этот прирученный потомок волков, не желала подчиняться, пряталась по темным углам, рычала и укусила его за ногу, так что в конце концов он ее побил и изгнал.
Потом Нийлом Боннером овладела страсть к анимизации. Все силы природы превращались в живые существа и вступали в общение с ним. Он заново создавал первобытный пантеон, воздвиг алтарь солнцу и жег на нем свечное сало и свиной жир, а на неогороженном дворе, у кладовой на сваях, вылепил снежного черта и дразнил его, гримасничая, когда ртуть замерзала. Конечно, это была игра. Он снова и снова убеждал себя в этом, не зная, что безумие часто выражается в притворстве перед самими собой и в игре.
Однажды, в середине зимы, на Двадцатую Милю заехал отец Шампро – иезуитский миссионер. Боннер накинулся на него, втащил в факторию, обнял и расплакался так, что священник сам заплакал из сочувствия. Затем Боннер безумно развеселился и устроил роскошный пир, клянясь, что не отпустит гостя. Но отец Шампро торопился к Соленой Воде по неотложным делам– своего ордена и уехал на следующее утро, напутствуемый угрозами Боннера, что его кровь падет на голову священника.
Он был уже близок к осуществлению этой угрозы, но тут после долгой охоты вернулись на зимнее становище тойаты. Мехов было много, и на Двадцатой Миле закипела оживленная торговля. Джис-Ук приходила за бусами и яркими тканями, и Боннер постепенно вновь обретал себя. Целую неделю он боролся. Затем, как-то вечером, когда Джис-Ук собралась уходить, наступил конец. Она еще не забыла, как ее отвергли, а в ней жила гордость Спайка О'Брайена – гордость, гнавшая его открыть сухопутный Северо-Западный проход.








