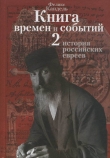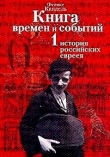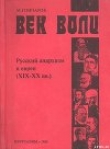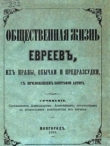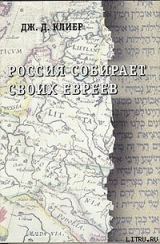
Текст книги "Россия собирает своих евреев"
Автор книги: Дж. Клиер
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В 1782 г., согласно упорному желанию Екатерины добиться того, чтобы члены городских сословий в действительности жили в городах, началось переселение купцов и горожан в Олонецкой губернии (где, между прочим, евреев не имелось)[255]255
Гессен Ю.И. Евреи в России… С. 289—290.
[Закрыть]. Тогда и власти двух белорусских губерний под началом Пассека принялись за такое же переселение. Поначалу закон применялся как к христианину, так и к еврею, но вскоре все начинание свелось к попытке переселить, главным образом, евреев. Эти мнимые горожане были оторваны от своих сельских дел и водворены в городские центры, слишком маленькие, чтобы вместить их физически или позволить войти в экономическую жизнь. В то же время помещики лишились своих традиционных агентов и посредников, что грозило тяжелыми последствиями для экономики сельских районов.
Пассек руководил и проведением в жизнь других законов, касающихся евреев. 3 мая 1783 г. в Белоруссии вступила в силу инструкция о винокурении, целью.которой было установление хоть какого-то контроля за производством спиртного. Им занимались все слои общества, и даже духовенство не составляло исключения. Инструкция разрешала винокурение в сельской местности только помещикам. В крупных и мелких городах разрешение распространялось на городские сословия при наличии контроля со стороны муниципальных властей, чтобы доходы поступали как на нужды города в целом, так и на потребности магистратуры[256]256
Закон о производстве спиртного снова демонстрирует разницу в законодательстве в отношении внутренних земель России и нерусских областей. В Великорусских провинциях действовала совершенно иная система. Она описана в статье: Le Donne J.P. Indirect Taxes in Catherine's Russia. П. The Liquor Monopoly / / JGO. 1976. Vol. XXTV. P. 173—207. Е.К.Анищенко посвятил целую главу своей книги проблемам, связанным с правом на пропинацию, в которой показал, как евреи оказались в гуще борьбы за контроль над ней между дворянами-помещиками и городскими сословиями. (Черта… С. 45—59).
[Закрыть]. Таким образом, в поместьях только их владельцы могли производить спиртное, что в таких местах, как Белоруссия, где рынок был недостаточно развит для реализации излишков зерна, служило желанным и весомым финансовым подспорьем. При этом в инструкции ничем не ограничивалась свобода землевладельцев использовать это право по своему усмотрению. Поэтому шляхта и магнаты как и прежде сдавали свои права в аренду евреям, тем самым поддерживая их занятия винокурением и розничной торговлей алкоголем. Пассек же, напротив, понял этот закон таким образом, что члены сословий, не получивших прав на винокурение, не могли заниматься им даже в качестве арендаторов, и принял меры для пресечения подобной деятельности. В итоге подобного истолкования закона те евреи, которых еще не успели переселить в города, – а начинание такого рода и не могло осуществиться достаточно быстро, – оказались лишены средств к существованию. Польские помещики Белоруссии с радостью встретили подтверждение своей торговой монополии, данное им инструкцией 3 мая, но негодовали из-за потери своих еврейских факторов – мастеров на все руки. Так что когда евреи обратились в Сенат с жалобой на действия Пассека, они, вероятно, опирались, по крайней мере, на молчаливую поддержку польского дворянства.
У евреев был и еще один повод жаловаться на Пассека: он сквозь пальцы смотрел на начавшиеся нарушения их политических прав. В белорусских городах участие евреев в выборах городских должностных лиц – бургомистров, ратманов (членов муниципальных советов), судей сословных судов – вызвало неудовольствие и протест со стороны христианского купечества и мещанства. Это противостояние вполне понятно, если учесть давнюю традицию экономического соперничества христиан с евреями, обостренного религиозными и социальными предрассудками. Провинциальные власти, стремясь сохранить спокойствие в обществе, самостоятельно ввели особую формулу для таких выборов: в городках, где евреи составляли большинство населения, вводился институт выборщиков для участия в избрании городских должностных лиц, а в тех городах, где евреи большинства не имели, не было и выборщиков. Это, как и следовало ожидать, привело к неравному представительству евреев в выборных органах. В таких городах, как Витебск, где большинство жителей были евреями, ни один еврей не прошел на муниципальную должность[257]257
Гессен Ю.И. Евреи в России… С.208. Основываясь на неполных данных статистики по Могилевской губернии за 1785 г., Е.К.Анищенко определил, что на муниципальные должности здесь было избрано 27 евреев. (Черта… С.90). Ю.И.Гессен за тот же период зафиксировал, что 25 евреев находились на муниципальной службе в Могилевской губернии и четверо – в Полоцкой. (Там же. С. 208—209).
[Закрыть].
В ответ на эти нарушения еврейские общины Белоруссии направили в Санкт-Петербург делегацию во главе с влиятельным витебским купцом Цалкой Фаибишовичем. В делегацию входили еще двое купцов, Абрам Йоселевич и Ицка Мовшович, а также секретарь полоцкого кагала Израэль Бейнашович. Они привезли с собой верительные письма от 18 кагалов, которые подписали 388 человек. Этот шаг оказался очень удачным, Файбишовича и Йоселевича даже пригласили предстать перед Сенатом на заседании 11 ноября 1785 г., где рассматривалась петиция белорусских евреев[258]258
Анищенко Е.К. Черта… С. 92—93. Один из ценнейших источников по истории борьбы белорусских евреев за сохранение их привилегий – переписка русских чиновников, хранящаяся в НИАРБ, ф. 2567, on. 1, д. 70,71.
[Закрыть].
Обращаясь с этим ходатайством, руководство кагалов имело в виду три мотива. Во-первых, они желали прекращения переселений, явно шедших вразрез с интересами евреев сельских районов и угрожавших благополучию евреев, уже живших в городах. Во-вторых, они надеялись защитить экономические позиции евреев и даже по возможности их укрепить. Представители евреев просили в Санкт-Петербурге не только разрешить их соплеменникам брать в аренду права на винокурение, но и приобретать их. За эту привилегию они предлагали принести государству большие доходы. В-третьих, общинная верхушка стремилась улучшить положение евреев, приписанных к городским сословиям, добившись представительства для тех, кто не имел своих представителей в выборных органах. Было признано, что лишь получив представительство в сословных судах, евреи смогут рассчитывать на справедливость в своих торговых конфликтах с христианами. Стремление евреев участвовать в этой деятельности имело чисто экономическую подоплеку, а вовсе не отражало желание установить более тесные связи с христианским большинством. По сути, руководство кагалов твердо намеревалось отстаивать свою традиционную власть, и потому просило Сенат о сохранении особых еврейских судов для решения гражданских дел между евреями – ведь эти суды некогда были важной составной частью автономии еврейских общин в Польше[259]259
Следует отметить, что лидеров хасидского движения в Белоруссии встревожило то, что русские власти «пошли навстречу евреям, чтобы в некоторых вопросах уравнять их, от чего Боже упаси, с христианами». Рабби Менахем Мендль предостерегал своих последователей от участия в выборах на государственные должности или от занятия постов в муниципальном управлении. (Fishman D. Op.cit. P. 116).
[Закрыть].
Общинное руководство хотело также получить гарантии сохранения одного из главных рычагов власти в кагале – права раскладывать подати на всех членов общины. Еще петиция преследовала давнюю цель еврейских купцов – добиться равного с русскими торговцами права проживания и торговли в Риге, крупном портовом городе. И наконец, Файбишович выдвинул персональные финансовые претензии к витебским властям, не выполнявшим свои обязательства с 1773 г.[260]260
Анищенко Е.К. Черта… С.93.
[Закрыть].
Петиция еврейских общин против Пассека привлекла более пристальное внимание к рассмотрению жалоб евреев. 26 февраля и 10 марта 1785 г. Екатерина предложила Сенату рассмотреть эти накопившиеся жалобы, напомнив при этом, что на основании ранее принятых законов к евреям следует относиться «без различия расы или веры». Сенат изучил материалы по делу, для чего ознакомился с петициями, адресованными евреями императрице, с докладом Пассека о предпринятых им шагах, с мнением губернаторов Могилева и Полоцка и с информацией, сообщенной еврейской депутацией. Таким образом, были полностью представлены все стороны конфликта. В результате последовал пересмотр ряда принципиальных законов о евреях, хотя в них затрагивались только специфические проблемы, вставшие перед администрацией Белоруссии, а не весь корпус русского законодательства в отношении евреев. И все же постановления Сената обеспечили дальнейшее упорядочение статуса евреев перед законом. Они могут рассматриваться как неотъемлемая часть того течения законодательной мысли, которое стремилось к созданию в России правового государства. Правовое государство представлялось политической системой, основанной на письменном своде законов, дарованных монархией разным сословиям[261]261
См. Raeff M. Origins of the Russian Intelligentsia. N.Y., 1966. P.103.
[Закрыть]. В то же самое время некоторые из заключений, выработанных Сенатом, препятствовали формулированию ясного и четкого определения статуса российского еврейства.
Неудивительно, что для начала Сенат отверг предложение выкупать личные права на винокурение. Сославшись на постановление от 3 мая 1783 г… Сенат объявил, что в сельских районах только землевладельцы обладают правами на производство спиртного. При этом Сенат напомнил евреям, что все подданные, приписанные к городам (как, предположительно, и обстояло с евреями), наравне с горожанами-христианами пользуются финансовыми благами, поступающими в города от доходов с торговли спиртным. Но если было сочтено, что Пассек прав, запрещая евреям самостоятельно заниматься производством и продажей водки, то, как признал Сенат, ему не следовало ни препятствовать помещикам отдавать в аренду их права, ни пытаться регулировать эти действия. Евреям, располагавшим законной арендой, даже если они были зарегистрированы как горожане, нельзя было мешать заниматься своим делом. Поскольку инструкция от 3 мая была составлена во вполне ясных выражениях, то Сенату оказалось не так уж трудно прийти к такому заключению. Само по себе это решение было, вероятно, нацелено не столько на умиротворение евреев, сколько на успокоение тех встревоженных помещиков, которые лишились бы доходов, оставшись без помощи энергичных посредников-евреев. Но хотя в этом случае, как и позднее, российское правительство было вынуждено терпеть такое положение, оно все равно всегда неодобрительно смотрело на то, какое множество евреев занято в торговле спиртным. Большинство проектов реформирования в будущем было направлено на перемещение евреев в другие, более «полезные» профессии.
Вопрос о переселении евреев нельзя было решить столь же просто, потому что здесь Пассек явно оказался в полном согласии с духом и буквой закона в том виде, в каком он претворялся в жизнь в других губерниях. Тем не менее Сенат признал необходимость какого-то компромисса, ведь было вполне очевидно, что в большинстве городов евреи скорее всего не смогли бы найти ни жилье, ни работу. И тут Сенат нашел новаторское решение, никогда еще не применявшееся в отношении христиан, которых также ожидало переселение. Вовсе не нужно, сказали в Сенате, чтобы власти переселяли евреев «без времени». Вместо этого надо разрешить евреям – обладателям законно действующих паспортов, выданных кагалом, «временное проживание» в сельской местности при условии, что они будут и дальше платить все причитающиеся с них налоги. Но если это решение и позволило на какое-то время снять проблему, то в будущем оно оказалось неудовлетворительным. Несколько раз центральные власти приходили к заключению, что переселение евреев уже больше не является преждевременным (нередко это решение принималось в качестве карательной меры), хотя все обстоятельства, препятствовавшие их переселениям в 1785 г., сохранялись и впоследствии.
Решимость правительства продолжать линию на интеграцию общества видна по тому, как подошел Сенат к системе самостоятельных еврейских судов, на сохранении которой настаивало руководство кагалов. Такие суды дали бы старейшинам мощные рычаги контроля над общиной и способствовали бы укреплению автономии еврейства. Сенат отказался пойти на эту уступку, опровергнув тем самым обещания, косвенно выраженные в указах 1772 и 1776 гг. Сенат счел, что евреи не нуждаются в отдельных судах, поскольку на них распространяется действие Городового уложения 21 апреля
1785 г. Из этого следовало, что евреи вправе избираться в бургомистры и советники магистрата (коллективный орган, наделенный обширными полицейскими полномочиями), в городские комитеты, или думы, «в равной пропорции со всеми другими группами». Итак, в решении Сената 1785 г. открыто провозглашалось то, что лишь подразумевалось в Городовом уложении. Евреи как отдельная группа ни разу не упоминались в Городовом уложении, но в этом документе особо оговаривались права нерусского населения христианского вероисповедания (католиков и др.) – там шла речь о полной веротерпимости в отношении к этим людям, об их праве присягать по своим обычаям и т. п. Сенат отмел все сомнения в том, могут ли евреи пользоваться такими же правами и нести те же обязанности. Согласно мнению Сената, особые еврейские суды являлись излишними, потому что евреи получили возможность обращаться в обычные суды, где их должны были судить на их собственном языке, согласно статье 127 Городового уложения.
Последнее решение вызывает некоторое недоумение. Статья 127 полностью звучит так:
«Буде в городе 500 семей или более поселившихся иногородних или иностранных, то Городовой магистрат дозволяется составить половину из российских, а другую из иностранных, то есть: число российских бургомистров и ратманов остается как ныне, а иногородним и иностранным дозволяется избрать столько же, и сих последних присовокупить к первым, и судить им всякие дела, вступающие в Городовой магистрат, российским по-российски, а иностранным на своем языке, (то же самое разумеется и о цехах)»[262]262
ППСЗ. Т.ХХП. No. 16 188. 21 апреля 1785 г. С. 379—380.
[Закрыть].
Ссылаясь на эту статью. Сенат явно имел в виду последнее ее положение, по которому евреи могли рассчитывать на судопроизводство на родном языке. Но на каком основании статья 127 вообще могла быть приложима к евреям? Выше, в статье 124, Городовое уложение гласило, что свободное отправление религиозного культа «дозволяется иноверным, иногородним и иностранным». Эти категории, по-видимому, обозначали: неправославных, уже проживавших в определенных городах, местных уроженцев, не принявших православие; нерусских, которые переселились из одного русского города в другой (хотя термин «иногородний» сам по себе не имел ни религиозного, ни национального значения); иностранцев. То обстоятельство, что в положения статьи 127, в отличие от статьи 124, термин «иноверные» не включен, является не только вопросом семантики. Отсутствие этого слова предполагало, что положения статьи 127 распространялись на евреев потому, что в правовом отношении они рассматривались в качестве иностранцев, а не потому, что они и так обладали предусмотренными статьей 127 правами наряду с православными подданными нерусского происхождения, на которых распространялось действие статьи 124. Это наблюдение над содержанием Городового уложения приобретает решающее значение, если взглянуть на него в комплексе с другим постановлением Сената того времени – об отказе евреям в разрешении записываться в купечество в Риге, так как на это «особого Высочайшего повеления нет, без коего Сенат поступить на сие не может»[263]263
Там же. No. 16 391.7 мая 1785 г. С.599.
[Закрыть]. Иными словами, несмотря на все заверения в противном, евреев все еще можно было рассматривать коллективно, как отдельное сословие. Если бы каждый из них числился «купцом» или «мещанином», а не «евреем», тогда такое понимание было бы невозможно: в этом случае он обладал бы законным правом регистрироваться в любом городе империи, получив внутренний паспорт, необходимый для переезда.
Именно такая двусмысленность, присущая некоторым статьям Городового уложения, и позволяла русским администраторам как тогда, так и впоследствии неправильно толковать права, данные евреям законом[264]264
Кизеветтер А.А. Городовое положение Екатерины II 1785 г. М., 1909. См., например, путаницу с терминами «мещанин» и «мещанство» на с. 35—38,87. Кизеветтер отмечает (с. 321), что некоторые пункты «Положения» были до того двусмысленны и неясны, что для их понимания требовались новые законодательные установления.
[Закрыть]. Так, в петиции, направленной в Сенат в 1802 г. евреями Каменец-Подольска, говорилось, что бывший военный губернатор Волыни и Подолии, И.В.Гудович, однажды разрешил местным евреям занять половину выборных должностей в местечках, где они проживали. Сделал он это на том основании, что по статье 127 Городового уложения такое представительство было позволено иностранцам[265]265
Бершадский С.А. Положение о евреях 1804 г. // Восход. 1895. T.XV. No.6. С. 45—55.
[Закрыть]. Таким образом двусмысленность закона породила «ложный прецедент» – вполне законный с виду правовой прецедент, который позже был опровергнут как основанный на неверном прочтении исходного намерения законодателей. Сенат в 1786 г. ввел это постановление, а Гудович его «развил» – либо идя по стопам Сената, либо в свою очередь неверно поняв статью 127. После 1802 г. этот прецедент более не учитывался, и в правление Александра I евреев определенно уже не считали иностранцами[266]266
По наблюдению М.Кулишера, иностранцы, ставшие российскими подданными, не принимая православие, в XVIII в. всегда имели возможность покинуть страну, внеся какую-то плату, на основании указов 1763 и 1784 г. Это значит, что в сущности они сохраняли своего рода статус иностранцев. В 90-е гг. курляндским евреям некоторое время разрешали покидать губернию на тех же условиях, но вскоре это право было отменено. См.: Кулишер М.И. История русского законодательства о евреях в связи с системой взимания налогов и отбывания повинностей//ЕС. 1910. Т.2. С.475.
[Закрыть].
Мысль о том, что евреи – это иностранцы, никогда не выражалась прямо, однако связанный с ней законодательный подход к евреям как к особой группе населения, которой все запрещено, если специально не разрешено, был реальностью, что подтвердила сама Екатерина в 1791 г. Это положение прочно вошло в российское законодательство. Некоторые историки увидели в нем исходную точку для появления целого свода дискриминационного законодательства, обрушенного на евреев в XIX в.[267]267
Как утверждает Н.Д. Градовский, эта неверная интерпретация закона Сенатом стала «произвольным и опасным прецедентом» (Градовский Н.Д. Торговые и другие права евреев в России. СПб., 1886. С.80).
[Закрыть]
Однако в России рассматриваемого времени положение евреев не являлось чем-то особенным. Западные концепции сословных привилегий, не говоря уже о «естественных правах», не были отражены в законодательной традиции России, где существование государства зависело от усиленной эксплуатации всех ресурсов страны и населения. Государством устанавливались как привилегии, так и обязанности всех сословий, и переход подданных из одного сословия в другое не поощрялся. На перемену места проживания индивидуальных членов того или иного сословия также смотрели с неудовольствием. Отдельная группа населения могла заниматься каким-либо видом хозяйственной деятельности только по предписанию государства, и наоборот, все, что не было официально разрешено, воспринималось как запрещенное[268]268
Pipes R. Origins… P. 14; Madariaga I.de. Russia… P.79.
[Закрыть]. Поэтому избранный Сенатом подход к евреям был направлен на прочное закрепление их в системе русского законодательства. Отрицательная сторона подобного подхода проявилась лишь со временем, а остальные решения Сената по поводу евреев можно рассматривать как сознательное стремление удовлетворить их требования и поощрить их постепенное вхождение в российское общество.
Если Сенат постановил, что городские общинные суды должны взять на себя светские функции религиозных судов еврейских общин – «бет дин», то одновременно он позволил продолжать деятельность «бет дин» в вопросах обрядности и ритуала. Учитывая характер еврейского общества, в котором религиозные предписания часто оказывали воздействие на различные сферы мирской жизни, это было все-таки лучше, чем ничего, с точки зрения интересов верхушки кагала. В будущем враждебные к евреям русские публицисты даже сетовали на то, что «бет дин» продолжает без помех осуществлять все свои прежние функции. Сенат еще больше укрепил власть старшин кагала, позволив им самостоятельно, как было раньше, раскладывать все подати на членов общины, за исключением твердого однопроцентного налога с объявленного дохода купечества. С точки зрения Сената такая уступка являлась лишь очередной попыткой привести управление евреями в соответствие с положением других общин. Соглашаясь на просьбу евреев. Сенат отметил, что сходная система распределения налогов была разрешена казакам, мещанам и государственным крестьянам на Украине. Благодаря этому главы кагала сохранили важное экономическое орудие воздействия на непокорных членов общины.
Для того чтобы поощрить евреев к вхождению в жизнь России, Сенат также провозгласил отмену всех польских законов, проводивших различие между христианами и евреями, чем в известном смысле нарушил обещания, данные польскому обществу в 1772 г. (о том, что все существующие привилегии сохранятся в полной мере). Таким образом, в постановлении Сената 1786 г. мы видим переплетение разнородных тенденций, отражающее неустойчивую позицию правительства в делах, касающихся евреев, свойственную всему царствованию Екатерины II.
В годы после выхода этого постановления Сената евреи продолжали добиваться преимуществ, обещанных им Городовым уложением 1785 г. Оптимистические заверения Сената в том, что евреи могут участвовать в жизни своих сословий наравне с христианами, мало-помалу стихали перед лицом традиционной враждебности коммерсантов-поляков к евреям, особенно острой потому, что экономическое соперничество подхлестывалось религиозным противостоянием. Всего заметнее это проявилось на местных выборах. Например, в 1786 г. канцелярии генерал-губернатора Белоруссии пришлось вмешаться в ход выборов магистратов белорусских городов, чтобы обеспечить избрание евреев. В июне того же года, когда было объявлено постановление Сената, представители кагалов жаловались, что в Витебске не только отказывают евреям в избрании, но даже силой прогоняют еврейских выборщиков с избирательных собраний[269]269
Гессен Ю.И. История еврейского народа в России. Т. 1. С. 56—57.
[Закрыть]. Пытаясь успокоить христианское большинство, генерал-губернаторы раз за разом сокращали еврейское представительство в выборных органах своими административными распоряжениями[270]270
Эта тенденция сохранялась и в следующем столетии, когда еврейское представительство уменьшилось до одной трети от числа выбранных христиан согласно «Положению о евреях», изданному в 1835 г. CM.:Stanislawski М. Tsar Nicholas I and the Jews. Philadelphia, 1983.
[Закрыть].
Хотя все это происходило в далеких от столицы провинциях, но отражало постепенную перемену в отношении русских властей к евреям. В 70-е гг. XVIII в. существовала еще определенная терпимость в отношении евреев. В то время правительство занималось, в основном, наведением порядка внутри страны и пополнением казны. В 80-е гг. делались неоднократные попытки соединить евреев с существующими русскими сословиями. В 90-е гг., в период второго и третьего разделов Польши, в состав империи вошло гораздо более многочисленное и разнородное еврейское население. В то же самое время российские власти начали разочаровываться в значимости экономической деятельности еврейских купцов из Белоруссии. На этом фоне, как только появилась возможность, чиновники не замедлили вспомнить прецедент, согласно которому евреи купеческого сословия пользовались сословными привилегиями только там, где они имели право проживать согласно предписанию властей[271]271
Е. К. Анищенко сообщает, что на протяжении 80-х гг. XVIII в. власти боролись с деятельностью сети фальшивомонетчиков, подделывавших ассигнации, с центром в Шилове. В ней были замешаны некоторые российские дворяне и чиновники, среди которых не последнее место занимал бывший фаворит императрицы и владелец местечка, С.Г.Зорич, однако почти всю вину за это возлагали на их еврейских факторов. (Черта… С. 97—114). Расследование этого дела, которое особенно активно велось в 90-е гг., способствовало подрыву веры властей в экономическую выгоду, приносимую евреями, и в их честность как партнеров по коммерции.
[Закрыть].
В начале 1790 г. руководство московского купечества развернуло кампанию против еврейских купцов, ведших дела в городе. Представители купечества в прошении на имя московского главнокомандующего генерал-аншефа П.Д. Еропкина подчеркивали, что они поступают так «…не из какого-либо к ним в рассуждении их религии отвращения и ненависти», но потому, что «…по хитрым их во всем предприимчивостям, и известным всему свету сродным им лжам и обманам, не могли понесть от них всеобщего здешней торговли расстроения и совершенного упадка»[272]272
Фельдман Д. Московское изгнание… С. 175.
[Закрыть]. Обратившись к прошлым постановлениям о евреях, в том числе к сенатскому указу 21 января 1786 г. и к последовавшему в 1789 г. решению о запрете на проживание евреев в Смоленской губернии, купечество заявило, что закон не дает им никаких оснований жить в Москве. А раз так, то всякий еврей, приписавшийся к московскому купечеству, мог это сделать только с помощью незаконных ухищрений.
Далее, в документе евреи обвинялись в том, что, записавшись в купечество, они нарушали все правила, регулирующие коммерческую деятельность: по всему городу незаконно торговали в розницу, вели дела в неразрешенных местах, славились умением надувать кредиторов, и русские люди, павшие жертвой обмана, разорялись и не могли прокормить семьи. Мало того, еврейские купцы тайком привозили с собой своих соплеменников, из-за чего их становилось в городе все больше и больше. Русские купцы жаловались на то, что евреи были опасными конкурентами, так как продавали дешевле свой, якобы контрабандный, товар. Они представляли угрозу для денежного обращения в стране, так как портили монету или незаконно вывозили ее за границу. В прошении особенно злокозненным и ловким из евреев назван Нота Хаимов, который «… введя себя у публики разными ухищрениями и подлогами в знатный кредит и выманя чрез то у многих здешних купцов в долг товаров ценою до пятисот тысяч рублев все оные выпроводил в разные, им только одним известные места, а потом и сам со всем тем явно похищенным столь важным капиталом из Москвы скрылся за границу, оставя по себе следы жалостного многих купеческих домов разорения; из которых некоторые с печали померли, оставя бедных жен и детей без всякого пропитания, а прочие, пишась всего собранного многолетними трудами имения и кредита, сделались банкротами и лишились невинно честного имени гражданина»[273]273
Там же. С. 172—175. Нота (Хаимов) Хаимович, больше известный как Нота Ноткин, был купцом из Белоруссии и государственным подрядчиком. Затем он выступал как информатор русского правительства по проблемам российского еврейства. См. статью о нем: Еврейская энциклопедия. T.XI. С. 801—802.
[Закрыть].
Эти обвинения были столь серьезны, что встревоженные московские власти приняли меры. 14 февраля 1790 г. губернская администрация запросила сведения о численности евреев в Москве и об обстоятельствах их включения в купечество, а также рапорт о деятельности Ноты Хаимова и сводку действующих правовых постановлений, включая те, которые запрещали евреям приписываться к рижскому и смоленскому купечеству[274]274
Фельдман Д. Московское… С.177. По полицейским донесениям, в марте 1790 г. еврейское население Москвы состояло из 49 взрослых мужчин, восьми женщин и двенадцати детей. Только трое из них состояли в первой купеческой гильдии (там же. С. 187—189).
[Закрыть].
Как ив 1784 г., евреи поспешили защитить себя. Одним из тех, кто занялся этим, был Цалка Файбишович, в 1785 г. возглавлявший депутацию евреев Белоруссии, направленную в Сенат. В петиции, подписанной шестью еврейскими купцами, шла речь в защиту евреев в целом и, в частности, их экономической деятельности в России. Подписавшие этот документ твердо отстаивали свою честь и осуждали своих русских соперников за применение оскорбительного термина «жиды» и за утверждение о наличии у евреев «развращенных нравов». Они писали, что евреям стыдиться нечего: «…святой наш закон и предание суть явны и всему свету известны, яко они основаны на любови к Богу и к ближнему, по правилам десятери заповедям Господним; и поелику Старый Завет есть предзнаменование, свидетельство и основание святости Нового Завета…»[275]275
Там же. С.184.
[Закрыть]. Авторы петиции предлагали собственное толкование сенатских постановлений, утверждая, что содержащиеся в одном из них слова: «без различия закона и народа» позволяют евреям жить и торговать по всей Российской империи. Если московские купцы заявляли, что в порядочных государствах не терпят евреев, то их оппоненты утверждали как раз обратное. Так, писали они, процветание Голландии доказывает, какие выгоды приобретает государство, проявляющее терпимость к евреям. Что же до якобы свойственного им стремления к закулисным маневрам, то евреям прятать нечего, а потому они и записались в московское купечество открыто и без обмана: «…невзирая, что бороды, одеяние, даже и имена наши ощутительно доказывают каждому наш род и закон». С другой стороны, говорилось в петиции, в случае изгнания евреев российская торговля и финансы могут понести серьезный ущерб[276]276
Там же.
[Закрыть].
Задача сделать выбор между этими двумя противоположными точками зрения выпала на долю президента Коммерц-коллегии графа А.Р.Воронцова. В конце 1790 г. он представил в Сенат записку по вопросу о еврейских купцах. В своих рассуждениях Воронцов исходил из двух основных идей – о законности и о пользе. Он попытался дать обзор законов, регулирующих проживание евреев в России, и оценить с точки зрения государственных интересов выгодно ли будет разрешить евреям вступать в купеческое сословие внутренних губерний. Воронцов был согласен с тем, что Плакат 1772 г. разрешил евреям жить в границах империи. Но вспомнил он и роковой прецедент, согласно которому евреи могли проживать и вести дела только на специально разрешенных территориях. Это, напротив, исключало допуск евреев во внутренние российские губернии.
Как гласит пословица, «закон что дышло…» – если бы Воронцов нашел полезным продвижение евреев в глубь страны, то можно было бы ожидать и «специального разрешения» на это. В своем окончательном решении Воронцов опирался на аргументы обеих спорящих сторон. Он согласился с мнением еврейских истцов, утверждавших, что опыт Голландии свидетельствует о пользе, приносимой евреями принявшему их государству. Однако граф разделил евреев на две группы, существенно отличающиеся друг от друга. Он писал, что в Лиссабоне, в Амстердаме и в Лондоне живут так называемые португальские евреи. «Но такие евреи, какие известны под названием польских, прусских и немецких жидов, из числа которых состоят все живущие в Белоруссии и выезжающие из Польши и Кенигсберга, совсем другого роду и производят торги свои, так сказать, как цыганы – со лжею и обманом, который и есть единым их упражнением, чтоб простой народ проводить». В итоге, Воронцов целиком и полностью согласился с негативной оценкой экономической деятельности евреев. Он принял известные доводы дворянства западных пограничных земель, которое, борясь за монополию на винокурение, сваливали вину за крестьянскую нищету и пьянство на еврейскую торговлю спиртным. Воронцов согласился с тем, что евреи стоят за спиной всех контрабандистов и фальшивомонетчиков Российской империи. И потому, конечно, не могло быть и речи о том, чтобы допустить подобный народ в сердце российского государства[277]277
Там же. С. 189—193.
[Закрыть].
Располагая таким обвинительным актом. Совет при Высочайшем дворе 7 октября 1790 г., естественно, пришел к заключению, что закон не позволяет этому народу селиться во внутренних губерниях. В императорском указе, последовавшем 23 декабря 1791 г., была опущена отрицательная оценка коммерческой деятельности евреев как основание для запрета на их расселение во внутренних губерниях. Указ просто ссылался на уже известный прецедент сенатского решения 1786 г. Правда, пилюлю подсластили, включив Екатеринославское наместничество и Таврическую область в число территорий, где евреи могли проживать и пользоваться всеми правами российских подданных согласно сословной принадлежности[278]278
ППСЗ. Т. ХХIII. No. 17 006. 23 декабря 1791 г. С.287.
[Закрыть].
Указ 1791 г. стал краеугольным камнем системы еврейской черты оседлости. По мере своей эволюции в XIX в. черта оседлости становилась откровенно дискриминационным сводом законов, ограничивавших места проживания евреев теми провинциями России, которые были в свое время захвачены у Польши, и Новороссией. (Царство Польское, где действовало иное законодательство о евреях, никогда не входило в черту оседлости). Тем самым были приняты меры по сохранению внутренних губернии России свободными от еврейского населения. Но и в рамках черты оседлости евреев ждали впереди новые и новые ограничения. В разные периоды им запрещали селиться ближе пятидесяти верст от границы, заниматься определенными профессиями, владеть землей. В 80-е гг. XIX в. в результате очередных правовых модификаций черты оседлости евреи должны были покинуть сельскую местность. Черта оседлости, несомненно, представляла собой самую репрессивную и тягостную составную часть всего корпуса российских законов, направленных на ограничение прав евреев[279]279
См.: Lestchinsky Y. The Economic Background of the Jewish Pale of Settlement // He-Avar. 1952. Vol.1. P. 31—44 (иврит); Maor Y. The Pale of Jewish Settlement // He-Avar. 1972. Vol.XIX. P. 35—53 (иврит).
[Закрыть]. Указ 1791 г. имел громадные последствия, поэтому для нас чрезвычайно важно выяснить, какими мотивами руководствовалось правительство, издавая его.
Необходимо подчеркнуть, что намерения Екатерины и ее советников, как доказывает обсуждение этого вопроса в высших государственных учреждениях, не были продиктованы недоброжелательностью к евреям. Екатерина усиленно поощряла и поддерживала зарождающееся сословие российских коммерсантов, чему примером служит ее закон 1785 г., предусматривающий для них многочисленные привилегии и льготы. Как раз такое купеческое сообщество, какое хотели видеть власти, и существовало в Москве, так что едва ли власти могли бы допустить здесь конкуренцию со стороны еврейских купцов, способную расшатать позиции московского купечества. Уже сами законы, направленные на регулирование экономической жизни страны, доказывали веру Екатерины в способность государства развивать и контролировать экономику. Недопущение еврейских купцов в Москву и было таким регулирующим актом. Их деятельность оказалась под запретом не потому, что они евреи, а в силу нежелательности конкуренции[280]280
Точно так же, как Екатерина уступила рижским купцам, когда они в 1763 г. попросили разрешить евреям жить в Риге, так и теперь она решила не допускать евреев туда, где их присутствие причиняло неудобства (архив Государственного совета. Т. 1.4.2. СПб., 1869. С. 365—368).
[Закрыть]. С другой стороны, экономические соображения, вызвавшие этот запрет, облекались в привычные формы – обвинения евреев в недобросовестности, торговле контрабандными товарами и в изготовлении фальшивых денег. Так предрассудки переплелись с практическими интересами.