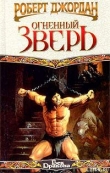Текст книги "Конан и призраки прошлого"
Автор книги: Дункан Мак-Грегор
Жанр:
Героическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Глава 5
Сумрачно было на душе стрелка. Качаясь в повозке и сквозь дыру в подгнившей от старости материи поглядывая на волю, он был спокоен внешне, но внутри него гремела настоящая буря. Барабаны и трубы, то вопящие отчаянно, то скулящие, то заходящиеся в стоне – страшная музыка мятущейся души – разрывали его, кровь толчками билась в его голове, а руки сковывала судорога. Он потихоньку щипал свои запястья, вонзал ногти в кожу, и судорога отступала – но ненадолго. Спустя лишь несколько мгновений страдания возобновлялись.
Этей давно уже понял, что серьезно болен. Знающий врачеватель еще мог бы помочь ему, но на лечение времени не было совсем. До Митрадеса оставалось всего ничего – скоро балаган прибудет в Тарантию, а там можно и расслабиться… Стрелок лукавил сам с собой: расслабиться он уже не мог. Теперь и воспоминания – вторая, истинная жизнь Этея – являлись ему словно в тумане. Расплывчатые черты Белит и Гарета не выражали ничего, кроме скуки. Казалось, никакими откровениями он уже не может вызвать в них интерес. Даже Гарет, который имел все основания ненавидеть аквилонского короля, не желал обсуждать планы мести. В конце концов стрелок оставил мертвых в покое, лишь по привычке иной раз вызывая в памяти их лица. И только Конан неизменно представал перед ним в своем настоящем обличье – таким, каким Этей и помнил его: могучий воин огромного роста с гривой черных, вечно спутанных волос, с глазами цвета ясного неба, кои так часто сверкали опасным насмешливым блеском…
Этея снова бросило в пот. Он медленно обтер лицо и шею ладонью, сунул нос в дыру – окошко на волю, и стал вдыхать свежий воздух: размеренно, глубоко, с тихой и несколько безумной радостью ощущая, как проникает он во все поры, во все внутренности, в душу. И наслаждаясь этой игрой, которая для него означала несколько лишних мгновений жизни, он не забывал еще и еще раз представлять себе короткую, но великолепную сцену гибели аквилонского короля, продуманную им до мельчайших подробностей, до единого жеста – стрела, несущая Смерть, легкий трепет привязанных к ней веселых пестрых лент, бурлящая и смердящая толпа, размалеванные физиономии собратьев-лицедеев, и там, дальше, суровое лицо короля и последняя мысль – может быть, догадка? – промелькнувшая в его синих глазах; затем сильные пальцы Этея ласково сжимают тонкое упругое тело стрелы и…
Как прекрасно! Он всегда любил красоту, и даже там, где другие видели лишь боль и кровь, страдания и смерть, он замечал величие, исходящее от высоких небес. А небеса те, находящиеся, по мнению стрелка, далеко за огненным шаром солнца и уж гораздо дальше облаков, образовывали собою твердь и являлись истинными хозяевами Мира.
Этей твердо верил, что руку его, сулящую Конану быструю смерть, направляют именно высокие небеса, ибо им только ведомо, что есть настоящая справедливость. Месть – занятие, достойное избранных. В том же, что он, стрелок, избранный – он не сомневался и на миг, а потому каким-то краешком души завидовал королю, которому высокие небеса предоставили честь уйти на Серые Равнины красиво, от руки особо назначенного убийцы, а не пасть в бою самым примитивным образом, как погибают тысячи тысяч… Взор Этея затуманился: он и себе желал уйти красиво, но, по всей вероятности, ему предназначена иная участь. Вряд ли он надолго переживет Конана. Разъяренная толпа разорвет и растопчет его, стоит только хоть одному ублюдку заметить, из чьей руки вылетела смертельная стрела. А заметить это отнюдь не трудно… Тело Этея, послушное мозгу как самый преданный раб, съежилось, словно сторукая толпа уже вонзила в него свои железные пальцы, и судорога вновь сковала члены. Стрелок попытался представить лицо Белит – только она могла облегчить страдания, – но вместо прекрасных черт увидел безобразную маску, грубо размалеванную яркими красками и налепленную на чье-то бледное, проглядывающее сквозь прорези для глаз лицо; что это было – Этей не знал, но страх одолел его наконец. Он судорожно вдохнул глоток спертого воздуха и без сознания свалился на мешки.
* * *
Наутро балаган за несколько медных монет переправился через широкую, но местами совсем мелкую реку Хорот, и спустя некоторое время очутился в небольшом городке Притимус, стоящим на самой границе баронства Атталус. Первый же встречный – местный житель, напуганный повелительным окриком Леонсо, обстоятельно поведал лицедеям историю бывшего здешнего правителя барона Диона Толстого: сей муж, кузен короля Нумедидеса, с пеной у рта осыпал проклятьями опального родственника и уверял соратников Конана в своей незыблемой преданности новому владыке; он даже публично принес ему присягу и со слезами умиления успел облизать его сапог, пока стража не оттащила чувствительного барона и не выкинула за дверь. Впоследствии же оказалось, что Дион Толстый был одним из Четырех Мятежников, совершивших посягательство на драгоценную жизнь короля, так что вместо богатого баронства он стал хозяином крошечной сырой камеры в Железной Башне. Но Атталус, против ожидания, в отсутствие правителя не захирел; более того, возобновилась торговля с соседними графствами, бывшими в длительной ссоре с Дионом Толстым, а крестьяне, коим налог тут же был снижен, быстро оправились от нужды и впервые за многие годы получили отличнейший урожай.
Вот что узнали лицедеи от местного жителя, остановленного Леонсо у ворот Притимуса. Наконец он закончил и, потрясенный до глубины души бурными аплодисментами, увенчавшими его рассказ, удалился. Лицедеи же удрученно смолкли. Что делать им, нищим, безродным и бездомным, в этом богатом и красивом месте? Где лица у людей не бледны, но гладки, где одежды их прочны, а поступь уверенна…
Мадо почесал впалую грудь. Тусклые, словно вареные голубые глаза его вдруг возбужденно блеснули. Он торжествующе оглядел собратьев, поникших головами, и объявил:
– Богатенький городишко, парни! Есть чем поживиться, а?
– Да-а-а, – глубокомысленно поддержал его Сенизонна. – Может, попрыгаем здесь? Самую малость?
Леонсо вздохнул. Неудачи преследовали последнее время его труппу. Вновь получать насмешки, плевки, а то и палки не хотелось. Недаром они решили поберечь силы до Митрадеса – там можно заработать столько, сколько хватит им всем, чтобы вполне безбедно прожить две, а то и три луны… Если, конечно, отказаться от пива и тем более от вина… Но как беречь силы, когда нечего есть? Кому нужны на празднике вялые и унылые лицедеи с зелеными от недоедания физиономиями? Леонсо с жалостью посмотрел на рыжего Мадо, истощавшего и уставшего до такой степени, что у него не хватало сил даже на обычные истерики; на бледного как куриное яйцо Агрея, простуженного в дороге – приступы кашля мучили его беспрестанно, и все же улыбка, хотя и кривая, не сходила с его губ; на Михера, что нахохлился словно петух на насесте, у которого зажарили всех его кур; на нытика Сенизонну, вечно вымаливающего себе как особо талантливому лишний кусочек; на милое добродушное лицо Велины, увы, давно утратившей свой чудный мягкий румянец на смуглой чистой коже…
– Ну вот что, псы! – решительно сказал Леонсо. – Жрать нам надо? Надо! Пива нам хочется? Хочется! Играт! Гони на площадь! Сейчас мы повеселим этих жирных ублюдков!
– Повытрясем из них денежки! – радостно взвизгнул Мадо.
– Повыпотрошим кошельки, – пробасил Зазалла.
– Только если они будут бросать в меня камни… – обиженно начал Сенизонна, но его уже никто не слушал.
Трясясь в повозках, каждый представлял себе со всей силой воображения роскошный обед, оплаченный монетами из толстых кошельков атталусских богачей. Один уже заказывал – конечно, пока мысленно – хозяину харчевни бараний бок с бобами, другой поглощал – тоже мысленно – жареных перепелов, запивая их ароматным пивом, третий отламывал нежные кусочки осетрины, капризно меняя розовое бритунское вино на красное стигийское, а красное стигийское на белое аргосское… Желание было так сильно, что в воздухе, казалось, заплавали чудесные запахи яств; лицедеи заволновались, криками стали подгонять своих возниц – даже бледные физиономии их несколько порозовели в ожидании пиршества; а то, что попировать здесь можно было на славу, не подлежало сомнению: улицы пестрели вывесками харчевен и кабаков, зазывалы шныряли туда-сюда, трещотками и протяжными воплями привлекая внимание прохожих…
Наконец Играт, который правил первой повозкой, остановил клячу на небольшой круглой площади, вымощенной черным плоским булыжником. По всей видимости площадь эта являлась излюбленным местом прогулки горожан, ибо сейчас по ней взад и вперед праздно болтались местные сливки общества, презрительным шипением отгоняя стайки оборванных ребятишек. Два фонтана на западной и восточной сторонах – несомненно, краса и гордость Притимуса – в форме неправильных треугольников, выложенные черным с серебряными нитями мрамором, использовались предприимчивыми горожанами как колодцы: лицедеи сразу заметили, что к ним то и дело подходят люди с кувшинами, бутылками, ведрами за чистой, прозрачной водой, невысокой струей бившей из открытых пастей неведомых животных, чем-то напоминающих морских коньков. Кроме фонтанов на площади не наблюдалось никаких построек – ни дворца, ни храма, – и это лицедеев вполне устраивало.
Глаз Митры светил высоко в ясном небе; мягкие теплые лучи его ровно ложились на землю, матово поблескивали на черном камне, вспыхивали крошечными разноцветными огоньками в струях фонтанов. Местные жители, утомленные этой, почти что вечной красотой своего края, лениво разгуливали, обдуваемые мягким свежим ветерком, и втайне мечтали о грозе с сильным ливнем, или о снегопаде, который так надоел гиперборейцам, ванам и прочим северным народам, или хотя бы о паре холодных деньков. На самом-то деле баронство Атталус после потери Диона Толстого оказалось вдалеке от очагов восстаний и междоусобиц, так что жители его, не привыкшие к покою, просто-напросто умирали от скуки. А потому внезапное появление балагана было подобно здесь землетрясению.
Широко раскрыв глаза горожане окружили повозки и с нескрываемым любопытством следили за действиями лицедеев, кои молча и угрюмо (ибо пустые желудки их подвывали на разные голоса) сдирали ветхую материю, разукрашенную то ли цветами, то ли звездами, обнажая дырявый дощатый пол своего пристанища на колесах. Вскоре две составленные вместе повозки образовали некий помост, на который с вымученной улыбкой взобрался Михер, весь увешанный трубками, дудками и красными лохмотьями, долженствующими обозначать веселый наряд шута. Он набрал полную грудь воздуха, покраснев при этом словно петушиный гребень, и вдруг заревел – так оглушительно, так грозно, что не все из стоявших в первых рядах смогли удержаться на ногах.
Надо сказать, что лицедеи не меньше горожан были удивлены выходкой собрата. Его роль заключалась в том лишь, чтобы поприветствовать почтеннейшую публику, воздать хвалу «алмазу Аквилонии» (то есть тому городу, в котором проходило выступление; в данном случае – Притимусу), а затем представить следующего – Мадо, и тот дивной трелью упоенного любовью соловья усладил бы тонкий слух благороднейших господ. Увы, Михер ревел подобно быку, может быть, тоже упоенному любовью, но уж никак не способному усладить чей бы то ни было слух.
Онемевшие лицедеи наконец опомнились – слава Митре, прежде, чем опомнились горожане, – и ценой неимоверных усилий стащили пинающегося и кусающегося колобка с помоста. Пока собратья засовывали Михеру в рот кляп, состоящий из его собственных красных лохмотьев, Мадо занял его место и… Никогда еще местные жители не слышали столь удивительного искусства. Рыжий, по обыкновению закатив глаза, цокал, стрекотал, пел; голос его то вздымался вверх, переливаясь на самых высоких нотах, то опускался, гудя и клокоча гдето меж горлом и языком.
Но вот песня кончилась, но не оборвалась, а плавно перетекла в иные миры – далекие, неизведанные, и потому манящие… Раскаты грома послышались вдали, завывания могучего северного ветра, с каждым вздохом приближающегося к светлой и теплой Аквилонии, грозящего нарушить покой, смести до основания маленький Притимус… Горожане невольно задирали головы вверх, с удивлением наблюдая там совершенно чистое голубое небо без единого, даже самого легкого облачка.
Затаив дыхание, слушал своего любимца Играт. Вот Мадо прервал и звуки грядущей бури, изобразив тихий плеск волн у берега. Но… что же случилось на этом берегу? Зарывшись в песок, там спит усталый воин. Сон его неспокоен – то и дело он всхлипывает, ворчит, стонет. Ему привиделся бой! Воинственный клич издает он, и – в тот же миг уже наяву его настигает враг. Резкий взмах клинка, удар!.. И предсмертный хрип воина заглушает торжествующий шепот его врага…
Мадо умолк. Крупные капли пота скатывались по его бледному веснушчатому лицу. Криво ухмыльнувшись, он фиглярски раскинул в стороны тонкие руки, низко, до полу склонился перед почтеннейшей публикой, и соскочил с помоста. Горожане взорвались ликующим воплем. Воистину им не приходилось до сих пор наблюдать подобное искусство! На рыжего посыпался медный дождь, в котором посверкивало и золото – многие бросали монеты горстями, в экстазе выгребая из кошелька все, что там было, а те, у кого денег не оказалось, швыряли лицедею куртки, пояса, шапки…
– Уважаемая публика! – возопил красный от удовольствия Леонсо. – Уважаемая публика! Представление еще не окончено!
Он толкнул кулаком Зазаллу и тот, ухватив за рукав Улино, целующего со слезами на глазах Мадо в рыжую макушку, кряхтя, полез на помост. Постепенно восторженные крики стихли; горожане, уже позабывшие про возмутительное выступление колобка, с нетерпением ожидали следующего номера. Представление, начавшееся так неудачно, продолжалось.
* * *
– Ах, Мадо, Мадо, – укоризненно сказал Леонсо, смакуя розовое офирское вино. – Ну отчего ты не всегда так хорош? То, чем ты порадовал нынче этих недоносков, право же, достойно королей.
– Он мог бы запросто прокормить нас всех, – пробурчал Агрей, которому не удалось выступить, ибо кошельки притимусцев были уже пусты и они благодарили лицедеев одними ликующими воплями, кои в кабаках вместо платы за ужин не принимают.
– Ленивец! – сурово подвел черту толстяк Гуго.
– Пес смердящий… – как всегда злобно зашипел Сенизонна. – Только и умеет, что свиристеть… Недоумок.
– А! – беззаботно махнул рукой Мадо, не обратив внимания на выпад грустного красавца. – Нынче получилось, а завтра и слова вымолвить не смогу. Ты же знаешь меня, Леонсо…
– Почему же Агрей всегда может вертеться колесом и гнуться подобно змее? А Зазалла с Улино всегда могут глотать огонь и швыряться друг в друга булыжниками величиной с твою голову? Нет, Мадо, все же Гуго прав. Ты – ленивец!
– Грязные козлы! – разозлился рыжий. – Жрут на мои деньги и меня же мешают с дерьмом! А ну, толстяк, отдавай кость! И пиво тоже! А ты, болван, – он вытаращился на невозмутимо грызущего петушиную ногу Сенизонну, – выкатывайся отсюда к Нергалу!
– Успокойся, Мадо, – буркнул Гуго, забирая обратно свою кость и кружку с пивом.
– Пес смердящий… – с удовольствием повторил Сенизонна, наслаждаясь петушиной ногой, которую он и не подумал отдать Мадо.
– А ну, тихо! – прикрикнул Леонсо, останавливая готовый разгореться скандал.
Мадо зашипел, но все же смолк, бросая на собратьев разъяренные взоры. В порыве злобы он потихоньку ущипнул Играта за колено – тот сдавленно пискнул, не посмев, тем не менее, обвинить рыжего, – и лишь после этого несколько успокоился.
Сенизонна же, для которого не было ничего слаще, чем сцепиться с ближним своим, разочарованно хмыкнул.
– Ну, псы? – потирая руки, заявил Леонсо. – Переночуем в этом гостеприимном городишке и на рассвете – в путь!
Разморенные обильной пищей лицедеи встали из-за стола, позевывая, с сожалением глядя на остатки собственного пиршества. И лишь Сенизонна не тратил чувств – он без зазрения совести собрал в свой мешок не до конца обглоданные кости, кусочки хлеба, сгреб с тарелок бобы в соусе, с отвращением облизывая перепачканные пальцы; давясь, допил из кружек пиво и вино, рыгнул, и поспешил за собратьями, кои уже покинули кабачок, с наслаждением окунувшись в свежий сумрак только что наступившей ночи.
* * *
Впервые за много дней и ночей желудок стрелка был набит до отказа, и не сухими корками, подобранными на дороге, а самыми настоящими яствами, что за целую кучу меди принес на их стол расторопный хозяин. Но если бы кто знал, какими неимоверными усилиями удалось Этею запихать в себя такое количество отличной жратвы! Не один раз бросало его в пот при мысли, что вот сейчас он подавится и умрет, не свершив задуманного – он напрягал все силы, сохраняя беспечный вид, и через силу глотал, явственно ощущая, как царапает кусок воспаленное горло.
Наконец пытка завершилась; лицедеи вышли на улицу, где уже царила благословенная тьма, и ночная прохлада приняла спутников в свои мягкие объятья. Покачиваясь, Этей шел рядом с проклятыми лицедеями, не упускавшими возможность пошутить – как обычно, глупо и не вовремя. Едва сдерживая стоны, стрелок вяло огрызался; голова его вновь начинала пухнуть, грозя взорваться горячими искрами, сжечь мозг… Он с трудом вскарабкался в повозку, свалился на пол и, притворяясь спящим, тихо засопел. Остальные быстро последовали его примеру, и вскоре балаган храпел в четырнадцать глоток, заставляя редких прохожих в изумлении шарахаться в стороны.
Только сейчас Этей смог открыть глаза и позволить себе немного расслабиться. И в это самое мгновение знакомая фигура возникла перед ним во мраке. Нет, то была не Белит, другая. С детства посещала она стрелка, пугая и одновременно обещая нечто, о чем Этей и догадываться не смел. Руки ее плавно мазнули по его лицу – так, как капля дождя задевает щеку, пролетая мимо… Белые слепые глаза уставились в точку меж его бровей и он почувствовал там легкое жжение. Замерев, стрелок впустил в себя это тепло, и оно сразу разлилось в его голове, прояснив жалкие однообразные мысли, разворошив прошлое, пробудив воображение… Вместо призрачной фигуры перед Этеем предстала женщина, чья кровь и плоть ощущалась кожей; он внюхался, с детским любопытством вдыхая ее горячий запах, и вдруг прильнул к ней всем телом, желая истинной – только истинной – любви, той, какой у него никогда еще не было…
Но и то оказалось ложью, а может, миражом – как все в прошлой и настоящей жизни стрелка. С тихим смехом женская фигура вновь обратилась в полутуман и растаяла, оставив после себя лишь горячий, но быстро остывающий запах. На долю мига мелькнуло в той же тьме чистое лицо Белит – она с грустью посмотрела на растерянную глупую физиономию лицедея и, конечно, исчезла. А что ей было делать в вонючей повозке рядом с потными телами шутов и смешным неудачником… Смешным? Нет. Страшным. Диким. Грязным. О, Эрлик!.. Этей вытер слезы, отчего-то полившиеся из глаз, и лег. Но и сон – единственный праздник в его земном существовании – не приходил, чтобы дать облегчение. Стрелок с ужасом почувствовал приближающуюся боль. Тонкими иглами она легко касалась его тела, обещая вот-вот вонзиться безжалостно…
Он прикусил губу и медленно начал вытягивать одну ногу, другую… Не получилось… Судорога мгновенно сковала его от кончиков пальцев до самых плеч. Чувствуя, как от боли готово лопнуть сердце, стрелок сел, впился ногтями в подошвы, потом в щиколотки, в икры… И в тот момент, когда от невыносимой пытки он уже почти перестал дышать, боль прошла. Не веря, Этей осторожно пошевелился – тело его было свободным и легким, как во времена юности… Но радоваться он не спешил; напротив, раздражение вдруг охватило его – высоким небесам угодно посмеяться над своим рабом? Что же… Стрелок спохватился, ругая себя за мерзкий характер. Проклятья, готовые сорваться с его уст, не произнеслись. Да он и так позволил себе слишком много! Даже за миг неповиновения его могут лишить великой чести отомстить ненавистному варвару! О, Эрлик… И неужели до сих пор он не привык к насмешкам? Стрелок с силой ударил себя в подбородок, с наслаждением очищения ощутил резкую боль, и вновь свалился на пол, обуреваемый сейчас лишь одним желанием – спать.
Глава 6
Конан очнулся от резкой боли в ладони левой руки. Он поднял голову, встряхнув взмокшими от крови прядями черных волос, разлепил ресницы и с удивлением посмотрел на свою ладонь, в самой середине которой зияла черная дыра. Алые струйки стекали по шершавой коже, капали на земляной пол и земля быстро всасывала кровь, оставляя на поверхности лишь темное влажное пятно.
Выругавшись, он оторвал зубами от рубахи клочок тонкой ткани, сложил его и прижал большим пальцем к ране. Он знал уже, что последует сейчас, но, как истый варвар, не желал и не умел бессмысленно, тоскливо ждать – любви, сражения, пытки, смерти, – чего угодно, а потому, выкинув из головы всякие бесполезные мысли, он решил основательно осмотреться, определить, где он находится, и затем уже решить, что делать.
Серые мрачные стены, изъеденные сыростью, низкий потолок, сплошь усеянный черными лепешками непонятного происхождения, маленькая – словно вход в нору – деревянная дверь, повисшая на одной петле и потому снаружи припертая чемто тяжелым, рассохшиеся бочки в углу – без сомнения, нынешнее пристанище короля было самым обыкновенным подвалом. Не раз за свою прошлую жизнь ему доводилось отлеживаться или скрываться в подобных мрачных, но вполне надежных подземельях. Но как он оказался здесь? Может, какой-то сердобольный хауранец после боя на площади приволок его сюда?
Вспомнив бой, Конан невольно застонал. Старый крючок был прав: ничего нельзя изменить в прошлом. Но как научиться жить так, чтобы потом и не хотелось ничего менять? Пожав плечами, король ответил сам себе тем, что смачно сплюнул на пол; затем он рывком поднялся на ноги и пошел к двери – давно пора отыскать меира Кемидо и вернуться в настоящее. Кром! А что еще ему делать здесь? Вновь испытывать муки распятого на кресте? Зачем? Весь этот бардак уже случился десять лет тому назад! Всему свое время… Но не успел Конан сделать и пары шагов, как ладонь его правой руки пронзила страшная боль. Вот и еще одно послание из прошлого… Он вздрогнул, остановился – на миг в глазах потемнело; стиснув зубы, киммериец помянул все конечности Нергала, коими, по его мнению, являлись проклятые наемники-шемиты, оторвал еще один клочок от рубахи и им зажал новую рану.
Он отлично помнил палящее солнце (именно таким, каким оно и было в тот день десять лет назад) – глаз благого Митры, который мог быть не только мягким, светлым и теплым, но и равнодушным, но и жестоким; он помнил и мертвую пустоту вокруг, и собственное бессилие, и ощущение холода от мрачной стены Хаурана за его спиной; и ухмыляющиеся физиономии шемитов, прибивавших его к кресту, и мерзкую улыбку Констанция – возвышаясь на коне в окружении своих воинов, закованных в броню, он с нескрываемым удовольствием наблюдал за муками распятого варвара. А в небе в ожидании легкой добычи уже кружились стервятники. Они опускались все ниже, в нетерпении открывая кривые клювы и пронзительно каркая, и Конану казалось, что он слышит их запах – гнилостный, нестерпимо едкий – запах разлагающейся плоти… Да, тогда его спас Гарет – предводитель шайки зуагиров, но спас для себя: в бою киммериец стоил дюжины крепких воинов, а его выносливость, присущая скорее зверю, нежели человеку, делала Конана воистину бесценным.
… И снова из ладоней брызнула кровь. Король стряхнул ее и сел на земляной пол, так как теперь гвозди должны были вонзиться в его ноги. Он кожей почувствовал, как поднимается заросшая черными вьющимися волосами шемитская рука с зажатым в кулаке молотом и… Лоб его и спина мгновенно взмокли от пронзительной боли, левый сапог наполнился горячей кровью и Конан, вцепившись зубами в ворот куртки, чтобы не прокусить губу, стащил его, с проклятьями отбросил в сторону. Теперь надо было снять и другой, ибо рука палача уже взяла последний, четвертый гвоздь…
Дернувшись, он принял и этот удар. Перед глазами поплыли круги, в мутной черноте которых король узрил вдруг крест, а на нем – себя самого; распятый, в одной лишь набедренной повязке, он с дикой ненавистью смотрел на Констанция и его приспешников, жалея о том только, что прежде собственной смерти не успел отправить на Серые Равнины грязную кофитскую тварь, предательством завладевшую властью в Хауране… И как сквозь сон расслышал киммериец клекотанье и свист крыльев стервятников, жаждущих крови и плоти пленника. Сжав кулаки, он издал утробный звериный рык, поднялся и сделал неуверенный шаг к двери – он все еще плохо видел, ослепленный то ли болью, то ли ненавистью, а скорее всего, и тем и другим. Сырая земля вожделенно впитывала в себя кровь, стекающую с его израненных рук и ног, а сверху, с потолка, на голову и плечи короля капала иная влага – мутная, белая, вонючая… Но холодные капли эти, казалось, оживили Конана. Глаза вновь стали четко различать узор, сотворенный на стенах сыростью, и черные щели в бочках, и низенькую дверь…
Король замер, уставившись на дверь, которая медленно, осторожно кем-то приоткрывалась… Миг – и в зияющей за ней пустоте появился вдруг огромный, полный печали карий глаз.
– Мгарс… – выдохнул киммериец, сам не понимая, из каких глубин его памяти возникло это странное имя.
Дверь распахнулась под отчаянным толчком чьих-то слабых рук и перед Конаном предстала смуглокожая девушка с роскошными волосами цвета перезревшего каштана. Гибкая и подвижная словно ящерица, в одной лишь легкой светлой тунике, она порывисто кинулась к королю, прижалась к нему всем телом, обдав чудным цветочным запахом…
– Мгарс… Он вспомнил ее. Тогда, десять лет назад, он любил ее два дня и две ночи – как раз перед тем, как ведьма Саломея отдала Хауран на растерзание шемитам. Может быть, потому и всплыли в памяти те горячие деньки в небольшом домике Мгарс – каменной одноэтажной коробке на отшибе города… Она говорила ему о себе, о своей любви к нему, о… Впрочем, она предпочитала все же любить его на деле, а не на словах. Но тот рассказ ее Конан тем не менее вспомнил в один миг, хотя ни разу за прошедшие годы не думал о нем.
Мгарс была дочерью зембабвейского князька М'Вааху, безраздельно правящего огромной территорией, сплошь населенной уродливыми черными туземцами. Мать ее, белокожая красавица-туранка из разграбленного и перебитого каравана, недолго мучилась в плену у нелюбимого супруга, у коего была тридцать шестой в грязном, жарком и душном гареме. Когда зеленая лихорадка пронеслась по Зембабве, она тихо угасла, а за ней, так же тихо, без слез и жалоб, ушли на Серые Равнины еще тридцать три жены М'Вааху, оставив того всего с двумя, к тому же самыми некрасивыми, злобными, старыми женами. Но и князек вскоре после этих событий закончил свой земной путь: он был утоплен в ревущем и коварном Стиксе шайкой иранистанцев, так что маленькая Мгарс оказалась, повторяя судьбу матери, в плену; насмешки, побои, тяжелая работа от зари и до ночи – все это было знакомо ей не понаслышке. Чудом оказалась она свободна: внезапно почил ее последний хозяин – хорайский купец Валазий. Воспользовавшись суматохой, царившей в ночь его смерти в громадном и мрачном доме, девушка сбежала, в страхе не взяв с собой ничего, кроме пары потрепанных сандалий. Уже в Хауране у Мгарс появился богатый покровитель, который в благодарность за любовь и ласку посулил, а затем и в самом деле подарил ей небольшой, но милый и уютный домик на окраине города. Здесь и познакомилась смуглокожая красавица с капитаном гвардии королевы Тарамис – Конаном-киммерийцем.
Вся эта история в один миг, равный всего лишь вздоху, промелькнула в памяти короля. Он еще крепче прижал к себе Мгарс, с наслаждением вдыхая аромат ее волос, и тихо проворчал:
– Кром… Кажется, ты спасла меня, девочка?
– Я не знала… – шептала она, щекоча губами его обнаженную грудь. – Не знала, жив ли ты, мой господин… Я нашла тебя недалеко от моего дома, возле храма Митры…
– Как же ты приволокла меня сюда?
– О-о-о… – простонала девушка. – Мне страшно даже вспоминать об этом. Я хотела нанять кого-нибудь, чтобы донести тело моего любимого, но… Никто не пожелал! Кругом паника, шемиты рыщут по городу в поисках раненых… Пришлось перекатить тебя на мою накидку и тащить по улицам, прячась в канавы при виде псов в сверкающих шлемах…
– Считай, что ты вернула мне долг.
Конан чуть отстранился, заглянул в глаза Мгарс и там гневные огоньки, блеснувшие при ее последних словах в темной, почти черной глубине, тут же сменились веселыми; девушка улыбнулась, склонила головку, лукаво глядя снизу вверх на огромного киммерийца, затем, не в силах сдержать ликования, подпрыгнула, чмокнула его в твердую щеку и, вдруг снова посерьезнев, вздохнула, прижалась к его груди. Сердце Конана дрогнуло: он не знал, что будет с этой девушкой потом, когда…
В тот год Хауран то и дело будоражили слухи о зверских убийствах, чинимых шайкой головорезов под предводительством некого Халимсы Шестипалого. Жертвами бандитов обычно оказывались нобили, купцы, богатые торговцы, ростовщики – словом, те, кого простым людям было не так уж и жалко, если бы однажды страх не коснулся и их сердец. В одну только ночь Халимса Шестипалый просто так, ради удовольствия, перерезал половину ремесленного квартала, где жили лишь бедняки, едва способные прокормить себя и семью. Зачем? Законопослушные граждане – нищие, имущие, знатные, безродные – все задавались этим вопросом и все, не находя ответа, навешивали на свои двери новые запоры и замки. Но бандитов уже ничто не могло остановить. Наглые и прежде, а теперь и вовсе одуревшие от сознания собственной безнаказанности, они начали нападать на людей среди бела дня; они врывались в дома, совершали налеты на базары, громили лавки и кабинеты блондов – законников, вершивших праведный суд за небольшую мзду… Таким образом оказалось немало людей, собственными глазами видевших и Халимсу, и его головорезов.
Шестипалого описывали по-разному, но в основном так: низколобый гигант с длинными, почти до пояса, грязными жидкими волосами, заросший черной и, в отличие от волос, густой шерстью. Обликом своим он напоминал гориллу: руки – длинные, тощие, что выглядело весьма странно при могучем торсе; ноги кривые, короткие, но необычайно толстые, крепко сидящие в жирном, обвислом заде, толстых пальцев на каждой руке по шесть, и все кривые, как крючки. Только по поводу физиономии свидетели не имели согласия. Одни говорили, что нос Халимсы длинный и тонкий, как у благородного нобиля, губы – узкие, бледные, глаз изза жирных щек почти не видно. Другие считали нос его огурцом, к тому же пупырчатым, губы толстыми и всегда мокрыми, а глаза узкими, как у кхитайца. Третьи и вовсе полагали, что у Шестипалого не было носа и губ, а только глаза да жирные щеки.