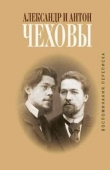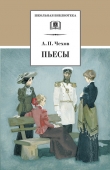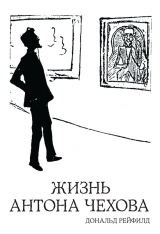
Текст книги "Жизнь Антона Чехова (с илл.)"
Автор книги: Дональд Рейфилд
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Невысокого мнения о родителях Чехова был и Ежов. Побывав у них в гостях на Пасху, он позже вспоминал: «Раз Чехов, за чаем, говорил своим знакомым: „Знаете, господа, у нас „кухарка женится“! Я бы с удовольствием пошел с вами на свадьбу, но страшно: гости кухарки напьются и нас бить начнут!“, „А ты бы, Антоша, – заметила мать, – им свои стихи прочитал; они и не станут нас бить!“ Чехов, уже издавший тогда книгу „В сумерках“, вдруг нахмурился и сказал: „Моя матушка до сих пор думает, что я пишу стихи!“»[157]157
См.: Ежов Н. М. А. П. Чехов // Ист. вестник. 1909. № 11 С. 595–607.
[Закрыть]
Скорее всего, это было правдой – родители никогда не читали рассказов Антона, да и мало что видели из его пьес. Возмущаясь беззащитностью Чехова перед домочадцами, Ежов в то же время не мог скрыть своей зависти. Ему ворчливо вторил и Грузинский: «Антон Чехов странный: по его словам, в Петербург съездить ужасно легко (он и меня звал в Посту). О деньгах он, благодаря своему таланту, имеет какие-то превратные понятия. <…> Спросил меня, сколько я получаю у Лейкина: „Мало, мало, ужасно мало <…> Я – 70–80, однажды даже 90“. А я и за 40 благодарю».
В компании знаменитостей Антон чувствовал себя лучше. На Масленицу в Москву пожаловал Плещеев; она совпала с днем его ангела, и он в честь праздничка объелся именинным пирогом. Антон призвал на помощь коллегу, доктора Оболонского, и вместе с ним врачевал скорбного животом поэта. Обещал приехать и Суворин – его «Татьяна Репина» продержалась на сцене гораздо дольше чеховского «Иванова». Но вперед себя он выслал Чехову балалайку (без единой струны)[158]158
По воспоминаниям Л. Марковой, Чехов называл Анну Ивановну Суворину бесструнной балалайкой, т. е. пустой болтушкой.
[Закрыть] и несколько его портретов, сделанных у известного петербургского фотографа Шапиро. Следом прилетела телеграмма от Анны Ивановны: «Муж выехал сейчас Москву не забудьте его встретить веселите его и забавляйте хорошенько но не забывайте в то же время и меня»[159]159
ОР. 331 59 46. Письма А. И. Сувориной А. П. Чехову. 1887–1901.
[Закрыть]. Суворин пробыл в Москве недолго, однако привязанность его к Чехову крепла, и вскоре прервавшуюся было переписку с Антоном наладил и Дофин. О евреях он больше не заговаривал, но совершенно в духе «Нового времени» стал превозносить до небес политического авантюриста Н. Ашинова, втянувшего Россию в международный скандал в Абиссинии. Чехов не без смущения признался, что кое-кого из участников духовной миссии знает лично[160]160
В Обоке к Ашинову присоединился отец Паисий, который когда-то работал в саду у Митрофана Егоровича Чехова, и доктор Цветаев, с которым Чехов познакомился в Воскресенске. Попав под обстрел французов, часть миссионеров пересекла Даникильскую пустыню и присягнула на верность абиссинскому императору.
[Закрыть]. Дофин также сообщил Антону, что их соседи по даче в Феодосии побывали на «Иванове», где стали свидетелями приключившегося с одной из зрительниц истерического припадка.
«Иванов» принес Чехову около тысячи рублей. «Пьеса – это пенсия», – любил повторять Антон. Настроение у него было мажорное. Как всегда, ложку дегтя подпустил Лейкин, сказав, что доход от пьесы был бы куда больше, если бы она была поставлена подальше от начала Великого поста. Он также не преминул передать Антону жалобы актеров на то, что в пьесе у них было мало возможности уйти «с хлопками» со сцены. Но последней каплей стали принятые им за чистую монету пьяные бредни Пальмина. Антона это рассердило: «Живу уже в Москве почти месяц и за все время ни разу не виделся с Пальминым. Откуда же ему известно, что я истекаю кровью, хандрю и боюсь сойти с ума? Кровохарканье, Бог миловал, у меня не было с самого Питера (было, но чуть-чуть). О хандре не может быть и речи, так как я весел больше, чем нужно. <…> Причин, которые заставили бы меня бояться скорого умопомешательства, нет, ибо водки по целым дням я не трескаю, спиритизмом и рукоблудством не занимаюсь, поэта Пальмина не читаю и безделью не предаюсь».
Пальмин же, когда его призвали к ответу, сказал, что получил эти сведения от Коли. Однако Чехова не столько интересовал Лейкин со своими мнениями, сколько его собаки – он завел себе пару такс, влюбился в них без памяти и пообещал Антону щенков.
Подружившись с семейством Линтваревых, Чеховы решили еще одно лето провести у них на даче. Антон уже продумал своего «Лешего» и намеревался дописать его в «естественных» декорациях – местом действия пьесы он избрал линтваревское имение и реку Псел с водяными мельницами. Писатель Достоевский ввел Чехова в расходы – купив только что вышедший его двенадцатитомник, Антон, по-видимому, прочел его впервые: «Хорошо, но очень уж длинно и нескромно. Много претензий». Шутки ради в подарок Суворину Антон сочинил самую необычную из своих пьес – продолжение «Татьяны Репиной» под тем же названием. У Чехова суворинский герой Собинин, доведший до самоубийства Татьяну Репину, венчается в церкви со своей избранницей, и служба прерывается появлением таинственной незнакомки в черном, которая на глазах у публики принимает яд, «а все остальное предоставляю фантазии А. С. Суворина». Очарование чеховской пародии лежит в смешении обыденной болтовни второстепенных персонажей с возвышенными речениями венчальной службы, которые были хорошо знакомы Чехову с детства. Получив пьесу, Суворин отдал ее наборщикам и велел отпечатать в двух экземплярах – один для себя, другой для Антона.
Чеховский дар игриво чередовать, доводя до абсурда, банальные фразы с серьезными содержит в себе два элемента, характеризующих его зрелую драматургию: бессвязный разговор, звучащий в контрапункт с насыщенными трагизмом репликами, и интрига, завязанная на умершем до начала действия персонаже, о котором мы так и не узнаем всей правды. В чеховской пародии Татьяна Репина оборачивается призраком, и не менее тревожные видения будут преследовать персонажей его последующих пьес: первая жена профессора Серебрякова в «Дяде Ване», полковник Прозоров в «Трех сестрах» и утонувший сын Раневской в «Вишневом саде».
Глава 26
Смерть на Луке
март – июнь 1889 года
Чехов снова решил взяться за роман. Он также совершил таинственную поездку в Харьков – под предлогом поисков имения для Суворина, но, скорее всего, в ответ на приглашение Лили Марковой-Сахаровой. Судя по тому, какими мрачными красками обрисован Харьков в чеховской прозе, поездка не задалась. Пятнадцатого марта, к возвращению Антона, в Москве разыгралась метель: конки остановились, а под окнами намело сугробов. Евгения Яковлевна показала Антону открытку от Коли: «11 марта 1889. <…> Милая мама, болезнь не позволяла мне посетить вас. Две недели назад я сильно простудился: меня трясла лихорадка и отчаянно болел бок. Теперь же, благодаря хинину и разным мазям, я выздоровел и спешу работать, дабы пополнить потерянное»[161]161
ОР. 331 82 16. Открытка Н. П. Чехова Е. Я. Чеховой.
[Закрыть].
Антон определил у Коли брюшной тиф и туберкулез, уже затронувший кишечник. Для подтверждения диагноза он вызвал к Коле врача Н. Оболонского. Коля в то время вновь обретался у Анны Ипатьевой-Гольден, которая подтвердила, что он два месяца не прикасался к алкоголю. В последующие десять дней Антон, уже мечтавший вырваться из Москвы, регулярно навещал истощенного болезнью брата. На дорогу по московской распутице у него уходило четыре часа. В конце концов он перевез Колю к себе на Садовую. Позже, уже находясь на Луке, Коля описывал историю своего спасения таганрогскому приятелю: «Меня лечили два доктора, Антон и ассистент Захарьина Оболонский, очень милый человек. Шесть недель я ничего не ел и походил на скелета <…> Антон дома врал, что он с Оболонским ездят лечить Лину Соломонскую <…> Живя близ Николаевского вокзала, посылал брать бульон. В Великую субботу приехала за мной карета, одели, усадили и повезли к матери в семью. Меня почти никто не узнал. Тут же меня уложили в постель. Под Пасху в 2 часа все разговлялись, крики, шум, пьют вина, и я в стороне лежу отщепенцем. На Фоминой неделе был консилиум с Карнеевским [Корнеевым?] и решено, чтобы я побольше ел, пил водку, пиво, вино и ел бы ветчину, селедку, икру и всего как можно больше, потому что я совершенно здоров и теперь должен отъедаться»[162]162
ОР. 331 82 25. Письмо Н. П. Чехова неизвестному Александру Викторовичу.
[Закрыть].
Роман тем временем «сел на мель». Антон намеревался посвятить его Плещееву: «В основу сего романа кладу я жизнь хороших людей, их лица, дела, слова, мысли и надежды; цель моя – <…> правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. <…> Буду держаться той рамки, которая ближе сердцу <…> Рамка эта – абсолютная свобода человека…» Однако в ближайшее время свободы не предвиделось. Не было и денег, чтобы отвезти Колю в теплые края на излечение, да к тому же больной был беспаспортным. Антон искал утешения в афоризмах стоика Марка Аврелия – его книгу он обильно испещрил пометками.
А между тем веселые деньки наступили для чеховской прислуги – Павел Егорович с Евгенией Яковлевной выдавали замуж кухарку Ольгу. Еще в конце февраля, во время помолвки, кухня сотрясалась от перепляса и рева гармоники, а 14 апреля, несмотря на присутствие в доме смертельно больного Коли, развернулось свадебное застолье. Однако у Антона настроение было далеко не праздничным. Он пригласил Шехтеля попрощаться с Колей, который начал понемногу вставать с постели, а затем отправил Мишу и Евгению Яковлевну на Луку, чтобы там они всё приготовили к приезду больного и его лечащего врача.
Проводив родню, Антон сходил на заседание Общества драматических писателей, после которого, как он писал Н. Оболонскому, «долго стоял у ворот и смотрел на рассвет, потом пошел гулять, потом был в поганом трактире, где видел, как в битком набитой бильярдной два жулика отлично играли в бильярд, потом пошел в пакостные места, где беседовал со студентом-математиком и с музыкантами, потом вернулся домой, выпил водки, закусил, потом (в 6 часов утра) лег, был рано разбужен и теперь страдаю…»
Отослав это письмо, Антон поехал с Колей на вокзал, и в вагоне первого класса они отправились в Сумы. Впервые за долгие месяцы Коля хорошо ел и спал. Через несколько дней вслед за ними выехала Маша, прихватив с собой массу забытых вещей – суконные туфли, струну «ля» для балалайки, бумагу и подрамник для Коли. Невзирая на Колину болезнь (а может, именно по этой причине), множество людей получили приглашение посетить Луку – Давыдов, Баранцевич, виолончелист Семашко, не говоря уже о Ване. По дороге за границу обещал заехать Суворин. Антон признавался ему: «С каким удовольствием я поехал бы теперь куда-нибудь в Биарриц, где играет музыка и где много женщин. Если бы не художник, то, право, я поехал бы Вам вдогонку».
Александр приглашения не получил. Антон строго отписал ему, что самая лучшая помощь Николаю – это деньги. Тем временем Александр предложил Наталье вступить в законный брак – она боялась забеременеть, не будучи замужем. Александра можно считать первым русским мужчиной, который документально засвидетельствовал свой опыт использования противозачаточного средства. На кусочке бумаги, предназначенном исключительно для глаз Антона, он писал ему 5 мая: «P.S. Обуреваемый плотскими похотями (от долгого воздержания), купил я себе в аптеке гондон (или гондом – черт его знает) за 35 коп. Но только что хотел надеть, как он, вероятно, со страху, при виде моей оглобли лопнул. Так мне и не удалось. Пришлось снова плоть укрощать…»[163]163
Купюра в: Письма, 1939.
[Закрыть]
Коля день ото дня слабел и побегов уже не замышлял. Днем он лежал в гамаке или загорал в саду; ел за четверых, но пища не усваивалась, так что его шатало от слабости. Непрерывно кашлял, то и дело ссорился с Евгенией Яковлевной. Безразличие окружающих к его печальной участи раздражало Колю. Антон лечил его креозотом, ипекакуаной и ментолом. Смерть словно коснулась крылом окрестной природы – рыбная ловля и пение птиц утратили свою прелесть. Антон, как мог, старался отвлечься. Как-то раз он видел во сне суворинскую гувернантку мадемуазель Эмили; побывал в сумском театре на спектакле «Вторая молодость»; долгие часы проводил за письменным столом. Уже был закончен первый акт «Лешего» – соответственно плану, намеченному совместно с Сувориным. Центральный герой пьесы, которая впоследствии перерастет в «Дядю Ваню», – врач и помещик, приходящий в восторг от посаженной им березки. Однако действию пока недоставало драматизма. По замыслу, в пьесе должна быть выведена семья Сувориных: пожилой профессор, его вторая молодая жена, его сумасбродный сын, их двое детей, которых зовут Борис и Настя, их французская гувернантка мадемуазель Эмили – все они перенесены на Луку. Чудаки-идеалисты, с которыми сталкивает их жизнь, скопированы с Линтваревых и Чеховых. В самом зачатке пьеса уже была несценична, ибо была широка и глубока, как роман-эпопея. Суворин вскоре отказался от соавторства, но Чехов упорно продолжал работать над пьесой.
Восьмого мая, по пути в более комфортабельную летнюю резиденцию, на Луку пожаловал Суворин. Своим приездом, как и профессор Серебряков в «Дяде Ване», он создал в доме напряженную атмосферу. Линтваревы, будучи убежденными либералами, объявили ему бойкот (что не помешало им позже попросить Суворина прислать в местную школу бесплатных книг). Антон улаживал возникавшие разногласия. Хуже того, Коля стал просить у Суворина аванса за виньетки для книжных обложек (Антон запретил Суворину давать Коле деньги). Тем временем Колина любовница Анна Ипатьева-Гольден откуда-то из Подмосковья умоляла не только Антона, но и самого Суворина помочь ей деньгами и найти работу.
За будущий роман Суворин пообещал Антону 30 копеек за строчку. Поговорив о намерениях купить себе дачу по соседству с Лукой, он вскоре отбыл в Крым. Оттуда он в письмах обсуждал с Антоном роман французского писателя Поля Бурже «Ученик». Суворин поддерживал Бурже в его нападках на ученых-атеистов, проповедников анархии и человеконенавистничества. Антон считал, что читателю роман интересен лишь потому, что он увидел в нем «жизнь, которая богаче его жизни», и автора, который «умнее его»; русский же автор, по мнению Антона, «живет в водосточной трубе, ест мокриц, любит халд и прачек, не знает он ни истории, ни географии, ни естественных наук…». Настроившись на мрачный лад, Антон писал Лейкину о своих мечтах зажить по-человечески: «т. е. когда буду иметь свой угол, свою, а не чужую жену, когда, одним словом, буду свободен от суеты и дрязг…»
Коля терял силы, но душа его рвалась из Луки. Он писал письма с просьбой о помощи и поручениями, но многие из них остались неотправленными. Изящнейшим почерком он начал записывать воспоминания детства. Ему вновь хотелось оказаться на родине: «Мне необходимо побывать по делу в Таганроге и, кстати, покупаться в море. <…> Достаньте мне, если можно, билет от Харькова и Таганрога и обратно <…> Класс билета должен соответствовать моему общественному положению, принимая в расчет мою слабость. За это я Вам пришлю головку женскую, написанную масляными красками (очень мило написано – жалко отдавать) <…> С нетерпением жду письма с „да“ или „нет“, но без „если“ и проч.»[164]164
ОР. 331 82 25. Письмо Н. П. Чехова неизвестному Александру Викторовичу.
[Закрыть]
Ручку и карандаш Коля держал в руках еще крепко: доктору Оболонскому он послал каллиграфический шедевр, проиллюстрировав его изображением летящего на парах поезда и толстого пассажира в купе первого класса.
Миша в письмах к кузену Георгию подробностей о Коле не сообщает. Однако от идеи наведаться в Таганрог ему пришлось отказаться: «Он, бедный, настолько плох, что, право, как-то совестно бросать его». По мере того как Коле становилось все хуже, Миша все меньше обращал на него внимания. Двадцать девятого мая он писал Георгию: «Если бы ты знал, как хороши наши вечера, ты бы бросил все, и дачу, и семью, и тотчас бы приехал к нам! <…> Прибавь к этому еще запах цветущей липы, бузины и жасмина, да аромат только что скошенного сена, которым усеяна наша терраса ради Троицы, да еще луну, точно блин висящую как раз над головой <…> Рядом со мной сидит Маша, только что возвратившаяся из Полтавы, а немного подальше симпатичный Иваненко. Оба читают. В открытое окно из комнат доносятся разговоры Суворина, приехавшего к нам гостить, <…> и Антона. <…> Семашко нанял у нас комнату на все лето, и значит мы будем все лето наслаждаться музыкой».
В конце мая на Луку приехал неугомонный Павел Свободин. Однако видеть умирающего Колю оказалось ему не под силу – его самого безжалостно снедал туберкулез. Он было отправился домой в Петербург, но по дороге встретил Ваню, и тот убедил его вернуться на Луку и морально поддержать Чеховых в их нескончаемых бдениях у Колиного смертного одра. В письме от 4 июня Антон сообщал доктору Оболонскому о том, что Коля не встает с постели, быстро теряет в весе, принимает атропин и хинин, большую часть времени проводит в полусне, а иногда бредит. Умирающего соборовал священник: Коля признался, что был непочтителен к матери.
Александр в конце концов настоял на своем приезде на Луку. Причину он выдвинул в письме к Суворину настолько странную, что тот переслал его Антону. Впредь термином «амбулаторный тиф» Антон стал называть братовы приступы запоя: «Я прикован к постели. Был у меня тиф амбулаторный. Я мог в это время ходить, быть на событиях и пожарах и давать сведения в газету. Теперь же, по словам доктора, у меня рецидив»[165]165
РГАЛИ. 459 1 4617. Письма Ал. П. Чехова А. С. Суворину. 1888–1896.
[Закрыть]. Под поездку на юг, которую ему посоветовали врачи, Александр выпросил у Суворина двухмесячный аванс.
Пятнадцатого июня в два часа пополудни Александр появился на Луке с двумя сыновьями и Натальей, и на какой-то час все пятеро братьев Чеховых собрались вместе. Проведя два месяца и изматывающих дежурствах у Колиной постели, Антон решил, что с него достаточно. Через час после приезда старшего брата, взяв с собой Ваню, Свободина и Георгия Линтварева, он отправился за полтораста верст в Полтавскую губернию в гости к Смагину. Евгения Яковлевна тоже едва стояла на ногах от усталости. Миша, закрыв глаза на Колины предсмертные мучения, уходил спать во флигель. Александр в одиночку ухаживал за Колей последние две ночи его жизни. Антон оставил кое-какие лекарства, но среди них не обнаружилось морфия. Находившиеся поблизости три врача – включая двух сестер Линтваревых – предпочитали в дело не вмешиваться.
В длинном письме к Павлу Егоровичу (которого в то лето на Луку не позвали) Александр дал понять, что в критические минуты он способен оказаться на высоте: «Подъезжая к усадьбе, я встретил на дворе Антона, затем на крыльцо вышли Маша, Ваня и Миша. В сенях нас встретила Мама и стала целовать внуков. „Ты был у Николая?“ – спросил меня Иван. <…> Я вошел в комнату и увидел, что вместо прежнего Николая лежит скелет. Исхудал он ужасно. Щеки впали, глаза ввалились и блестели. <…> До последней минуты он не знал, что у него чахотка. Антон скрывал это от него, и он думал, что у него только тиф. „Братичик, останься со мною, я без тебя сирота. Я все один и один. Ко мне ходят и мать, и братья, и сестра, а я все один“. <…> Когда я его переносил с постели на горшок, я постоянно боялся, как бы нечаянно не сломать ему ноги. <…> Наутро ему стало будто бы легче. <…> Я в это время сходил на реку ловить раков и не для раков, а для того, чтобы набраться сил для будущей ночи».
Коля все еще надеялся поправиться и переехать жить в Петербург к Александру. Говорил брату о том, что очень любит отца.
«За ужином я сказал, что дай Бог, чтобы Коля дожил до утра. <…> Сестра сказала, что я говорю вздор, что Николай жив и будет жить, что такие припадки у него уже были. Я успокоился. <…> Все улеглись спать. <…> Николай был в полном разуме. Он засыпал и просыпался. В 2 часа ночи он захотел на двор; я хотел было перенести его на судно, но он решил еще немножко подождать и попросил меня поудобнее оправить ему подушки. Пока я оправлял подушки, из него вдруг брызнуло, как из фонтана. „Вот, братичик, усрался, как младенец, на постели“. <…> В 3 часа ночи ему стало совсем скверно: начал задыхаться от мокроты <…> Около 6-ти часов утра Николай стал совсем задыхаться. Я побежал во флигель к Мише, чтобы спросить, в какой дозе дать Коле лекарство. Миша повернулся с одного бока на другой и ответил: „Александр, ты все преувеличиваешь. Ты баламутишь только“. Я поспешил к Николаю. Он, видимо, дремал. В 7 часов утра он заговорил: „Александр, подыми меня. Ты спишь?“ Я поднял. „Нет, лучше прилечь“. Я положил его. „Приподними меня“. Он подал мне обе руки. Я приподнял его, он сел, захотел откашляться, но не мог. Явилось желание рвать. Одной рукой я поддерживал его, другою старался поднять с пола урыльник. „Воды, воды“. Но было уже поздно. Я звал, кричал „Мама, Маша, Ната“. На помощь не являлся никто. Прибежали тогда, когда все уже было кончено. Коля умер у меня на руках. Мама пришла очень поздно, а Мишу я должен был разбудить для того, чтобы сообщить ему, что Коля умер»[166]166
ОР. 331 31 1. Письма Ал. П. Чехова П. Е. Чехову. 1874–1896.
[Закрыть].
Глава 27
Прах отрясенный
июнь – сентябрь 1889 года
Смерть Коли глубоко потрясла Антона: в последующие годы он не раз признавался, что она преследует его в мыслях. Конечно, он все прекрасно понимал: в прошлом году ушла Анна, в этом – Коля, через год или два наступит черед тети Фенички, Свободина, а там «белая чума» унесет и его самого, не говоря о десятке друзей. Охваченный беспокойством, он не мог усидеть на одном месте больше месяца.
Как только Коля скончался, Антона вызвали от Смагина телеграммой. Своими переживаниями он поделился с Плещеевым: «Утром была все та же возмутительная, вологодская погода; во всю жизнь не забыть мне ни грязной дороги, ни серого неба, ни слез на деревьях; говорю – не забыть, потому что утром приехал из Миргорода мужичонко и привез мокрую телеграмму: „Коля скончался“. Можете представить мое настроение. Пришлось скакать обратно на лошадях до станции, потом по железной дороге и ждать на станциях по 8 часов… <…> Помню, сижу в саду; темно, холодище страшный, скука аспидская, а за бурой стеною, около которой я сижу, актеры репетируют какую-то мелодраму».
Линтваревы взяли на себя заботы по похоронам и предложили деньги. Елена увела Евгению Яковлевну и Машу. Крестьянки обмыли, одели иссохшего «как лучинку» Колю и положили на стол. В ближайшей церкви зазвонили по покойнику; пришел батюшка с причетником отслужить панихиду. Александр нашел плотника, который сделал могильный крест. Его сыновей отправили ночевать к бабушке. Машу взяли к себе на ночь Линтваревы. Пришли три старушки, согласившиеся читать над покойником всю ночь. На следующий день к полудню из города привезли белый глазетовый гроб, но по настоянию Евгении Яковлевны положили в него Колю только на вечерней панихиде. Вся в черном, мать, горько рыдая, приникла к гробу. Из Сум полетели письма и телеграммы со скорбным известием. Миша отправился в город в поисках фотографа. Тем же вечером на Луку вернулся Антон. Миша разругался с Александром и Натальей, требуя, чтобы они отселились во флигель. После Колиной смерти братья возненавидели друг друга. Александр даже писал Антону записку, прося его вмешаться.
Спустя еще одну ночь, прошедшую под бормотание плакальщиц и пение дьячка, в семье установилось перемирие. Похоронили Колю на кладбище возле усадьбы. Погребальный обряд подробно описан в письме Миши Павлу Егоровичу:
«Когда же на следующее утро мы стали выносить Колю в церковь, Мать и Маша так рыдали, что жалко было смотреть на них. При выносе крышку несли Маша и барышни Линтваревы, а гроб несло нас шестеро: Антоша, Ваня, Саша, я, Иваненко и Егор Михайлович Линтварев. На каждом угле служили литию. Обедня была отправлена торжественно, при полном освещении храма, все присутствующие держали свечи. Во время обедни на кладбище отнесен был крест, а дома мылись и обметались все комнаты и выносилась мебель. <…> Народу следовала за гробом масса. Гроб сопровождали образа, как в Таганроге: как крестный ход. На кладбище при прощании рыдали все, мать тужила и никак не могла расстаться с телом. <…> Поминки были самые скромные: всем простолюдинам, участвовавшим в похоронах, роздано было по пирогу, платочку и по рюмке водки, а духовенство и Линтваревы завтракали и пили чай у нас. После обеда я с мамашей опять ходил на кладбище, мамаша погоревала, поплакала – и мы возвратились обратно»[167]167
РГАЛИ. 2540 1 43. Письма М. П. Чехова его родителям. 1888–1901.
[Закрыть].
Александр в отчете отцу добавил одну деталь: «На душе скверно, и слезы душат. Ревут все. Не плачет только один Антон, а это – скверно»[168]168
ОР. 331 311. Письма Ал. П. Чехова П. Е. Чехову. 1874–1896. Еще одна скорбящая душа не давала о себе знать довольно долго: в 1953 году некая Татьяна Ивченко из Харькова, умирая в возрасте 103 лет, просила, чтобы ее похоронили рядом с Николаем Чеховым. В последние недели Колиной жизни она приносила ему молоко.
[Закрыть]. Антон не давал волю слезам, возможно, боясь, что от горя он начнет жалеть самого себя. Крест, поставленный на могиле Коли, хорошо был виден со стороны линтваревской дачи.
В газетах появились некрологи; Колины друзья забыли о своих обидах. Дюковский, который привязался к Чеховым с самого приезда их в Москву, признался Антону: «Он был единственный мой друг и притом друг в самом глубоком смысле. <…> Николя был для всех самый бескорыстный и задушевный человек, а главное, без всякой хитрости». Франц Шехтель, любивший Николая, «как брата», утешал Чеховых: «Хорошо, что он последние свои дни, может быть, самые счастливые, провел в своей семье; да и не порывай он с нею для той скитальческой жизни, к которой он так тяготел, – он был бы, всего вероятнее, здоров и счастлив»[169]169
ОР. 331 63 256. Письма Ф. О. Шехтеля А. П. Чехову. 1887–1889.
[Закрыть].
Прочитав в газете Колин некролог, Грузинский писал Ежову: «Грустно, Еж, грустно, как точно он кто-нибудь из близких родных <…> И талант сгинул <…> Мир праху безалаберному, но талантливому и милейшему из художников <…> Бедный Антон Павлович!»[170]170
РГАЛИ. 189 119. Письма А. С. Лазарева-Грузинского Н. М. Ежову. 1884–1891. Письмо от 24.06.1889.
[Закрыть]
В Таганроге тоже было много слез и скорби. В Москве же Павел Егорович крепился духом: «Милый Антоша! По поручению Ф. Я. Долженковой посылаю 10 рублей, которые принадлежат Саше. Твое письмо Тете я читал, весьма радостно для моего родительского сердца, что Коля приобщался Святых Тайн и погребение было по чину Христианскому. Искренно благодарю Тебя за ту любовь, которую оказал брату Коле в отношении погребения и поминовения. За это Бог тебя не оставит богатою милостью и здоровьем. Феодосия Яковлевна очень скорбит, охает и кашляет, прежде она не знала о кончине Коли, и я ей не говорил. В „Новостях дня“ есть некролог Коли. <…> Не горюйте, но радуйтесь и молитесь за его добрую и нежную душу. <…> Хотелось сходить на могилу Коли, посмотреть и помолиться. Царство ему небесное»[171]171
ОР. 331 81 21. Письма П. Е. Чехова А. П. Чехову. 1886–1896.
[Закрыть].
Через три дня после похорон Антон повез семью в монастырь в Ахтырке, где еще совсем недавно они резвились с Натальей Линтваревой и Павлом Свободиным и где Антон представился монахам как граф Веприк.
На Луке Антона поджидали заманчивые приглашения. Григорович и Суворины звали его в Вену, чтобы вместе отправиться в путешествие по Европе. Актеры Малого театра, приехавшие на гастроли в Одессу, заманивали туда Антона развеяться и восстановить силы. Подписав свой ответ Суворину «Ваш до конца дней моих», 2 июля Антон вместе с Ваней выехали из Луки – но не в Европу, а в противоположном направлении. Через два дня они уже обедали с актерами Малого театра. В Одессе Антона приветствовал Петр Сергеенко, таганрогский одноклассник. Он познакомил его с местной восходящей звездой – Игнатием Потапенко, который играл на скрипке, рассказывал смешные истории и писал пьесы. Через четыре года Потапенко будет суждено стать одновременно добрым и злым гением в жизни Антона, но пока Чехов окрестил его «богом скуки».
Актрисы ради Антона старались вовсю. Он регулярно наведывался в сорок восьмой номер Северной гостиницы, где Клеопатра Каратыгина и Глафира Панова угощали чаем, подлащивались, кокетничали и утешали. Клеопатра Каратыгина, единственная женщина в жизни Чехова старше его по возрасту – ей шел сорок второй год, – была некрасива и необщительна. Это была самая худая и неудачливая актриса Малого театра, к тому же имевшая прозвище «Жужелица». Она знала, что Офелию ей не сыграть никогда, и потому соглашалась на Смерть в «Дон-Жуане». Бездомная и рано овдовевшая, она близко к сердцу приняла переживания Антона. Облик Чехова, сохранившийся в ее памяти при встрече на берегу моря, обрисован ею с легкой иронией и материнской озабоченностью: «Смотрю, молодой человек, стройный, изящный, приятное лицо, с небольшой пушистой бородкой; одет в серую пару, на голове мягкая колибрийка „пирожком“, красивый галстук, а у сорочки на груди и рукавах плоеные брыжи. В общем, впечатление элегантности, но… о ужас!!! Держит в руках большой бумажный картуз (по-старинному „фунтик“) и грызет семечки (привычка южан)»[172]172
Фамилию Каратыгина Клеопатра получила от мужа В. А. Каратыгина, который был племянником одного из известнейших русских трагиков. См.: Каратыгина К. Воспоминания о Чехове // Лит. наследство. Т. 68. М., 1960. С. 575–586.
[Закрыть].
Об «Антонии и Клеопатре» вскоре заговорил весь город. Но была еще и девятнадцатилетняя дебютантка Глафира Панова, которая тоже очаровала Антона. Вот как описывал Антон свое времяпрепровождение в Одессе в письме Ване, который вернулся на Луку: «В 12 ч. брал я Панову и вместе с ней шел к Замбрине есть мороженое (60 коп.), шлялся за нею к модисткам, в магазины за кружевами и проч. Жара, конечно, несосветимая. В 2 ехал к Сергеенко, потом к Ольге Ивановне борща и соуса ради. В 5 у Каратыгиной чай, который всегда проходил особенно шумно и весело; в 8, кончив пить чай, шли в театр. Кулисы. Лечение кашляющих актрис и составление планов на завтрашний день. Встревоженная Лика [Ленская], боящаяся расходов; Панова, ищущая своими черными глазами тех, кто ей нужен <…> После спектакля рюмка водки внизу в буфете и потом вино в погребке – это в ожидании, когда актрисы сойдутся у Каратыгиной пить чай. Пьем опять чай, пьем долго, часов до двух, и мелем всякую чертовщину. <…> Все время я <…> тяготел к женскому обществу, обабился окончательно, чуть юбок не носил, и не проходило дня, чтоб добродетельная Лика со значительной миной не рассказывала мне, как Медведева боялась отпустить Панову на гастроли и как m-me Правдина (тоже добродетельная, но очень скверная особа) сплетничает на весь свет и на нее, Лику, якобы потворствующую греху».
Заподозрив, что Антон совратил и оскандалил Глафиру Панову, Ленские, к его ужасу, решили, что следует прикрыть позор браком. Однако и годы спустя Чехов убеждал Ольгу Книппер, что «он не соблазнил ни единой души и не пытался». В январе 1890 года Антон спрашивал в Петербурге у Клеопатры Каратыгиной: «И что эта Ленская сует свой нос куда не следует! Никогда артисты, художники не должны соединяться браком. Каждый художник, писатель, артист любит лишь свое искусство, весь поглощен лишь им, какая же тут может быть взаимная любовь супружеская?»
Поначалу отношения Антона с Каратыгиной развивались легкомысленно. С Чеховым в жизнь Клеопатры вернулся смех. Когда она пожаловалась, что ей приходится играть или смерть с косой или скелетов, Антон выписал ей рецепт. Придя с ним в аптеку, она обнаружила, что это «яд для отравления Правдина и Грекова». Но постепенно Клеопатра увлеклась Антоном всерьез. Тот предложил ей дружбу, но не без задней мысли: Каратыгина полжизни прожила в Сибири, служила гувернанткой в Кяхте, и ее рассказы заронили в нем искру интереса к этому краю.
Связь с Сувориным у Антона прервалась из-за недоразумений с телеграммами. Тем временем Григорович через день выходил встречать Антона на венском вокзале. В конце концов он пожаловался Суворину: «Он положительно без языка и привычки путешествовать за границей <…> Чехов поступил с нами не по-европейски <…> Славянин распущенный без твердой внутренней опоры, помогающей управлять собою <…> Насколько за него радовался – настолько теперь сержусь на него»[173]173
См.: Письма русских писателей к Суворину. Л., 1927. С. 38. (С неверной датировкой: 1897.)
[Закрыть].