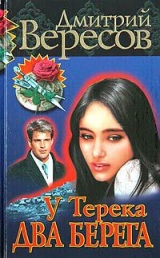
Текст книги "У Терека два берега…"
Автор книги: Дмитрий Вересов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Глава 18
Да, меня влекут вершины гор,
Каждый выступ их остроконечный.
Пусть во мне тоска, разлад, раздор, —
Вверх стремлюсь, всему наперекор…
Пусть порой бывает невтерпеж:
Синий мрак, где Путь мерцает Млечный,
Так на цель заветную похож, —
И спешишь, срываешься, ползешь…
В этом – жизнь, и это любишь вечно.
Тевфик Фикрет
Перед председателем армейской фильтрационной комиссии Мурадымовым лежал приказ начальника войск НКВД третьего Украинского фронта. Мурадымову приказывалось «…всех карачаевцев, чеченцев, ингушей и бал Карцев направить в распоряжение отделов спецпоселенцев НКВД Казахской ССР в Алма-Ату». За те несколько дней, когда комиссия развернула активную работу по выявлению представителей этих национальностей во фронтовых частях, председатель стал специалистом, как сам он себя почему-то называл, антропологом. Ему казалось, что он уже запросто угадывает по чертам лица национальную принадлежность очередного горца.
Вот и сегодня, посмотрев на этого высокого, статного старшину, он тут же отнес его к четвертой группе, то есть к балкарцам. Надо сказать, что, от нечего делать, он вел свою собственную статистику и отмечал цифрами представителей этих народностей, которых отсылал по назначению. Пока больше всего было чеченцев, хотя Мурадымов загадал на балкарцев. Если этих самых балкарцев окажется больше других, то весной он получит очередное звание, и вообще все в его жизни будет хорошо.
Поэтому этот горец ему сразу понравился.
– Где его документы? – спросил он сопровождающего, но, не заглядывая в них, спросил для самопроверки: – Балкарец, конечно?
– Чеченец, – ответил статный горец.
Настроение у председателя сразу испортилось. Еще один чеченец! Тринадцатый чеченец! И число еще такое несчастливое. Что за народ эти балкарцы? Что-то их маловато на этом участке фронта. Всего то два человека. Нет, не видать ему весной очередного звания. И все из-за проклятых чеченцев! Что тут с ним разговаривать!
– Старшина, вы отправляетесь в распоряжение отдела НКВД по Казахстану. Пока будете находиться в спецприемнике, ждать, когда сформируется ваша команда и придет соответствующее распоряжение. Все…
– Как все? – изумился чеченец. – Товарищ майор, я – разведчик, я воевал, я столько раз ходил за линию фронта…
Нет, балкарец так бы не вел себя, и карачаевец, наверное, тоже.
– Старшина, я все понимаю. Все воевали, все ходили за линию фронта… Ты – военный человек. А приказы… что?.. не обсуждаются. Свободен…
– Товарищ майор, – не унимался чеченец, – меня зовут Салман Бейбулатов…
Какие все-таки эти чечены навязчивые!
– Ну и что?
– Я же – Герой Советского Союза.
– Брось трепаться, старшина, в твоих документах ничего такого нет. Ордена, медали вижу. Герой! Да! Но не Советского Союза. Так что при всем моем к тебе уважении… Печать и подпись я поставил. Шагом марш!
– Я не шучу, – твердо сказал чеченец. – Слушай, разве такими вещами шутят? Я – Салман Бейбулатов, Герой Советского Союза. Клянусь тебе…
Может, и вправду какая-то неувязка? А насчет Героев Советского Союза никаких распоряжений Мурадымов не получал. Как бы не вляпаться впопыхах.
– Когда же ты Героя получил?
– Два дня назад …Только еще не получил. Командир только сказал. Понимаешь, майор. Убили моего командира бандеровцы.
– Ладно, старшина. Не переживай. Еще раз проверим. Пока отдохнешь тут у нас, отоспишься.
И закрутилась прифронтовая бюрократия. Зазвенели телефоны в штабах, помчались связные, зашуршали папками чиновники в погонах. Салман Бейбулатов? Представлен к Герою, все совершенно правильно. Начальник политотдела фронта поехал с проверкой по частям, заодно и Звезду повез в коробочке. Сам решил вручить, лично. Даже шутку уже заготовил, спеть решил:
Бейбулат удалой,
Бедна сакля твоя.
Золотою Звездой
Награжу я тебя…
Он у нас вообще остряк. Слышали, как он на последнем банкете по случаю освобождения… Что? Чеченец? А в штабе думали, что он – дагестанец или черкес какой-нибудь. Да и не думали почти. Такое дело провернул! Целую школу Абвера в документах из разведки притащил! Когда такое было? Может, приостановить вручение? Так начальник политотдела фронта уже в пути. А где Бейбулатов? Высылать? Вообще всех чеченцев приказано без исключения. Ничего себе казус!
Только на мгновение сбилась бюрократическая машина. Что-то в ней щелкнуло, хрустнуло. Но тут же выправилась она, опять сцепились шестеренки. Застучало, зазвонило, зашуршало… Решили Бейбулатова отправить назад, по месту службы, чтобы вручить ему высокую награду. А потом рассмотреть его дело отдельно.
Председатель фильтрационной комиссии НКВД майор Мурадымов переправил «тринадцать» на «двенадцать» и задумался. Не понимал он, о чем там наверху думали. Дают этим националам бронь – отсылают их с фронта в Среднюю Азию дыни кушать, сладкие, сочные, ароматные… Эх! Вот он бы их так не отпустил. Собрал бы всех в одну «Дикую дивизию», дал бы им кинжалы, которые они так любят, и послал бы эту орду фронт прорывать. Сзади поставить заградотряд. И все решение национальной проблемы! Ну, а если кому повезет, в живых останется, тогда можно и в Казахстан. Четвертый год войны идет, а кадры мы ценить так и не научились.
– Ну, рядовой, ты, конечно, чеченец? – спросил Мурадымов очередного доставленного ему кадра. – Нет? Балкарец?.. Это хорошо, что ты – балкарец. Случайно, не Герой Советского Союза?.. Не Герой? Молодец, солдат!..
А старшину Бейбулатова к месту вручения ему Звезды Героя сопровождал автоматчик. Кто знает этих чеченцев? Когда-то до революции они из всех наград признавали только крест с джигитом на коне, то есть Георгия Победоносца. Может, и сейчас ему Золотая Звезда без надобности. Повесит ее барану на курдюк, чтобы звякала.
Те из офицеров НКВД, кто сомневался в надежности Бейбулатова и приставил к нему автоматчика, были правы. Только вот автоматчиков ему в сопровождение надо было отрядить не менее взвода. А так ничего из этой затеи не получилось. Парнишку этого нашли у дороги, придушенным, но не до смерти, а до легкого обморока. Автомат же чеченец забрал, оставив взамен Золотую Звезду.
Салман Бейбулатов много раз ходил по тылам врага, а теперь он совершал глубокий рейд по тылам наших войск. Разницы никакой не было, ведь так же он опасался патрулей, милиции, вообще людей в форме. Про себя разведчик отмечал, что порядка в наших тылах было куда меньше, чем в немецких, если вообще он тут был.
Перемещался Салман по ночам, особенно, когда шел степями. Днем спал в лесах, в развалинах домов, в сожженных деревнях, разоренных колхозах. Он видел крайнюю нищету и запустение, поселившиеся на этих бескрайних и плодороднейших землях. Первое время привычка разведчика брала свое, и Салман ловил себя на том, что хищно выслеживает больших военных чинов. Приходилось одергивать себя, напоминать, что задача у него теперь совсем другая, для разведчика его уровня простейшая, – дойти до родных мест, узнать, что там такое происходит, помочь своей семье и возлюбленной невесте Айшат. Никого не надо резать, преследовать, душить, связывать, тащить на себе. Вот только надо добывать еду. Так много ли ему требуется?
Как-то раз Салман решил, что на этот раз ему нужно подкрепиться основательно. На одних мерзлых зернах, помороженной картошке долго не протянешь. Только в третьем селе услышал он петушиные крики. Здесь и полез под плетень по-пластунски, как под проволочные заграждения. Затаился, наблюдал, соображал. На войне как на войне. В доме никого, кроме толстой бабы-хохлушки. Собаки на дворе нет. Но домашнюю птицу баба каким-то чудом сохранила. И петух был, и курицы, вернее, одна курица.
В темноте подобрался к сараю. Нащупал деревянную заслонку. Потянул, дверь не поддалась. Сильнее – ни с места. Провел рукой сверху и снизу – никаких запоров не обнаружил. Разозлился… Что же это такое? Дивизионный разведчик! Столько часовых снял, патрулей уничтожил, а тут сарай не открыть. Дернул дверь на себя резко, с настроением. Дверь распахнулась, и тут на него полетели жерди, палки, какой-то хозяйственный крестьянский инвентарь на длинных ручках. Петух всполошился, а тут еще сверху что-то посыпалось. Хитра баба оказалась! Ловушку какую соорудила подручными средствами! Умнее Абвера!
А вот и сама она уже бежит с топором. А визжит так, как дырявая бочка, с самолета фрицами сброшенная. Внутри все переворачивается. Одной рукой Салман нащупал курицу, другой перехватил топор. Обнял бабу, с удивлением отметив, что руки его не сошлись на ее могучей спине, поцеловал ее крепко в губы и опрометью кинулся со двора в ночную тьму.
– Подожди, солдат! – услышал он за спиной бабий крик. – Может, столкуемся, так и петуха тогда заберешь!..
Грешен, чуть не вернулся. Но рисковать он сейчас не мог. Не та была цена. Не в петухе дело, да и не в бабе этой необъятной. На родину он шел, туда, где горы было не объять ни взглядом, ни мыслью. Он шел к той, стан которой мог охватить одними пальцами, но любовь к которой не мог измерить петухами или Золотыми Звездами.
Чем ближе он подходил к дому, тем меньше попадалось разоренных населенных пунктов. Салман обратил внимание, что селения кавказских народностей, как правило, стояли почти нетронутые войной.
Родные горы встретили его теплым и сухим ветром. Как верный пес, узнавший хозяина, вставший на задние лапы, ветер дохнул ему в лицо, узнал, заволновался. Воздушный поток усилился, пошел под горку, на радостях завалив в нескольких метрах от Бейбулатова сухое дерево. Снег таял прямо на глазах, и под утро на деревьях показались ранние почки. Но к вечеру пошел в контратаку влажный долинный ветер, как бы подгоняя путника вверх, в горы, поближе к родной долине, к домашнему очагу, отменяя мелкие победы ранней весны, вымораживая набухшие за два дня почки.
Салман шел длинной дорогой через горы. Вообще-то он был уже дома и просто переходил с одного лесного склона на другой, как из одной комнаты в другую. Правда, одно ущелье совсем рядом с родным аулом он не признал, то ли весенние оползни изменили лицо горного обрыва, то ли противолежащий слишком густо зарос за четыре года, но Салман даже свернул с тропы, чтобы спуститься в так изменившееся ущелье.
Нет, даже горы меняются. Все изменяется на свете. Все видимое меняет очертанья. На снегу Салман увидел аккуратную цепочку следов и, радуясь чему-то, пошел по звериной тропе. Он узнал маленькую когтистую лапу и вспомнил, как в детстве они с Дутой и Азизом караулили нору. Как на рассвете они задремали, а проснулись от дикого визга и шипения и бросились бежать без оглядки, так и не поняв, кто обратил их в позорное бегство.
Он узнал заросший обломок скалы, небольшое отверстие у самой земли. Из отверстия поднимался едва заметный парок. Кто-то дышал, маленький и теплый. Салман улыбнулся и присел на корточки неподалеку. Он готов был сидеть целые сутки, ждать неизвестно чего. Но по дыханию маленького существа он понял, что хозяин норы забеспокоился. Сейчас, сейчас он выскочит, маленький, когтистый, замечательно отважный.
И действительно, послышалось глухое ворчанье, и из норы выскочил дикий лесной кот. Был он в густой зимней шубе дымчатого цвета, лукавые глаза его расширились при виде большого и смелого противника. Кот тут же упал на спину и ударил по воздуху когтистой лапой. Чеченец молча любовался красивым животным. Ему нравилось это дикое существо, которое не надо было ласкать, трогать, убивать. Оно жило само по себе, по своим лесным законам. Никому не мешая жить…
Это было первое живое существо, которое увидел Салман на родине. Кот шипел и тянул к нему когтистую лапу… Ну, вот Салман и дома.
Дойзал-юрт, как и до войны, сбегал вниз по горному склону, чтобы остановиться над горной речкой, которая была дорогой в долину. Был светлый весенний день, но аул был безмолвен, как ночью. Собаки не лаяли, людей и животных было не видно и не слышно. Салман еще не вошел в аул, а ему было уже все понятно. Никого он там не найдет, всех уже давно увезли.
Он зашел в дом на краю села, где жили Саадаевы. Ведь у Азиза жена русская, может, ее не тронули? Никого. У Эдиевых тоже пусто. Везде одно и то же. Везде следы поспешного сбора, туши убитых животных, не освежеванных, с отрезанными как попало мясными кусками, разбросанная одежда, узлы с вещами, видимо, не разрешенными в дорогу, и застреленные собаки.
Перед тем, как войти в свой дом, Салман пошел на двор Мидоевых. Его тянуло в комнату Айшат, хотелось дотронуться хотя бы до ее вещей, может, подобрать ее платок. Подходя к дому, он будто бы увидел за закрытыми ставнями дрожащий свет. Может, какой-нибудь отблеск, отсвет? Это за закрытыми ставнями? Салман взял автомат на изготовку. Вспомнил скрипучую входную дверь в доме Мидоевых. Поэтому быстро рванул ее и, не теряя времени, ворвался в помещение. На ходу он почувствовал тепло отапливаемою помещения. Свет был в женской половине. Разведчик толкнул дверь ногой, сразу же отпрянул в сторону от предполагаемого выстрела, но с тайной надеждой в сердце увидеть великое чудо – сидящую у лампадки Айшат…
На него из угла испуганно смотрел человек в бурке. Лицо у него было совсем не чеченское и, что особенно удивительно, совсем не русское.
– Руки вверх! – приказал Салман, а увидев, что под упавшей буркой были лохмотья немецкой формы, добавил: – Хенде хох!
– Гитлер капут, – ответил тот с готовностью и даже радостью в голосе.
Немец действительно заулыбался, стал тыкать себе в грудь, а потом показывать на Салмана, что-то быстро заговорил, опять засмеялся. Сумасшедший?
– Плен, плен, – говорил немец. – Клаус Штайнер… Жить… Терек… Кавказ… Плен, плен…
И туг Салман узнал его. Лето сорок второго года. Жаркая, дымящаяся от зноя степь. Та самая мутная речка с камышами, где потом погибнет Азиз Саадаев. Развалившиеся на берегу горные стрелки. Мелькающий в руках верный кинжал. Перерезанные глотки. Срезанный с эмблемы цветок. Немецкий солдат, которого он тащил через камыши, через минное поле.
Как он сюда попал? Что он делает в доме его невесты? Что вообще происходит на этом свете?
– Плен, плен, – радостно твердил немец, словно птица. – Жить, жить…
* * * * *
Об Айсет ей сообщила Астрид. Позвонила ей на мобильный.
– Знаешь, – сказала она, – ты можешь оставить ту картину себе. Ведь я не выполнила своей части договора. Пусть картина напоминает тебе об Айсет…
Софи-Катрин поехала на вокзал, достала картину из ячейки камеры хранения, взяла такси и поехала на Чистые пруды.
Астрид открыла дверь и молча впустила гостью в квартиру.
Астрид была в черном. И в комнатах не светились вечным огнем привычные телеэкраны.
Они прошли в спальню. Астрид поставила картину на мольберт. Присели на краешек кровати. Выпили молча.
– Давай поедем к художнику, – первой нарушила молчание Астрид.
– Давай…
Модест Матвеевич был у себя в мастерской.
– Это муж Лики и мой друг, – отрекомендовала его Астрид.
– Я догадалась, – сказала Софи-Катрин без улыбки, протягивая руку Модесту Матвеевичу.
Догадаться было несложно – повсюду на полотнах была та девушка. Тоненькая девушка, что в спальне Астрид теперь вечно снимала свой белый ажурный чулок.
– Модест, – обратилась к художнику Астрид, – ты мог бы написать портрет по фотографии или даже лучше, по видеофильму?
– Портрет твоей подруги? – спросил художник.
– Портрет нашей подруги, – уточнила Астрид, – она погибла позавчера.
Модест молча подошел к бару. Достал бутылку виски и три стакана.
Софи-Катрин сидела согнувшись, подтянув коленки к самому подбородку. Астрид в прострации глядела куда-то в сторону.
– Оставьте кассеты и фото, – сказал Модест, – я погляжу…
Они тихонечко нализались в тот вечер, но каждый отправился спать в свою постель. И каждый, засыпая, думал о своем. О том, что не смог помочь, не смог защитить, спасти…
Модест думал о Лике.
Софи-Катрин думала об Айсет.
А Астрид думала о себе, вернее о том, что не смогла она спасти свою душу. Себя спасти.
Джон увидал репортаж из России, когда они с Мэгги собирали вещи, собираясь снова тронуться в путь.
– Мы показываем вам репортаж, подготовленный директором нашего московского отделения Астрид Грановски…
С экрана телевизора на Джона глядела Айсет.
– Московская редакция потеряла одного из своих лучших сотрудников, – говорил голос за кадром, – а лично я потеряла подругу, и как мне теперь кажется, лучшую подругу, потеря, которая в жизни уже никогда не восполнится…
С экрана на Джона глядела Айсет.
– Мы покажем сегодня ее фильм, тот ее фильм, который она не успела доснять, с кассетами которого ее так и нашли в расстрелянной бандитами автомашине на сороковом километре федеральной дороги А-140…
Джон молча присел на край кровати.
– Что? Опять в России кого-то убили? – крикнула из душа Мэгги.
– Помолчи, дура, – огрызнулся Джон, доставая сигарету…
Из Шербура в Сен-Назер машину вела Мэгги. Джон сидел на заднем сиденье с ноутбуком на коленях и писал.
Он писал электронный мейл своему другу, который работал в офисе фирмы «Юнайтед Артисте».
«Боб, сделай мне одолжение, черт тебя дери, а то всегда по жизни одолжения тебе делал я. Мне нужно, чтоб это письмо ты передал сэру Реджи – Элтону Джону, и не отказывайся, я знаю, что в вашей конторе есть выходы на него непосредственно. И еще – заранее заклинаю тебя, не отдавай этого письма через секретарей, а то с тебя станется – скинешь с рук и думаешь, что помог старому приятелю. А письмо пропадет… Только лично Элтону, лично в руки! И не вздумай отлынивать, я тебя, старого педика, найду и мордой в писсуар засуну, ты меня знаешь!
А в остальном остаюсь по-прежнему твоим школьным другом, Джон…»
Далее шло письмо…
«Дорогой Сэр!
Я знаю Вашу занятость, но вместе с этим, зная и вашу сердечность и эмоциональную готовность к сочувствию, осмеливаюсь докучать Вам, дорогой Сэр, этим письмом, в котором сообщаю, что потерял друга. Вернее – подругу, хотя я и гей.
Вы, может, видели по телевизору репортаж из России, где показывали корреспондента московского отделения Си-би-эн-эн чеченскую девушку Айсет Бароеву.
Так получилось, так тесен мир, что благодаря этой девушке мне довелось в позапрошлом месяце побывать на Вашем, сэр Реджи, концерте в Петербурге, в Екатерининском дворце. И эта девушка тоже сидела в первом ряду, и может, Вы даже помните ее.
Теперь она погибла.
Ее убили, когда она снимала фильм о Чечне.
Дорогой сэр. Я понимаю, что мои невоспитанность и самоуверенная наглость, когда я обращаюсь к Вам, столь велики, что достойны самого строгого порицания. Но, дорогой сэр…
Не могли бы Вы увековечить имя этой девушки в музыке?
С чувством вины от того, что оторвал Вас от дел этим письмом, искренне уважающий Вас
Джон Берни Хоуэлл».
Письмо Айсет до Софи-Катрин не дошло. А девочка Эльза исчезла из дома Бароевых, будто ее и не было никогда.
Глава 19
Любил я – не в пример другим – слова
Избитые. И эту рифму кровь – любовь,
Одну из самых трудных и старинных.
Любил я правду, скрытую в глубинах,
В которой боль находит вновь и вновь,
Как в сне забыто ч, друга. Опасенья
Внушает правда сердцу до поры,
Но, с нею сблизившись, ее совету
Оно готово следовать во всем
Люблю тебя Люблю и карту эту,
Оставленную под конец игры.
Умберто Саба
– Хабар бар? Есть новости?
– Бар! Привезли откуда-то людей в вагонах. Живых и мертвых.
– Что за люди?
– Живут в горах, молятся Аллаху. Много людей.
– Ничего. Степь большая…
Из Саадаевых до Казахских степей доехала только Мария. Из Мидоевых выжили Сулима и два ее сына. И Айшат, младшая сестра. Но как выжила? Вынесли ее совершенно бесчувственную и положили около железнодорожного полотна на черный, прокопченный снег. Но Айшат вдруг беспорядочно заговорила про горы, комсомол, белого коня. Тогда ее подняли и понесли дальше…
Кое-кому стены телячьего вагона показались хоть каким-то домом, каким-то убежищем, когда железнодорожный состав скрылся за бураном, махнув на прощанье снежным хвостом. Им велели идти, и они пошли от одного телеграфного столба к другому, неся детей и умирающих, поддерживая больных.
Через четыре столба степь уже окружила их, приняла их под свое снежное покровительство. Люди стали вглядываться вперед, но дальше нескольких темных столбов ничего не было видно из-за бурана. Через какое то время люди стали прислоняться к очередному столбу, подходили следующие и прислонялись уже к первым. Так вокруг черных осевых лепился человеческий рой, затем редел, вытягивался, чтобы скучковаться у очередной опоры.
Кто бы им сказал, что сейчас, в самом начале весны, эти бескрайние снежные пространства сравнительно веселее, чем летом? Что пронзительный, ледяной и острый, как лезвие шашки, ветер – это еще что-то живое, заставляющее брести куда-то, искать чего-то лучшего, как-то суетиться? Кто бы им сказал, что летом здесь во все стороны света простирается сухая, желтая вечность и безнадежность?
Снежные бураны кочуют, заслоняют собой глухое пространство. Кажется, что за ними должны быть леса, горы, реки, озера… Но летом становится понятно, что ничего за ними нет, только голая почва с выступающей на дорогах солью. Даже вода здесь мертвая, такая же соленая, с фиолетовыми синяками по берегам, как вокруг больных, не выспавшихся глаз. Сухим и желтым летом становится понятно, что смерть наступает не тогда, когда человек идет и падает в снегах, поднимается на ноги и вновь сбивается на колени порывом ледяного ветра. Смерть приходит тогда, когда человеку становится все равно. А в соленой, выжженной степи – все равно. Смерть даже не приходит, она живет здесь же, в бесконечной пустоте. А снежный буран – это уже не пустота, это движение.
Всего этого они еще не осознавали, но страх приходит бессознательно. Какое-то время они стояли, повернувшись спиной к ветру и дрожа от холода и страха. Но живые души еще цеплялись за какие-то приметы жизни. Переселенцы очень обрадовались, когда увидели за снежной пеленой дерево. Значит, здесь растут растения, к ним приходят звери, прилетают птицы… Но кто бы им сказал, что это дерево было единственным на двое суток пути по степи летом и на четверо суток зимой? Что каким-то чудом где-то размыло солончак, какая-то щель в земной коре приняла семечко, упавшее с крыши проходящего мимо вагона? Оно проросло, развилось, и это уже было чудом. Это был уже рай для этих мест.
Да, здесь можно было увидеть и леса, и реки, и горы, но только увидеть. Увидеть перед тем, как все это вдруг приподнимется, накренится и растает в воздухе. Здесь можно было увидеть мечети и минареты Мекки, но прежде, чем с губ срывалось имя Всесильного и Всемогущего, миражи исчезали.
Так что же это за земля такая? Пусть аравийские пустыни с палящим солнцем, по которым кочевали пророк Мухаммед и первые мусульмане. Они слышали об этом, им рассказывали предки, совершавшие паломничество в Мекку. Но почему тут же встречает их лютая зима, как в русских степях, где умирают заблудившиеся ямщики, засыпают навсегда водители в сломанных грузовиках, замерзают пьяные русские мужики и огромные армии чужеземных солдат? Почему эта земля проклята дважды? И почему их изгнали сюда из земного рая? Кто ответит? Кто отзовется? Из каких-то степных глубин, из нутра бескрайних степей, сквозь завывание вьюги им слышался непонятный, несмолкающий гул.
Жилье не встретило их дальними манящими огоньками, не заставило ускорить шаг запахом печного дыма. Оно выплыло из темноты темными стенами и глухими окнами, когда люди подошли почти вплотную. Здесь было несколько пустых домов и один длинный барак. Какой-то заброшенный городок, то ли геологов, то ли археологов. При упоминании геологов Маша Саадаева почему-то вздрогнула.
Люди решили не расставаться в первую ночь, поэтому все вместе, включая умирающих и больных, разместились в бараке. Еще не закрылась входная дверь, и вместе с людьми еще входил снежный ветер, но уже вспыхнул первый огонек, кто-то сказал что-то по-чеченски, ему ответили, еще кто-то заплакал. Но вспыхнул еще один огонек в другом конце барака. Жизнь опять начиналась…
Айшат положили в дальнем конце барака, отгородили от всех, как смогли, боялись к ней подходить. Только Маша Саадаева не боялась. Она поила подругу горячим кипятком, которого теперь было вдоволь, пробовала кормить ее жидким толокном.
На третий день Айшат вдруг открыла глаза, увидела Марию и заговорила быстро и убежденно:
– Маша, я видела горы. Там вдалеке есть горы. Я хочу туда пойти. Понимаешь? Мне надо туда. Скорее, пока есть немного сил.
Саадаева смотрела, как она ловит ртом воздух, на ее сухой, потрескавшийся язык с отпечатками зубов на самом кончике, и думала, что Айшат бредит.
– Лежи. Тебе надо лежать. Где ты могла увидеть горы? Здесь на тысячи километров одна степь. Вот пройдет снежный буран, ты поправишься. Тогда мы пойдем работать, нам дадут коней, и мы поедем искать твои любимые горы. Но это очень далеко Айшат, очень…
– Нет, Манечка, горы здесь рядом. Я их видела. Почему ты мне не веришь? Я должна идти.
Саадаевой пришлось почти силой удерживать Айшат. Хотя на большее, чем оторвать от лежанки голову, у Мидоевой сил не было. Тогда Айшат посмотрела на подругу необыкновенно огромными на исхудалом лице глазами и заплакала.
– Маша, я ведь умру, – сказала она спокойным тихим голосом. – Не спорь. У меня нет сил спорить. У меня осталось сил, может быть, на день или на два. Я не хочу умереть в чужих степях. Вот и все.
– А горы здесь разве не чужие?
– Нет, горы не чужие.
– Но где ты могла их видеть?
– Не знаю. Но я клянусь тебе, что горы есть там, вдали. До них можно дойти пешком. Только надо идти, Маша. Отпусти меня.
– Ну уж нет. Тогда пойдем вместе. Завтра с утра.
– Сейчас, Маша. Прямо сейчас. День для меня – слишком много…
Ушли они, ни с кем не прощаясь. У Айшат на это не было сил, и люди боялись ее болезни, от которой погибло в пути так много народа. Девушки шли, закутавшись поверх одежды в чеченские меховые бурки. Айшат – в бурке отца, Маша – свекра. Уже через несколько минут они оказались совершенно одни в пути, без тропы и ориентира.
Вокруг был только несущийся по степи снежный буран. Сначала они решили, что можно ориентироваться по направлению ветра, но скоро поняли, что он слишком обманчив и доверять ему нельзя.
Шли они медленно. Айшат если шла без опоры на Машу, часто останавливалась, чтобы, спрятав лицо под бурку, немного отдышаться. Чаще она ковыляла, поддерживаемая подругой.
Скоро пришлось делать привал. Саадаева соединила над головами две бурки – получилось слабое подобие палатки. Айшат ела снег и не могла наесться им. Потом она стала засыпать. Маша растолкала ее, и они пошли дальше.
К ночи буран стал стихать, но стало подмораживать. Еще пробегали по замерзшей земле последние обрывки ветра, а на небе уже высыпали звезды.
– Видишь? Там, вдали, – Маша показывала рукой на темную полосу над горизонтом, словно прочерченную толстой кисточкой.
– Неужели и правда?..
Когда то в древней Греции была такая страна счастливых пастухов – Аркадия. Лежала эта плодородная земля на высоком плоскогорье. Со всех сторон она была окружена цепью неприступных гор, только узкая тропинка по реке Еврот вела туда. Но жителям Аркадии не стоило большого труда остановить на этой тропе целую армию, сбрасывая сверху на вражеских солдат огромные камни. В самой же счастливой Аркадии беспечно паслись тучные стада, звучали пастушьи свирели, девушки собирали с деревьев спелые плоды… Словом, это был райский уголок в горах Пелопоннеса.
Странно, что у казахов безлесное, безводное место называлось Аркой, почти Аркадией. «Арка» по-казахски – «пуп земли», хребет, тоже своеобразный рай, но понятный только степным кочевникам-скотоводам. Сопки в этом месте переходят в довольно высокие гранитные горы. Нет лучше места для зимовки скота, чем долины Арки. Ветер сдувает снег с гор, трава здесь легко доступна для животных, земля плодородная. Чем не греческая Аркадия среди бескрайних заснеженных степей?
Всею этого, конечно, Мария и Айшат знать не могли, но что то тянуло больную девушку именно сюда. Может быть, воспоминания о родных горах? Или предсмертная мечта о рае?
– Нет, Маша, не такие здесь горы, как у нас, – говорила Айшат, когда они после частых и продолжительных привалов взобрались наконец на одну из них, самую крайнюю и невысокую. – Наши горы разные, у каждой свое собственное, неповторимое лицо. Здесь они все какие-то одинаковые, как буруны у Терека.
– Конечно. Степной ветер их всех уравнял за многие годы. Тебе, кажется, получше? Вот и хорошо! Не зря, значит, мы шли сюда. Только я все-таки не пойму, как и когда ты смогла увидеть эти горы?
– Не знаю. Я как-то их почувствовала, поверила… Не знаю. Теперь мне не так страшно умирать.
– Что ты такое говоришь, Айшат? Чтобы я больше этого не слышала! Таким молодцом ты шла сюда. Ты же почти поправилась Чтобы никаких разговоров о смерти и болезни я больше от тебя не слышала!
Айшат только грустно улыбнулась.
– Ты посмотри, Айшат, отсюда долина хорошо видна. Как красиво! На небе светятся звезды, а внизу тоже красные огоньки. Только их гораздо меньше, но все равно – там люди. А вон и рядышком, под той горой, мигает красный глаз. Видишь? Подмигивает, приглашает… Обопрись на меня, сейчас спустимся, попросимся на ночлег.
К горе прилепилась небольшая юрта, похожая на перевернутую, треснутую чашку. У входа лежал верблюд и стояла кобылица. Айшат так им обрадовалась, словно это были родные ей люди. Верблюд равнодушно посмотрел на незнакомых женщин и продолжил что то жевать, кобылица же мотнула головой и дунула теплыми ноздрями в руку Айшат.
В юрте горел огонь. Старик с маленьким лицом, в морщинах которого скрывались узкие глаза, кидал в огонь сухие шарики кизяка. Увидев гостей, он закивал головой и жестом пригласил их к огню. Он сказал что-то, но девушки из всех произнесенных слов поняли только имя Всемогущего.
– Берге, – старик поманил их поближе к очагу.
Девушки протянули к огню руки. Маша тут же почувствовала страшную усталость и слабость. Она увидела, что Айшат стала клониться набок, и вовремя подхватила подругу.
Старик что-то опять заговорил и зацокал языком. Он помог уложить Айшат, потом принес чашку с пшеницей, жаренной на сале, и кумыс. Айшат отказалась от пшеницы, которую старик называл бидай, но сделала несколько глотков кумыса.
Маша поразилась: откуда Айшат взяла силы, чтобы проделать такой тяжелый, казавшийся бессмысленным и безнадежным, путь? Ведь сейчас она была совершенно в таком же состоянии, когда ее вслед за трупами выносили из вагона в снежную степь. Девушка лежала, глядя вверх, в отверстие в юрте, через которое уходил дым, и, казалось, жизнь, как дым, уходит из нее в звездное небо.
Саадаева принесла снега, растопила его, положила на лоб Айшат мокрую тряпочку, которая тут же высыхала. Она смачивала ее опять, вливала в полураскрытый рот подруги кобылье молоко и с ужасом смотрела, как непроглоченная белая жидкость стекает по щеке.








