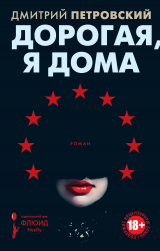
Текст книги "Дорогая, я дома"
Автор книги: Дмитрий Петровский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Опустив что-то совсем маленькое на столик у кровати, она застыла, и я сквозь прикрытые веки видел только смутный ее силуэт, тонкую фигурку с еле различимыми кружевами по нижнему обрезу пеньюара, пару локонов, выбившихся за границу силуэта. Она стояла, будто слушая мое дыхание, впитывая его в себя, – а я уже заснул, и картинка сменилась – увиделась какая-то незнакомая дама, молодая, тоже в темноте и в пеньюаре встающая с кровати, – и, когда она вставала, я на секунду различил знакомые очертания бархатной комнаты, в которой отец проводил эксперименты с лампочками. Потом вдруг появилось темное узкоглазое лицо, лицо очень бледного худого китайца в черном, будто похоронном костюме, – китаец был страшным, я заворочался – и провалился в бездонную сонную тьму.
* * *
Проснулся я с первым лучом солнца, пробравшимся сквозь ставни. Утро было чудесное, чистое, еще не испорченное ни людьми, ни машинами, и я сначала проснулся, зная, что сегодня должно быть что-то радостное, а потом радость вдруг нашла имя, обрела смысл, и я совсем открыл глаза и увидел то, что оставляла мать ночью: аккуратно сложенный костюм, сшитый вчера, и конвертик на столе – белый конверт с золотым отрезом, на котором в правом углу был значок фирмы отца, а посередине – написанное почерком мамы «С днем рождения!», обведенное красной тушью. Я быстро вскочил, порвал конверт, обнаружив там сложенный вдвое листок.
«С днем рождения! – писала мама. – Одевайся и беги в зал, сюрприз там».
Я торопливо оделся, путаясь в штанинах, и, на ходу заправляя рубашку и хлопая по полу незавязанными шнурками, побежал. Дом казался пустым, я быстро несся, грохотал ботинками по винтовой лестнице и наконец вбежал в зал, снова как будто спугнув его чинный прохладный полумрак и отражения в мебельном лаке.
Пролетел ореховый комод, шкаф красного дерева с изогнутой дверцей. Пробегая, я притормозил возле спальни родителей – тишина, словно не было никого, – и понесся дальше.
В зале ничего необычного я не заметил, обежал его еще раз, пока не увидел еще один, точно такой же конвертик.
«Людвиг, с днем рождения! Теперь беги на террасу!» – рукой отца, скупым на украшательства, почти печатным почерком.
Взбегать по лестнице было труднее, на полпути я подумал, что отец отругает за шнурки, и кое-как завязал их, спрятав концы внутрь ботинка. Комната, выходившая на террасу, была светла, солнце заливало ее яркими лучами, и с трудом открывались шпингалеты на стеклянной двери. Терраса тоже была пуста, но, глянув вниз, я увидел фигурку отца, дежурившего у входа. Сверху, как на аккуратном рисунке, был виден наш сад с высаженными в строгом соответствии с мамиными рисунками цветами, и голубой изгиб Эльбы, и папин черный автомобиль, и виноградник с редким гамбургским вином, аккуратно огороженный заборчиком, был так четко различим на холме – казалось, что я видел каждый листок, каждую жилку.
– Папа! – крикнул я, но он сделал вид, что не услышал, продолжал ходить взад-вперед, засунув руки в карманы. – Папа! – крикнул я еще раз, но потом понял, что это – правила игры, часть сюрприза. И тогда я повернулся, обежал террасу, нашел еще один конвертик, в котором опять был листок: «Людвиг, спускайся вниз».
И я, смутно предчувствуя большую, больше всех до того случавшихся со мной радость, спустился по лестнице, сжимая в руках бумажку. Отец, увидев меня, положил трубку на ступеньку, отошел на два шага и, по-мальчишески скинув пиджак и запустив его в сторону двери, остался в одной жилетке. Серебряные запонки блеснули на солнце, и он вдруг побежал по саду, будто ему было шестнадцать. «Давай скорее! Беги!» – кричал он мне, и я со всех ног, с непривычки путаясь в своих длинных штанах, кинулся за ним. Он пробежал в ворота, помахав на бегу удивленному шоферу, застывшему за рулем автомобиля, и нашей соседке, супруге виноторговца фрау Гребе, которая, увидев меня, крикнула: «С днем рождения, Людвиг!» – и рассмеялась, звонко и лучисто. Отец мчался по дороге, его светлые ботинки поднимали пыль, он свернул с улицы и, перемахнув через деревянную перекладину, преграждающую путь возам и машинам, понесся прямо на холм, к одинокому винограднику. И я бежал за ним со всех ног и пролез под перекладиной, рассмеявшись оттого, какое замечательное приключение выходит сегодня, какой веселый папа и что где-то, где-то должна быть мама, такая же радостная. У заборчика, ограждающего виноградные кусты, уже стоял отец, наклонившись вперед, упирая руки в колени, – отдыхал от непривычных упражнений, его живот вздымался и опадал под жилетом, всегда идеально уложенные волосы растрепались, длинная прядь впереди спадала до подбородка. На заборчике было приколото еще одно письмо в конвертике, на котором, так же, как на том, у моей кровати, было написано: «Для Людвига», – и обведено тушью в красное сердечко. Я торопливо оторвал конверт, открыл его – там была карточка, точно такая же, как та, что была у меня в руке, и там маминым аккуратным почерком написано: «А теперь последний тест – на храбрость. Твой подарок – в темной комнате в подвале. Беги туда. Мама».
Я все еще часто дышал от бега и, прочитав, поднял свое, наверное, совсем красное лицо и вопросительно посмотрел на отца.
– Давай, – сказал он и толкнул меня в сторону дома, – беги!
Дом наш был виден с холма – он лежал в отдалении, его белые стены в утреннем солнце казались только что отмытыми. Вспомнился зайчик, оставленный в спальне на подушке, почему-то захотелось взять его с собой, прижимать к себе, когда буду спускаться в темноту подвала. Даже почудилось низкое гудение – то самое, что снилось этой ночью.
– Ну же, – позвал отец, – беги! Не бойся, там мама, она тебя ждет, с подарками!
И я уже видел, как бегу, как в секунду спускаюсь по винтовой лестнице вниз, как пробегаю все переходы – прямо, потом направо, сразу налево, толкнуть дверь – и там она, мама, и еще что-то, такое неизвестное, такое радостное. Гудение вдруг выросло из-за спины, стало густым ревом и тарахтением. Какая-то тень на секунду закрыла солнце, взметнула траву и пригнула кустики винограда к земле. Огромный самолет пролетел прямо над нами, показав свое клепаное металлическое брюхо – он пронесся в секунду, качнув крыльями, и, оказавшись над нашей виллой, грузно завернул, демонстрируя неизвестную эмблему на крыльях: белые звезды в черных кругах.
– Вот видишь, тебе ко дню рождения! Даже самолеты! – прокричал отец, когда грохот позади снова вырос и над нами так же грузно пролетел уже второй. Этот был еще больше, два его мотора ревели так, что я почти чувствовал, как дрожат стекла в окрестных домах. Он летел медленно, куда медленнее первого, и чуть выше – и я мог проследить, как он осторожно покачивается, тоже взяв наш дом за ориентир. Потом я увидел, как в брюхе самолета, будто в часах на ратушной площади, открылись две блестящие дверки и, когда он осторожно и грузно перевалился на крыло и описал аккуратный полукруг над нашим домом, оттуда начали медленно падать черные овальные предметы, похожие на баклажаны. И когда первый баклажан, как в замедленном кино, тронул край нашей южной террасы – всю округу вдруг осветил нестерпимо яркий белый огонь, словно зажглось еще одно солнце, и наш дом в секунду закрыло огромным черным облаком, изнутри которого в разные стороны полетели какие-то куски и обломки. Будто во сне, я увидел яркую тряпку, вылетевшую из пламени – отцовский галстук, который, разматываясь в полете, как лента серпантина, плюхнулся на ветку ивы и завис, раскачиваясь. И уж потом что-то низко, на пределе слышимости, бухнуло в ушах, меня подняло над землей, аккуратно положило на спину, и в следующую секунду я увидел, как голубое небо чернеет и затягивается едким всепроникающим дымом.
– Мама! – почему-то позвал я и не услышал своего голоса, а только смутно напоминающее его гудение в голове. – Мама! – Я понял, что лежу, и попробовал встать. Но мамы не было. Был отец, который неподвижно, как жуткая сюрреалистическая статуя, стоял надо мной и не мигая глядел туда, где только что был наш дом. Туда, где в подвале, в бархатной комнате, навсегда осталась моя мама и ее подарок – мне на день рождения.
Идешь к женщине? Не забудь взять с собой плетку. Так говорил Ницше. Или Шопенгауэр. А что берет с собой женщина, когда идет к мужчине? Не сомневайтесь, она может взять все что угодно. И если мужская фантазия не пошла дальше плетки, то фантазия женщины бездонна, как ее сумочка. И то, что она внезапно может достать из нее, не снилось ни Ницше, ни Шопенгауэру.
Кира Назарова, без определенных занятий
Летняя смена
– Девятиэтажки.
– Горисполком.
– Памятник Ленину.
– Пионерлагерь «Дзержинец».
– Электросчетчики в коридоре.
– ЖЭК, ЖСК, ЖКХ.
– Троллейбусы.
– Почему троллейбусы? Это даже слово нерусское.
– Потому что я знаю – в Европе троллейбусов нет. Только у нас. Завод «Ижмаш».
– Мозаики про космонавтов на домах.
– Надпись «Почта Телефон Телеграф» большими электрическими буквами, половина не горит.
– Памятник дружбе народов.
– Речные пароходы, где объявляют: «Товарищи пассажиры!»
– ЛЭПы.
– Что?
– ЛЭП. Линия электропередачи.
– Это везде есть.
– Везде это, наверное, иначе выглядит. А ЛЭПы – только у нас, – сказал он не без гордости.
Мы сидели на берегу ижевского пруда и перечисляли, что еще кондово-советского осталось в нашем городе в 1995 году.
– Турники во дворах.
– Электрички.
– Кинотеатр «Прогресс», кинотеатр «Восход».
– Поцелуй.
– Поцелуй?..
Летний поцелуй. Знаете, такой – когда пахнет водой, нагретым бетоном, пылью – еще песчинки, непонятно как попавшие в рот, похрустывают на зубах, а кожа того, кого целуешь, горячая и немного влажная.
И еще – тебе шестнадцать, завтра ты уезжаешь в пионерлагерь, а парень, которого целуешь, тебе не очень-то и нравится. Он веселый, с ним можно играть в подобные игры, но в общем не такой, как те, другие, за которыми ты следишь украдкой – запоминая каждое слово, каждое движение.
А что тебе остается делать, если ты – вотячка, рыжая и лагерь, в который ты едешь, – тоже вотяцкий.
Мы поцеловались, и он пошел через площадь, пересек тень от Лыж Гали Кулаковой и дальше, вдоль ижевского пруда – весь в черном, под июльским солнцем.
В каждом городе должна быть достопримечательность – какая-нибудь высокая бесполезная фигня, торчащая над городом и видная со всех сторон. Лыжи Кулаковой, он же Шаверма, он же Хуй – это очередной памятник дружбе народов на берегу пруда в городе Ижевске: две непомерно длинные плиты, связанные между собой какой-то лепниной. По задумке архитектора, он должен был символизировать связь двух этносов, русского и удмуртского.
Нас, удмуртов, нацменьшинство, местные русские называют вотяками. Что-то типа чурок про кавказцев. У нас нет особых признаков, вроде цвета волос или разреза глаз, но жители бывшей Удмуртской AССР почти безошибочно выделяют нас из толпы. У вотяков большие зубы, грубые рты. Часто – длинные носы. Простые крестьянские черты. В общем, если видишь лицо, будто собранное из частей, плохо друг к другу пригнанных, – это почти наверняка вотяк.
«Вотячка» – как «колхозница». Поэтому что еще мне оставалось, кроме как целоваться с не очень красивым и не очень интересным парнем возле Лыж Кулаковой?
Дома я собиралась под недовольными взглядами матери (Карты? Зачем тебе там карты?). Вообще-то подруга советовала взять презервативы. По дороге домой я потопталась у аптеки, но спросить не решилась. Тогда я еще была девственницей.
В шкафу, из которого я доставала и складывала в чемодан юбки, шорты, футболки, пахло застиранным тряпьем. Запах вместе с одеждой упаковывался в чемодан, туго перетягивался ремнями.
– Куда тебе столько вещей? Едешь ненадолго. Если что надо будет – я привезу. Куда тебе платье это?
– Мам, там дискотеки. Надену.
– Дискотеки… – Мать недовольно уходила на кухню.
На кухне телевизор что-то бухтел про приватизацию, там шумели заводы, а корреспондент с микрофоном надрывался, пытаясь их перекричать. Потом, уже когда захлопывала чемодан, я услышала, как играет погодная заставка, и побежала на кухню. На большом изогнутом экране нашего «Рубина», чуть подергиваясь, светилось изображение огромной моей страны и девушка с правильными чертами лица и в строгом платье тыкала палочкой в города. Но я следила не за ней, не за палочкой, которая углублялась все дальше на восток, – смотрела на левый край карты. К тому году моя страна уже стала меньше, намного меньше той, что была прежде, – но карта у девушки была еще старая, на ней слева были Киев и Брест, а за ними, за толстой змеистой чертой, обозначающей край земли, – была Варшава, а еще правее, у самого угла – Берлин, чуть выше – Любек, а еще выше – Киль. Дальше карта обрывалась окончательно, но я представляла себе, как камера передвигалась и как на экране появлялись новые очертания и значки: дождик над Лондоном и солнышко над Ниццей, синенький градусник над Норвегией и красненький – над Сицилией. Мать протягивала руку к телевизору, собираясь ткнуть в тугую кнопку с горящей цифрой, – переключить канал.
– Стой, стой, минуточку! – кричала я.
Мать взмахивала руками, отходила – она уже знала.
Передача заканчивалась, и на экране появлялось оно – волшебное слово «Реклама», недолго держалось, и его сразу сменяли несколько картинок, которые после унылой цветовой гаммы студии новостей буквально взрывали экран. Там застывший фейерверк над огромной металлической штуковиной – Эйфелевой башней – быстро сменяли тысячи огоньков на припорошенных легким снегом деревьях, булыжные мостовые и дома с огромными арочными окнами и кафе на первых этажах – Вена. И дальше, картинка за картинкой, – светящийся проспект с витринами и блестящими автомобилями, без единой пылинки, с настоящими трехлучевыми звездами на капотах – Германия, и сразу, без предупреждения – зеленые поля и домики с черепичными крышами между ними, ряды виноградников и голубая речка – Франция. А потом речка сменялась синим морем и снежно-белыми крышами под ясным, ласковым солнцем, совсем другим, чем то, наше, пыльное, отбрасывающее длинную тень от Лыж Кулаковой. Стройные, ослепительно красивые люди на побережье, беззаботные и сами светящиеся, подобно маленьким солнышкам – Италия. Завершала ряд картинок панорама, снятая сверху, – зеленые склоны, прозрачные, как в сказках про русалок, озера, в берега которых будто вросли старинные, похожие на шахматные ладьи замки, и над всем этим возвышались огромные белые от снега Альпы, снега такого, каким никогда не бывает растоптанный, размешанный в скользкую грязь снег у дома. Картинки мелькнули в десять чистых, как горный воздух Швейцарии, секунд – потом над Альпами проступили буквы «Туристическое агентство „Европа“», с адресом и телефоном, а потом все исчезло. Показали какие-то пыльные прилавки, старые кассовые аппараты, полки под мореный дуб, и голос, пародирующий президента Ельцина, стал рекламировать магазин «Братский». На балконе завизжала отцовская фреза – сказка пропала.
У отца там была мастерская. С тех пор как закрыли радиозавод, где он работал инженером, отец сидел дома, делал «товары народного промысла» – туески, хлебницы, «райских птиц», – а его друг сбывал это все иностранным туристам.
Потом я пила чай с молоком и двумя ложками сахара – вкус, который, через годы, города и страны, только сглотни и вспомни тот день – сразу появляется во рту. Потом звонил он, мой парень, который мне не очень-то нравился, а потом наступила ночь. Ночь перед отъездом в лагерь.
Я засыпала на своем продавленном диване, смотрела в потолок, на неясные отсветы, которые оставляли фары проезжавших мимо дома машин, слышала электрическое подвывание двигателя последнего троллейбуса. Ветер чем-то шелестел, залетал в открытое окно, мягко касался лица – и казалось, кто-то невидимый с нежным напором наползает поверх одеяла и следы его мягких касаний остаются на теле.
Вечером, сама с собой, я продолжала играть в игру, начатую с моим парнем, но слова – слова были другие…
– Лыжный курорт.
– Шампанское.
– Виноградники.
– Кабриолет, – шептала я в темноту.
– Швейцарский ножик.
– Мартини с оливкой.
– Квартира, где стоит не номер, а твое имя.
– Кофе по-венски.
– Ив Сен-Лоран.
Перед сном всегда хотелось, чтобы приснилась далекая Европа, хотелось увидеть себя на берегу моря, или в отеле, или в венском кафе за чашкой кофе, будто я каждый день сижу там – но постоянно снилось что-то другое: тяжелые лица вотяков-одноклассников, ссоры с моим парнем, наш пруд, проходная радиозавода с электронными часами над ней. Только один раз приснилась Швейцария – солнце заходило над озером, сахарные замки показались большими и грозными, какие-то тени лежали вокруг, – сон был тревожный.
* * *
– Вставай, вставай!
Это мать поднимала меня с утра на следующий день. Я как во сне одевалась, как во сне тащила чемодан, ехала с матерью в троллейбусе, что-то там отвечала на ее вопросы – и только когда оказалась на остановке автобуса, который должен был отвезти нас в лагерь, поняла, что это все-таки не сон…
Лица подростков, которых заспанные родители грузили в автобус, даже в сонном тумане, в утренней дымке были безобразно отчетливы. Ни одного нормального парня. Толстые, с двойными подбородками, или наоборот – худые заморыши, или крепко сбитые, с лицами, будто срубленными топором. Мамаша запихнула меня в смену, которая называлась «Встреча финно-угорских народов». Это модно было тогда у нас, в Ижевске девяностых – мэрия выбивала из финнов деньги на такие встречи, и нас там, в этих лагерях, знакомили с культурой нашего народа… И что самое ужасное – вожатой была девушка. Молодая девушка, русская, в спортивном костюме, с короткой стрижкой и тонкими европейскими чертами лица. Крепкая фигура, под курткой «Адидас» угадывалась грудь. Она здоровалась с каждым новоприбывшим, поднимала глаза, улыбалась, делала пометку в листке напротив фамилии, словно учетчик на заводе, и опускала глаза обратно в листок – во всем была небрежность, легкое снисхождение – к нам, вотяцким недорослям.
По-прежнему в легкой дымке, которую все чаще прорывало негодование и чувство обманутости, я видела мою мамашу, что-то втирающую вожатой, которую она уже называла Анечкой. Мать указывала на меня, заискивающе улыбалась, под конец впихнула какую-то дрянную плитку шоколада – «Анечка» кивала и улыбалась как бы мило, но слегка удивленно, а потому – унизительно.
Ты – девочка, которую родители отправили в лагерь для удмуртов… что тебе остается? Когда автобус трогается, набирает скорость – ничего уже не вернешь, надо жить с тем, что есть. Например, с твоими соседками. Рядом со мной сидела девушка с круглым, приятным лицом – даже не скажешь сразу, что вотячка: маленькие розовые ушки, пепельная коса, длинные ресницы. Вотячку выдавал нос – вздернутая кнопка, почти пятачок. С первых же слов стало понятно, что она – девочка-умница, девочка-скромница, рукодельница и стыдливая недотрога. Такие, наверное, в оркестре играют на арфах.
– Я очень рада, что мама отправила меня в этот лагерь, – говорила она. – Стыдно не знать родную культуру.
– Родную вотяцкую культуру! – донеслось с заднего сиденья, и я сразу обернулась.
Там сидели две девчонки, – одна вся в веснушках, с наглыми зелеными миндалевидными глазами и грубым низким голосом. Это она сказала про культуру – так, что моя соседка покраснела. Рядом с ней сидела ужасно бледная девушка, цвет ее кожи отдавал синевой. Веки были тоже подведены синим, и вдобавок ко всему – жирно накрашенные черным ресницы и черные волосы. Утопленница, – прикинула я на нее прозвище, а потом короче: Трупик.
Мы познакомились. Лиза, девушка-трупик, говорила, что лагерь нормальный, дискотеки есть и сбегать можно по ночам без проблем. Веснушчатая Оля сказала, что все было бы хорошо, если бы не стремные вотяки, что родителей, которые запихали ее в эту смену, она бы убила. Скромная Оксана промурлыкала что-то вроде: «Оля, но ведь ты тоже удмуртка!» – и услышала в ответ что-то такое, от чего густо покраснела, захлопала ресницами и надолго замолчала.
Автобус катился по лесному тракту, из-за деревьев иногда показывался ижевский пруд. Промелькнула огромная, ужасно уродливая чугунная скульптура, изображающая лося.
– О, моя сестра тут замуж выходила неделю назад, – сказала Оля, – ничо, нормального парня нашла…
На свадьбу все молодожены почему-то ездили «к лосю» фотографироваться, а иногда там же и напивались.
Промелькнуло несколько старых машин, приткнувшихся возле скульптуры, с пруда донеслись далекие крики купавшихся.
– Эйфелева башня.
– Монмартр.
– Колизей.
– Особняк, белая вилла.
Я подумала, что вот, мое приключение – эта поездка в лагерь, который находится «за лосем», практически за границей. И еще опять подумала, что, если не врут реклама и сериалы, есть же где-то люди, которые на свадьбу летают из Рима в Париж и из Парижа в Рим.
* * *
– Заходит мужик в трамвай, видит – куча народу. А на сиденье старуха сидит, ноги на соседнее место положила. Он ей говорит: «Бабушка, уберите ноги, я сяду». А она ему: «Мужчина, во-первых, это не ноги, а ножки. А во-вторых, их в семнадцатом году целовали». Ну, мужик ничего не сказал, остался стоять. Потом заходит другой, видит то же самое. И тоже говорит: «Бабушка, уберите ноги, я сяду». А она ему: «Во-первых, это не ноги, а ножки, а во-вторых, их в семнадцатом году целовали». На следующей остановке заходит пьяный матрос. И тоже: «Бабка, – говорит, – двинься, я сяду!» А она ему опять: «Это не ноги, а ножки, и их в семнадцатом году целовали». «Ну и что, – отвечает матрос, – если мне только что хуй сосали, мне его на компостер положить?»
Лиза-трупик смеется, Оксана, которую Оля прозвала Снегурочкой, вспыхивает, опускает глаза и хлопает ресницами. Оля, довольная тем, как рассказала анекдот, хохочет. Я смотрю на нее, улыбаюсь, но юмора не понимаю.
– Вот такой анекдот мой парень рассказал. Причем при матери. Я ему: заткнись, дурак, а мать ничего – смеется, – продолжает копаться в сумке Оля.
Нас, как мы и хотели, поселили в одну палату. Палат было не больше десяти, в деревянном коттедже, из окон которого видно ограду, а за ней – озеро. Как приехали, нас сразу собрали в рекреации, долго рассказывали о местных правилах и нашей программе. Получалось, что почти ничего нельзя, зато первую дискотеку назначили на тот же вечер – «чтобы всем познакомиться».
Потом был обед, потом мы с девчонками шлялись по лагерю, смотрели на другие отряды. Перед ужином к нам пришли парни, спросить, идем ли мы на дискотеку. Лиза-трупик, посмотрев на них, сказала: «С вами не пойдем», – но Оля повела себя более практично.
– Лиза, погоди, ты говорила, тут магазин есть? – спросила она быстро.
– Есть, из ворот прямо по тропинке. А что?
– Пацаны, купите нам вина какого-нибудь, а? – Оля посмотрела на одного, толстого и высокого, с курчавыми волосами, отчего-то похожего на петуха.
– И что мне за это будет? – спросил он.
– Ты принеси сначала! Давайте принесите, мы с вами тогда и пойдем.
Парни потоптались и ушли.
– Вотяки, колхозники! – сказала Оля, когда вся компания показалась за окном: видимо, уже шли к воротам.
Я молчала. А что еще делать?
– Мартини с оливкой.
– Абсент.
– Виски – напиток настоящих мужчин.
И где-то есть места, где у женщин вместо подруг – компаньонки…
Оля надела джинсы со стразами и розовый топ, Лиза-трупик нарядилась во все черное, а Оксана вытащила из чемодана какое-то бежевое платье, видно, еще мамино – с длинной, торчащей во все стороны юбкой.
– Снегурочка на бал собралась! – заржала Оля, надевая босоножки. Ноги у Оли, в узких джинсах и на каблуках, казались очень длинными.
– «Копыта очень стройные и добрая душа», – так меня пацаны называли, ха-ха! Девчонки, не давайте мне много пить, а то тут тоже узнают про мою добрую душу…
Парни пришли, когда уже темнело, принесли дрянной портвейн в завернутой в газету бутылке. Газету бросили на мою кровать, но мне лень было ее убирать. Пили из пластиковых стаканов, парень, похожий на петуха, говорил: «За вас, девчонки!» – и демонстративно опрокидывал стакан в огромную пасть. Я пила и думала, что есть места, где женщины в коктейльных платьях стоят у бассейнов и напитки им приносят молодые люди в бабочках.
– Мохито.
– Кайпиринья.
– Куба Либре.
Видела бы меня моя мать! Второй стакан, в голове шумит, а парни все в ужасных тренировочных, и я ни одного из них не подпущу к себе на выстрел, уж лучше тот, с которым целовалась у Лыж Кулаковой…
На воздух мы выбрались, когда все, кроме нас, ушли. Оля с Лизой шли впереди, мы с Оксаной – за ними, по дорожке, выложенной плиткой, к каменному корпусу столовой, откуда доносилась музыка…
– Eins, zwei – Polizei, drei, vier – Grenadier…
Хит того лета, непонятный язык, язык, на котором говорят в Европе.
Вспыхивали разноцветные фонарики, парни и девушки сбивались в темные кружки, неуклюже топтались, смущенно смотрели по сторонам. Другие просто сидели у стенок. Оля сразу бросилась к одному из кружков, Оксана встала у стенки. Я села и огляделась.
Вот тогда-то я и увидела его. Он был в голубых джинсиках и белой футболке без рукавов, в обтяжку. Он двигался, и мускулы перекатывались под этой футболкой неторопливо и мощно. Он весь был – спокойная сила. Невысокий и стройный, с тонкой талией и широкими плечами. С зелеными глазами, в которых играла легкая, веселая сумасшедшинка, неопасная, без демонизма. Волосы были почти длинными, волной разлетались на стороны, иногда закрывали лоб и глаза – быстрым, еле заметным движением он поправлял их. Он танцевал, изображая робота – пародировал брейк-данс 80-х, танцевал красиво и точно, но как бы в шутку, несерьезно. И по тому, как он двигался, было видно: с ним не может быть скучно. Не может быть неловко, и за него никогда не будет стыдно. А я теперь затаив дыхание все время буду смотреть, как он танцует – снизу вверх, снизу вверх. И в эту смену я непременно влюблюсь. Уже влюбилась.
* * *
Ты просыпаешься в палате от стука в дверь, крика «подъем!», от утреннего солнца… В голове немного туманно, и ты помнишь, что что-то такое случилось вчера, что-то изменилось. Что-то сделало твое пребывание здесь осмысленным, и ты знаешь уже, чем будешь заниматься здесь до конца смены… но только не помнишь, что это было.
Оксана уже встала, оделась и застилает кровать. Лиза спит и выглядит на белой подушке настоящим трупом. Оля зевает, тянется – так и ждешь, что с зевком, по-мужски, скажет «бля-а-а-а…», как делают все парни.
И думаешь о том, что в Европе есть места, где женщины спят в пеньюарах, на огромных кроватях с пологом, но теперь у тебя есть что-то, чего нет у них…
– Париж, город влюбленных.
– Рио-де-Жанейро, танцы всю ночь.
– Италия.
И только тогда вспоминаешь его.
С утра нас строили на линейку, поднимали флаг, потом поотрядно вели в столовую. Я увидела его там во второй раз – он был вожатым, вел свой отряд, по дороге разговаривая с нашей Анечкой – наверное, о своих вожатских делах. Потом они вместе ели, за одним столом, а мы с девчонками – за нашим, и я смотрела на него через всю столовую, с трудом поднося ложку ко рту.
– Стремный пацан, – услышала я вдруг низкий Олин голос.
Я вздрогнула и уставилась на нее. Кто-то из вчерашних парней шел через зал.
– Вчера вроде целовалась с ним на дискотеке. Не помню. Он мне еще водки наливал на улице. Я после этого кого хочешь поцелую…
Парень подошел, о чем-то заговорил с Олей, а она демонстративно закатывала глаза. Кажется, обещал достать лодку, если мы пойдем купаться.
– А чо, девчонки, пойдем сразу, как поедим. На лодке загорать можно, – отвечала Лиза.
Я представила себе Лизу загорающей, и мне стало смешно.
Он, в другом конце столовой, встал, взял тарелки – свою и Анину, – отнес в мойку. Сильная рука, согнутая в локте, держала их так легко и изящно… Где-то есть места, где женщин приглашают кататься на яхтах – и они загорают там в шезлонгах, на белоснежной палубе. Он прошел вместе с Анечкой мимо, и я проводила его глазами – снизу вверх, снизу вверх…
В палате, пока девчонки собирались, я рассматривала себя в зеркало. Рыжие волосы, грубый крестьянский нос, куцые ресницы, водянистые глаза – непонятно, зеленые или голубые.
– Кирка, кончай в зеркало пялиться! Мы готовы…
Оля надела купальник, и я с удовольствием заметила, что у нее совсем нет груди.
– Я догоню, идите!
Они ушли, я осталась в палате одна. Не люблю переодеваться при всех. Сумка забилась под кровать, вместе с ней вылезли клочки газеты «Комсомольская правда», наверное той, в которую была завернута вчерашняя бутылка. Большая фотография профессора Лебединского, черно-белая, зернистая, ниже – про группу «Агата Кристи», которая мне вообще-то нравилась тогда, справа – заметка о том, что компания «Дойче Люфттранспорт» начинает регулярные рейсы в Москву, еще ниже – колонка происшествий.
«Трое девочек-подростков связали в школьной раздевалке одноклассника. По рассказам пострадавшего, они жестоко издевались над ним, били ногами и принуждали к извращенному сексу. Все трое исключены из школы, дело передано в районную прокуратуру. Подробности не разглашаются».
Я скомкала обрывок газеты и сунула в карман джинсов. Представила себе этих девчонок, должно быть таких же грубых, как Оля, и парня, скорее всего отличника и тихоню, – на заплеванном полу в вонючей спортивной раздевалке. Били ногами… в кроссовках или в туфлях на каблуке? И зачем он, дурак, все это рассказал?
Есть места, где солнечные, смеющиеся люди на такое неспособны.
На озере я снова увидела его. Он с разбегу кидался в воду, встряхивал мокрыми волосами, звал Анечку купаться. Она сидела на берегу и читала газету. Кажется, тоже «Комсомолку».
* * *
Смена в лагере потекла своим чередом. Мы праздновали вотяцкие праздники, участвовали в соревнованиях, в которых надо было понимать удмуртский язык – спотыкающуюся скороговорку поднимающихся и падающих интонаций. Еще был конкурс красоты, в котором каждый отряд выставлял свою претендентку. Мы отправили Оксану, и она взяла приз «мисс Скромность».
– Снегурка молодец, – довольно ржала Оля. – А чо, могла бы и я участвовать! Почему я не мисс Скромность?
В волейбол наша команда выиграла у соседнего коттеджа – все парни играли неуклюже, но наши были брутальнее. Оля прыгала на своих длинных ногах выше всех и орала на наших противников так, что те пригибались.
Зато за игрой вожатых я следила безотрывно – как красиво он вставал к линии, подбрасывал мяч, легко и хлестко бил по нему ладонью… Ему, наверное, надо играть в теннис – ведь где-то в Европе есть места, где мужчины после работы играют в теннис на белоснежных кортах и произносят:








