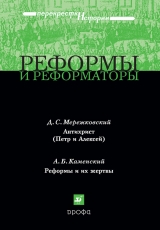
Текст книги "Реформы и реформаторы"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Соавторы: Александр Каменский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Ei, dat ist nitt parmittet![15]15
Эй, это запрещается!
[Закрыть] – крикнул по-голландски царь, подходя и становясь между ними.
Протодиакон Петр Михайлов имеет от папы указ – «во время шумства унимать словесно и ручно».
– Сатисфакции требую! – вопил князь Яков. – Учинен мне великий афронт…
– Камрат, – возразил царь, – на князя-кесаря где сыскать управы, кроме Бога? Я ведь и сам человек подневольный, у его величества в команде состою. Да и какой афронт? Ныне вся кумпания от Бахуса не оскорблена. Sauffen – rauffen, напьемся – подеремся, проспимся – помиримся.
Врагов заставили выпить штраф перцовкою, и скоро они вместе свалились под стол.
Шуты галдели, гоготали, блевали, плевали в лицо не только друг другу, но и порядочным людям. Особый хор, так называемая весна, изображал пение птиц в лесу, от соловья до малиновки, разными свистами, такими громкими, что звук отражался от стены оглушающим эхом. Раздавалась дикая плясовая песня с почти бессмысленными словами, напоминавшими крики на шабаше ведьм:
Ой, жги, ой, жги!
Шень-пень, шиваргань!
Бей трепака,
Не жалей каблука!
В нашем дамском отделении пьяная старая баба-шутиха, князь-игуменья Ржевская, настоящая ведьма, тоже пустилась в пляс, задрав подол и напевая хриплым с перепоя голосом:
Заиграй, моя дубинка,
Заваляй, моя волынка!
Свекор с печки свалился,
За колоду завалился.
Кабы знала, возвестила,
Я повыше б подмостила,
Я повыше б подмостила,
Свекру голову сломила.
Глядя на нее, царица, со сбившейся набок прическою, вся потная, красная, пьяная, прихлопывала, притоптывала: «Ой, жги! Ой, жги!» и хохотала как безумная. В начале попойки приставала она к ее высочеству, убеждая пить довольно странными пословицами, которых на этот счет у русских множество: чарка на чарку – не палка на палку; без поливки и капуста сохнет; и курица пьет. Но, видя, что кронпринцессе почти дурно, сжалилась, оставила ее в покое и даже потихоньку сама подливала ей, а кстати и нам, фрейлинам, воды в вино, что на подобных пирах считается великим преступлением.
В конце ночи – мы просидели за столом от шести часов вечера до четырех утра – несколько раз подходила царица к дверям, вызывая царя и спрашивая:
– Не пора ли домой, батюшка?
– Ничего, Катенька! Завтра день гулящий, – отвечал царь.
Приподымая занавеску и заглядывая в мужское отделение, я видела каждый раз что-нибудь новое.
Кто-то, шагая прямо через стол, попал сапогом в блюдо с рыбным студнем. Этот самый студень царь только что совал насильно в рот государственному канцлеру Головкину, который терпеть не мог рыбы; денщики держали его за руки и за ноги; он бился, задыхался и весь побагровел. Бросив Головкина, царь принялся за ганноверского резидента Вебера: ласкал его, целовал, одною рукою обнимал ему голову, другою – держал стакан у рта, умоляя выпить. Потом, сняв с него парик, целовал то в затылок, то в маковку, подымал ему губы и целовал в десны. Говорят, причиной всех этих нежностей было желание царя выпытать у резидента какую-то дипломатическую тайну. Мусин-Пушкин, которого щекотали под шеей – он очень боится щекотки, а царь приучает его к ней, – визжал, как поросенок под ножом. Великий адмирал Апраксин плакал навзрыд. Тайный советник Толстой ползал на четвереньках; он, впрочем, как оказалось впоследствии, не был слишком пьян и притворялся, чтобы больше не пить. Вице-адмиралу Крюйсу раскроили голову бутылкою. Князь Меншиков упал замертво со страшно посиневшим лицом; его растирали и приводили в чувство, чтобы он не умер: на таких попойках часто умирают. Царского духовника, архимандрита Федоса, рвало. «Ох, смерть моя! Матерь Пресвятая Богородица!» – жалобно стонал он. Князь-папа храпел, навалившись всем телом на стол, лицом в луже вина.
Свист, рев, звон разбитой посуды, матерная брань, оплеухи, на которые уже никто не обращал внимания, стояли в воздухе. Смрад, как в самом грязном кабаке. Кажется, если бы прямо со свежего воздуха привели кого-нибудь сюда, его сразу стошнило бы.
У меня в глазах темнело; иногда я почти теряла сознание. Человеческие лица казались какими-то звериными мордами, и страшнее всех было лицо царя – широкое, круглое, с немного косым разрезом больших, выпуклых, точно выпученных, глаз, с торчащими кверху острыми усиками, – лицо огромной хищной кошки или тигра. Оно было спокойно и насмешливо. Взор ясен и проницателен. Он один был трезв и с любопытством заглядывал в самые гнусные тайны, обнаженные внутренности человеческих душ, которые выворачивались перед ним наизнанку в этом застенке, где орудием пытки было вино.
Князя-папу разбудили и подняли со стола. Под столом князь-кесарь тоже успел выспаться. Их заставили вдвоем друг против друга плясать, поддерживая под руки, так как оба едва стояли на ногах. Папа в шутовской тиаре, венчанный голым Вакхом, имел в руке крест из чубуков. Кесарь – в шутовской короне, со скипетром в руке. Царевич лежал на полу, совершенно пьяный, как мертвый, между этими двумя шутами, двумя призраками древнего величия – русским царем и русским патриархом.
Что было потом, не помню, да и вспоминать не хочу – слишком гадко.
На соседних кораблях пробили зорю. И у нас послышался звук барабана: сам царь – он отличный барабанщик – бил отбой. Это значило – «с Ивашкой Хмельницким (русским Вакхом) была великая баталия, и он всех пошиб». Гренадеры выносили на руках пьяных вельмож, как тела убитых с поля сражения.
Когда мы увидели небо, нам показалось, что мы выходим, говоря высоким слогом, из ада, а низким – из помойной ямы.
* * *
9 мая
Сегодня царь с большим флотом выехал из Петербурга для военных действий против шведов.
* * *
20 мая
Давно не писала дневника. Ее высочество была больна после попойки. Я от нее не отходила. Да и что писать? Все так печально, что говорить и думать не хочется. Будь что будет.
* * *
25 мая
Я не ошиблась. Мир оказался недолгим. Опять пробежала черная кошка между царевичем и ее высочеством; опять по целым неделям не видятся. Он тоже болен. Доктора говорят – чахотка. Я думаю – просто водка.
* * *
4 июня
Пришел царевич, одетый по-дорожному, в сером немецком рейзероке, поговорил о чем-то постороннем и вдруг объявил:
– Adieu. Ich gehe nach Karlsbad[16]16
Прощайте. Я еду в Карлсбад ( нем.).
[Закрыть].
Кронпринцесса так растерялась, что не нашлась, что сказать, даже не спросила – надолго ли. Я думала, он шутит. Но оказалось, почти тотчас, выйдя от нас, царевич сел в почтовую карету – и был таков. Говорят, в самом деле едет на воды лечиться.
И вот мы одни, без царя и царевича.
Родители ее высочества, должно быть поверив глупым здешним сплетням, рассердились на нее и тоже перестали ей писать. Мы покинуты всеми.
* * *
7 июля
Письмо царя к ее высочеству:
«Я бы не хотел вас трудить також против совести моей думать; но отлучение супруга вашего, моего сына, принуждает меня к тому, дабы предварить лаятество необузданных языков, которые обыкли истину превращать в ложь. И понеже уже везде прошел слух о чреватстве вашем вящеше года, того ради, когда благоволит Бог вам приспеть к рождению, дабы о том заранее некоторый анштальт учинить, о чем вам донесет г. канцлер гр. Головкин, по которому извольте неотменно учинить, дабы тем всем, ложь любящим, уста заграждены были».
Учинили анштальт: приставили к ее высочеству трех почти незнакомых ей женщин, канцлершу Головкину, генеральшу Брюс да старую бабу-шутиху, князь-игуменью Ржевскую, ту самую, что плясала во время попойки. Эти три мегеры не спускают с нее глаз, «охраняют», или попросту шпионят.
Что все это значит? Чего боятся? Какого обмана? Неужели подмены ребенка, девочки – мальчиком, по проискам тех, кто желает утвердить наследство за родом царевича? Или это чрезмерная любезность царицы?
Теперь мы только поняли, как подозревают и ненавидят нас. Вся вина Шарлотты в том, что она – жена мужа своего. Отец против сына, а мы между них, как между двух огней.
«Послушно исполню волю вашего величества о назначении трех женщин для моей охраны, – ответила Шарлотта царю, – тем более что мне и на ум никогда не приходило намерение обмануть ваше величество и кронпринца; посему столь странное и мною не заслуженное распоряжение мне весьма огорчительно. Казалось бы, многократно обещанные милости и любовь вашего величества должны были служить мне залогом, что никто не обидит меня клеветою и что виновные будут наказаны как преступники. Прискорбно, что мои завистники и преследователи имеют довольно силы к подобной интриге. Бог – моя надежда на чужбине. И как всеми я покинута, Он услышит мои сердечные вздохи и сократит мои страданья!»
* * *
12 июля
В 7 часу утра ее высочество благополучно разрешилась от бремени дочерью.
И царевич ни слуху ни духу.
* * *
1 августа
Получено известие о победе русских над шведами 27 июля при Гангуте; взята будто бы в плен целая эскадра с шаутбенахтом Эрншильдом. Весь день трезвон в колокола и пальба из пушек. Здесь, впрочем, не жалеют пороха и по поводу самых ничтожных побед: захватив три, четыре гнилые галеры, так палят, как будто мир побежден.
* * *
9 сентября
Царь вернулся в Петербург. Опять пальба, точно в осажденном городе. Мы почти оглохли. Бесконечные триумфальные шествия, фейерверки с хвастливыми аллегориями: царь прославляется как завоеватель вселенной, Цезарь и Александр. Была попойка, на которой, слава богу, нас не было. Опять, говорят, напились как свиньи.
* * *
13 сентября
Дождь, слякоть. В окнах – низкое, темное, точно каменное, небо. На голых сучьях мокрые вороны каркают.
Тоска, тоска!
* * *
19 сентября
Застала кронпринцессу плачущей над старыми письмами царевича, которые он писал женихом. Кривые бессвязные буквы на протянутых карандашом линейках. Пустые комплименты, дипломатические любезности. И она над ними плачет, бедняжка!
Мы узнали стороной, что царевич живет в Карлсбаде incognito; сюда вернется не раньше зимы.
* * *
20 сентября
Чтобы забыться, не думать о наших делах, решила записывать все, что вижу и слышу о царе.
Прав Лейбниц: «Quanto magis hujus Principis indolem prospicio, tanto eam magis admiror. – Чем больше наблюдаю нрав этого государя, тем больше ему удивляюсь».
* * *
1 октября
Видела, как царь в адмиралтейской кузнице ковал железо. Придворные служили ему, разводили огонь, раздували мехи, носили уголья, марая шелк и бархат шитых золотом кафтанов.
– Вот оно – царь так царь! Даром хлеба не ест. Лучше бурлака работает! – сказал один из стоявших тут простых рабочих.
Царь был в кожаном переднике, волосы подвязаны бечевкою, рукава засучены на голых, с выпуклыми мышцами руках, лицо запачкано сажею. Исполинского роста кузнец, освещенный красным заревом горна, похож был на подземного титана. Он ударял молотом по раскаленному добела железу так, что искры сыпались дождем, наковальня дрожала, гудела, как будто готовая разлететься вдребезги.
«Ты хочешь, государь, сковать из Марсова железа новую Россию; да тяжело молоту, тяжело и наковальне!» – вспомнились мне слова одного старого боярина.
«Время подобно железу горячему, которое, ежели остынет, неудобно кованию будет», – говорит царь. И, кузнец России, он кует ее, пока железо горячо. Не знает отдыха, словно всю жизнь спешит куда-то. Кажется, если б и хотел, то не мог бы отдохнуть, остановиться. Убивает себя лихорадочною деятельностью, неимоверным напряжением сил, подобным вечной судороге. Врачи говорят, что силы его надорваны и что он проживет недолго. Постоянно лечится железными олонецкими водами, но при этом пьет водку, так что лечение только во вред.
Первое впечатление при взгляде на него – стремительность. Он весь – движение. Не ходит, а бегает. Цесарский посол, граф Кинский, довольно толстый мужчина, уверяет, что согласился бы лучше выдержать несколько сражений, нежели пробыть у царя два часа на аудиенции, ибо должен при тучности своей бегать за ним во все это время, так что весь обливается потом, даже в русский мороз. «Время яко смерть, – повторяет царь. – Пропущение времени смерти невозвратной подобно».
* * *
Его стихии – огонь и вода. Он их любит, как существо, рожденное в них: воду – как рыба, огонь – как саламандра. Страсть к пушечной пальбе, ко всяким опытам с огнем, к фейерверкам. Всегда сам их зажигает, лезет в огонь; однажды при мне спалил себе волосы. Говорит, что приучает подданных к огню сражений. Но это только предлог: он просто любит огонь.
Такая же страсть к воде. Потомок московских царей, которые никогда не видели моря, он затосковал о нем еще ребенком в душных теремах Кремлевского дворца, как дикий гусеныш в курятнике. Плавал в игрушечных лодочках по водовзводным потешным прудам. А как дорвался до моря, то уже не расставался с ним. Большую часть жизни проводит на воде. Каждый день после обеда спит на фрегате. Когда болен, совсем туда переселяется, и морской воздух его почти всегда исцеляет. Летом в Петергофе, в огромных садах ему душно. Устроил себе спальню в Монплезире, домике, одна сторона которого омывается волнами Финского залива; окна спальни прямо в море. В Петербурге Подзорный дворец построен весь на воде, на песчаной отмели невского устья. Дворец в Летнем саду также окружен водою с двух сторон: ступени крыльца спускаются в воду, как в Амстердаме и Венеции. Однажды зимою, когда Нева уже стала и только перед дворцом оставалась еще полынья окружностью не больше сотни шагов, он и по ней плавал взад и вперед на крошечной гичке, как утка в луже. Когда же вся река покрылась крепким льдом, велел расчистить вдоль набережной пространство шагов сто в длину, тридцать в ширину, каждый день сметать с него снег, и я сама видела, как он катался по этой площадке на маленьких красивых шлюпках или буерах, поставленных на стальные коньки и полозья. «Мы, говорит, плаваем по льду, чтоб и зимою не забыть морских экзерциций». Даже в Москве на Святках катался раз по улицам на огромных санях, подобии настоящих кораблей с парусами. Любит пускать на воду молодых диких уток и гусей, подаренных ему царицею. И как радуется их радости! Точно сам он водяная птица.
* * *
Говорит, что начал впервые думать о море, когда прочел сказание летописца Нестора о морском походе киевского князя Олега под Царьград. Если так, то он воскрешает в новом – древнее, в чужом – родное. От моря через сушу к морю – таков путь России.
* * *
Иногда кажется, что в нем слились противоречия двух родных ему стихий – воды и огня – в одно существо, странное, чуждое – не знаю, доброе или злое, Божеское или бесовское, – но не человеческое.
* * *
Дикая застенчивость. Я видела сама, как на пышном приеме послов, сидя на троне, он смущался, краснел, потел, часто для бодрости нюхал табак, не знал, куда девать глаза, избегал даже взоров царицы; когда же церемония кончилась и можно было сойти с трона, рад был, как школьник. Маркграфиня Бранденбургская рассказывала мне, будто бы при первом свидании с нею царь – правда, тогда совсем еще юный – отвернулся, закрыл лицо руками, как красная девушка, и только повторял одно: «Je ne sais pas m’exprimer... – Я не умею говорить…» Скоро, впрочем, оправился и сделался даже слишком развязным: пожелал убедиться собственноручно, что не от природной костлявости немок зависит жесткость их талий, удивлявшая русских, а от рыбьего уса в корсетах. «Il pourrait être un peu plus poli! – Он бы мог быть повежливее!» – заметила маркграфиня. Барон Мантейфель передавал мне о свидании царя с королевою прусскою: «Он был настолько любезен, что подал ей руку, надев предварительно довольно грязную перчатку. За ужином превзошел себя: не ковырял в зубах, не рыгал и не производил других неприличных звуков (il n’a ni roté, ni peté)».
Путешествуя по Европе, требовал, чтобы никто не смел смотреть на него, чтоб дороги и улицы, когда он проезжал по ним, были пусты. Входил и выходил из домов потайными ходами. Посещал музеи ночью. Однажды в Голландии, когда ему нужно было пройти через залу, где заседали члены Генеральных Штатов, просил, чтобы президент велел им повернуться спиною; а когда те из уважения к царю отказались, стащил себе на нос парик, быстро прошел через залу, прихожую и сбежал по лестнице. Катаясь в Амстердаме по каналу и видя, что лодка с любопытными хочет приблизиться, пришел в такое бешенство, что бросил в голову кормчего две пустые бутылки и едва не раскроил ему черепа. Настоящий дикарь-каннибал. В просвещенном европейце – русский леший.
Дикарь и дитя. Впрочем, все вообще русские – дети. Царь среди них только притворяется взрослым. Никогда не забуду, как на сельской ярмарке близ Вольфенбюттеля герой Полтавы ездил верхом на деревянных лошадках дрянной карусели, ловил медные кольца палочкой и забавлялся, как маленький мальчик.
Дети жестоки. Любимая забава царя – принуждать людей к противоестественному: кто не терпит вина, масла, сыра, устриц, уксуса, тому он при всяком удобном случае наполняет этим рот насильно. Щекочет боящихся щекотки. Многие, чтоб угодить ему, нарочно притворяются, что не выносят того, чем он любит дразнить.
Иногда эти шутки ужасны, особенно во время святочных попоек, так называемого славления. «Сия потеха Святок, – говорил мне один старый боярин, – так происходит трудная, что многие к тем дням приуготовляются, как бы к смерти». Таскают людей на канате из проруби в прорубь. Сажают голым задом на лед. Спаивают до смерти.
Так, играя с людьми, существо иной породы, фавн или кентавр, калечит их и убивает нечаянно.
В Лейдене, в анатомическом театре, наблюдая, как пропитывают терпентином обнаженные мускулы трупа и заметив крайнее отвращение в одном из своих русских спутников, царь схватил его за шиворот, пригнул к столу и заставил оторвать зубами мускул от трупа.
Иногда почти невозможно решить, где в этих шутках кончается детская резвость и начинается зверская лютость.
* * *
Вместе с дикою застенчивостью – дикое бесстыдство, особенно с женщинами.
«Il faut que Sa Majesté ait dans le corps une légion de démons de luxure. – Мне кажется, что в теле его величества – целый легион демонов похоти», – говорит лейб-медик Блюментрост. Он полагает, что «скорбутика»[17]17
Цинга. – Прим. ред.
[Закрыть] царя происходит от другой застарелой болезни, которую получил он в ранней молодости.
По выражению одного русского из новых, у царя – «политическое снисхождение к плотским грехам». Чем больше грехов, тем больше рекрут, а они ему нужны. Для него самого любовь – «только побуждение натуры». Однажды в Англии, по поводу жалобы одной куртизанки, недовольной подарком в пятьсот гиней, он сказал Меншикову: «Ты думаешь, что и я такой же мот, как ты? За пятьсот гиней у меня служат старики с усердием и умом; а эта худо служила – сам знаешь чем!»
Царица совсем не ревнива. Он рассказывает ей все свои похождения, но всегда кончает с любезностью: «Ты все-таки лучше всех, Катенька!»
О денщиках царя ходят странные слухи. Один из них, генерал Ягужинский, угодил будто бы царю такими средствами, о которых неудобно говорить. Красавец Лефорт, по слову одного здешнего старичка-любезника, находился у царя «в столь крайней конфиденции интриг амурных», что они имели общую любовницу. Говорят, и царица, прежде чем сойтись с царем, была любовницей Меншикова, который заменил Лефорта. Меншиков, этот «муж, из подлости происшедший», который, по изречению самого царя, «в беззаконии зачат, в грехах рожден матерью и в плутовстве скончает живот свой», имеет над ним почти непонятную власть. Царь, бывало, бьет его, как собаку, повалит и топчет ногами; кажется, всему конец; а глядишь – опять помирились и целуются. Я собственными ушами слышала, как царь называл его своим «Алексашею миленьким», «дитятком сердешненьким» (sein Herzenskind), и тот отвечал ему тем же. Этот бывший уличный пирожник дошел до такой наглости, что однажды, правда во хмелю, сказал царевичу: «Не видать тебе короны как ушей своих. Она моя!»
* * *
8 октября
Сегодня хоронили одну голландскую купчиху, страдавшую водянкою. Царь собственноручно сделал ей операцию, выпустил воду. Она, говорят, умерла не столько от болезни, сколько от операции. Царь был на похоронах и на поминках. Пил и веселился. Считает себя великим хирургом. Всегда носит готовальню с ланцетами. Все, у кого какой-нибудь нарыв или опухоль, скрывают их, чтобы царь не начал их резать. Какое-то болезненное анатомическое любопытство. Не может видеть трупа без вскрытия. Ближайших родных своих после смерти анатомирует.
Любит также рвать зубы. Выучился в Голландии у площадных зубодеров. В здешней Кунсткамере целый мешок вырванных им гнилых зубов.
Циническое любопытство к страданиям и циническое милосердие. Своему пажу арапчонку собственноручно вытянул глисту.
* * *
Во всем существе – сочетание силы и слабости. Это и в лице: страшные глаза, от одного взора которых люди падают в обморок, глаза слишком правдивые; и губы тонкие, нежные, с лукавой усмешкой, почти женские. Подбородок мягкий, пухлый, круглый, с ямочкой.
О простреленной при Полтаве шляпе нам прожужжали уши. Я не сомневаюсь, что он может быть храбрым, особенно в победе. Впрочем, все победители храбры. Но так ли он всегда был храбр, как это кажется?
Саксонский инженер Галларт, участвовавший в Нарвском походе 1700 года, рассказывал мне, что царь, узнав о приближении Карла XII, передал все управление войсками герцогу де Круи, с инструкцией, наскоро написанной без числа, без печати, совершенно будто бы «нелепою» (nicht gehauen, nicht gestochen), а сам удалился «в сильном расстройстве».
У пленного шведа графа Пиппера я видела медаль, выбитую шведами: на одной стороне – царь, греющийся при огне своих пушек, из коих летят бомбы на осажденную Нарву; надпись: Петр стоял у огня и грелся – с намеком на апостола Петра во дворе Каифы; на другой – русские, бегущие от Нарвы, и впереди Петр; царская корона валится с головы, шпага брошена; он утирает слезы платком; надпись гласит: Вышед вон, плакал горько.
Пусть все это ложь: но почему об Александре или Цезаре так и солгать никто не посмел бы?
И в Прутском походе случилось нечто странное: в самую опасную минуту перед сражением царь готов был покинуть войско с тою целью, чтобы вернуться со свежими силами. А если не покинул, то только потому, что отступление было отрезано. «Никогда, – писал он Сенату, – как я начал служить, в такой дисперации не были». Это ведь тоже почти значит: «Вышед вон, плакал горько».
Блюментрост говорит – а врачи знают о героях то, чего не узнают потомки, – будто бы царь не выносит никакой телесной боли. Во время тяжелой болезни, которую считали смертельною, он вовсе не был похож на героя.
«И не можно думать, – воскликнул при мне один русский, прославлявший царя, – чтобы великий и неустрашимый герой сей боялся такой малой гадины – тараканов!» Когда царь путешествует по России, то для его ночлегов строят новые избы, потому что трудно в русских деревнях отыскать жилье без тараканов. Он боится также пауков и всяких насекомых. Я сама однажды наблюдала, как при виде таракана он весь побледнел, задрожал, лицо исказилось – точно призрак или сверхъестественное чудовище увидел; кажется, еще немного, и с ним сделался бы обморок или припадок, как с трусливою женщиною. Если бы пошутили с ним так, как он шутит с другими – пустили бы ему на голое тело с полдюжины пауков или тараканов, – он, пожалуй, умер бы на месте, и уж, конечно, историки не поверили бы, что победитель Карла XII умер от прикосновения тараканьих лапок.
Есть что-то поразительное в этом страхе царя-исполина, которого все трепещут, перед крошечной безвредной тварью. Мне вспомнилось учение Лейбница о монадах: как будто не физическая, а метафизическая, первозданная природа насекомых враждебна природе царя. Мне был не только смешон, но и страшен страх его: точно я вдруг заглянула в какую-то древнюю, древнюю тайну.
* * *
Когда однажды в здешней Кунсткамере ученый немец показывал царице опыты с воздушным насосом и под хрустальный колокол была посажена ласточка, царь, видя, что задыхавшаяся птичка шатается и бьется крыльями, сказал:
– Полно, не отнимай жизни у твари невинной; она – не разбойник.
– Я думаю, детки по ней в гнезде плачут! – прибавила царица; потом, взяв ласточку, поднесла ее к окну и пустила на волю.
Чувствительный Петр! Как это странно звучит. А между тем в тонких, нежных, почти женственных губах его, в пухлом подбородке с ямочкой что-то похожее на чувствительность так и чудилось мне в ту минуту, когда царица говорила своим сладким голоском с жеманно-приторной усмешечкой: «Детки по ней в гнезде плачут!»
Не в этот ли самый день издан был страшный указ: «Его царское величество усмотреть соизволил, что у каторжных невольников, которые присланы в вечную работу, ноздри выняты малознатны; того ради его царское величество указал вынимать ноздри до кости, дабы, когда случится таким каторжным бежать, везде утаиться было не можно, и для лучшей поимки были знатные».
Или другой указ в Адмиралтейском регламенте:
«Ежели кто сам себя убьет, тот и мертвый за ноги повешен быть имеет».
* * *
Жесток ли он? Это вопрос.
«Кто жесток, тот не герой» – вот одно из тех изречений царя, которым я не очень верю: они слишком для потомства. А ведь потомство узнает, что, жалея ласточек, он замучил сестру, мучает жену и, кажется, замучает сына.
* * *
Так ли он прост, как это кажется? Тоже вопрос. Знаю, сколько нынче ходит анекдотов о саардамском царе-плотнике. Никогда, признаюсь, не могла я их слушать без скуки: уж слишком все они нравоучительны, похожи на картинки к прописям.
«Verstellte Einfalt. – Притворная простота», – сказал о нем один умный немец. Есть и у русских пословица: простота хуже воровства.
В грядущих веках узнают, конечно, все педанты и школьники, что царь Петр сам себе штопал чулки, чинил башмаки из бережливости. А того, пожалуй, не узнают, что намедни рассказывал мне один русский купец, подрядчик строевого леса.
– Великое брусье дубовое лежит у Ладоги, песком засыпано, гниет. А людей за порубку дуба бьют плетьми да вешают. Кровь и пот человечьи дешевле дубового леса!
Я могла бы прибавить: дешевле дырявых чулок.
«C’est un grand poseur! – Это большой актер!» – сказал о нем кто-то. Надо видеть, как, провинившись в нарушении какого-нибудь шутовского правила, целует он руку князю-кесарю:
– Прости, государь, пожалуй! Наша братия, корабельщики, в чинах неискусны.
Смотришь и глазам не веришь: не различишь, где царь, где шут.
Он окружил себя масками. И «царь-плотник» не есть ли тоже маска – «машкерад на голландский манир»?
И не дальше ли от простого народа этот новый царь в мнимой простоте своей, в плотничьем наряде, чем старые московские цари в своих златотканых одеждах?
– Ныне-де стало не по-прежнему жестоко, – жаловался мне тот же купец, – никто ни о чем доложить не смеет, не доводят правды до царя. В старину-то было попроще!
Царский духовник, архимандрит Феодос, однажды при мне хвалил царя в лицо за «диссимуляцию»[18]18
Притворство (лат.).
[Закрыть], которую будто бы «учителя политичные в первых царствования полагают регулах[19]19
Правилах, принципах (лат.).
[Закрыть]».
Я не сужу его. Говорю только то, что вижу и слышу. Героя видят все, человека – немногие. А если и сосплетничаю – мне простится: я ведь женщина. «Это человек и очень хороший, и очень дурной», – сказал о нем кто-то. А я повторяю еще раз: лучше ли он, хуже ли людей – не знаю, но мне иногда кажется, что он не совсем человек.
Царь набожен. Сам читает Апостол на клиросе, поет так же уверенно, как попы, ибо все часы и службы знает наизусть. Сам сочиняет молитвы для солдат.
Иногда во время бесед о делах военных и государственных вдруг подымает глаза к небу, осеняет себя крестным знамением и произносит с благоговением из глубины сердца краткую молитву: «Боже, не отними милость свою от нас впредь!» или: «О, буди, Господи, милость твоя на нас, яко же уповахом на тя!»
Это не лицемерие. Он, конечно, верит в Бога, как сам говорит, «уповает на крепкого в бранях Господа». Но иногда кажется, что Бог его – вовсе не христианский Бог, а древний языческий Марс или сам рок – Немезида. Если был когда-нибудь человек, менее всего похожий на христианина, то это Петр. Какое ему дело до Христа? Какое соединение между Марсовым железом и евангельскими лилиями?
Рядом с набожностью – кощунство.
У князя-папы, шутовского патриарха, панагию заменяют глиняные фляги с колокольчиками, Евангелие – книга-погребец со склянками водки; крест – из чубуков.
Во время устроенной царем лет пять тому назад шутовской свадьбы карликов венчание происходило при всеобщем хохоте в церкви; сам священник от душившего его смеха едва мог выговаривать слова. Таинство напоминало балаганную комедию.
Это кощунство, впрочем, бессознательное, детское и дикое, так же как и все его остальные шалости.
* * *
Прочла весьма любопытную новую книжку, изданную в Германии под заглавием: «Curieuse Nachricht von der itzigen Religion I. K. M. in Russland Petri Alexieviz und seines grossen Reiches, dass dieselbe itzo fast nach Evangelische-Lutherischen Grundsдtzen eingetrichtet sei. – Курьезное известие о религии царя Петра Алексеевича о том, что оная в России ныне почти по евангелически-лютеранскому закону установлена».
Вот несколько выписок:
«Мы не ошибемся, если скажем, что его величество представляет себе истинную религию в образе лютеранства.
Царь отменил патриаршество и, по примеру протестантских князей, объявил себя верховным епископом, то есть патриархом Церкви российской. Возвратясь из путешествия в чужие земли, он тотчас вступил в диспуты со своими попами, убедился, что они в делах веры ничего не смыслят, и учредил для них школы, чтоб они прилежнее учились, так как прежде едва умели читать.
И ныне, когда руссы разумно обучаются и воспитываются в школах, все их суеверные мнения и обычаи должны исчезнуть сами собою, ибо подобным вещам не может верить никто, кроме самых простых и темных людей. Система обучения в этих школах совершенно лютеранская, и юношество воспитывается в правилах истинной евангелической религии. Монастыри сильно ограничены, так что не могут уже служить, как прежде, притоном для множества праздных людей, которые представляют для государства тяжелое бремя и опасность бунта. Теперь все монахи обязаны учиться чему-нибудь полезному, и все устроено похвальным образом. Чудеса и мощи также не пользуются прежним уважением: в России, как и в Германии, стали уже верить, что в этих делах много напутано».
Я знаю, что царевич читал эту книжку. С каким чувством он должен был ее читать?
* * *
Однажды при мне, за стаканами вина, в дубовой рощице в Летнем саду, у дворца, где царь любит беседовать с духовенством, администратор духовных дел, архимандрит Феодос, рассуждал о том, «коих ради вин и в каком разуме были и нарицалися императоры римские, как языческие, так и христианские, понтифексами, архиереями многобожного закона». Выходило так, что царь есть верховный архиерей, первосвященник и патриарх. Очень искусно и ловко этот русский монах доказывал, по «Левиафану» английского атеиста «Гоббезиа» (Гоббса), civitatem et ecclesiam eandem rem esse, что «государство и Церковь есть одно и то же», разумеется, не с тем, чтобы преобразить государство в Церковь, а наоборот – Церковь в государство. Чудовищный зверь-машина Левиафан проглатывал Церковь Божию, так что от нее и следа не оставалось. Рассуждения эти могли бы послужить любопытным памятником подобострастия и лести монашеской изволению государеву.








