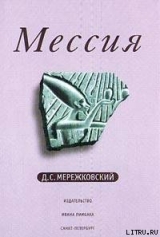
Текст книги "Мессия"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
V
После Фиванского бунта Иссахар приехал в Ахетатон – Город Солнца для свиданья с братом Элиавом и с порученьем от Птамоза, таким тайным и страшным, что не только ни с кем не говорил о нем, но и сам боялся думать.
В получасе ходьбы к востоку от города, на дне глубокой котловины, между скалами Аравийских предгорий, находился тюремный поселок израильтян, осужденных на работы в соседних каменоломнях Хат-Нуба. Египтяне называли его Селеньем Пархатых, а израильтяне – Шэолом – Адом.
Дней десять после рождества Атонова шел Иссахар на свиданье с братом в Шэол.
Семидесятилетний старик, с тонким и сухим, в глубоких морщинах, смуглым лицом, с длинной белой бородой, похожий на Авраама, двоюродный дядя Иссахара, богатый купец из города Таниса Ахирам, сын Халева, шел рядом с ним. Узкою козьей тропинкой взбирались они по западному склону одного из холмов над Шэолом.
Солнце заходило в красную мглу, как бы лужу запекшейся крови, и голые, желтые известняковые скалы, кое-где залитые волнами зыбучих песков, пламенели, как раскаленные докрасна.
– А что, племянничек, бунтовал, небось, и ты в Нут-Амоне? – спросил Ахирам.
– Я? Нет. Я человек смирный. Да нам и святой отец бунтовать не велит, – ответил Иссахар. Святым отцом называл он Птамоза.
Старик покачал головой недоверчиво:
– Врешь, ой, по глазам вижу, что врешь! Все вы, жрецы Амоновы, – бунтовщики… А только помни, сынок, бунтом ничего не возьмешь.
– А чем же? – спросил Иссахар.
Старик лукаво усмехнулся и погладил свою длинную белую бороду.
– А вот чем, слушай. Праотец наш, Авраам, как сошел от голода из Ханаана в Египет, сказал Сарре, жене своей: «Ты у меня красавица; скажи же египтянам, что ты – сестра моя, чтобы мне хорошо было через тебя». Так она и сделала, и взята была в дом фараона, и хорошо было Аврааму через нее: был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. А фараона поразил Господь за Сарру, жену Авраамову, лютыми казнями. Так-то, сынок. Благословен Израиль, народ, хранимый Господом! Он попирает выю врагов своих не бунтом, не силой, а мудростью, – заключил старик, и глаза его засветились плутовством Авраамовым.
Молодой орел поднялся со скалы, медленно взмыл, озаряемый снизу заходящим солнцем, серебристо-седой, царственный, и плавными кругами закружил, высматривая добычу в степи, сосунка антилопы или степного стрепета.
«Я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к Себе», – вспомнил Иссахар слово Господне к Израилю. «Так и меня сейчас несет!» – подумал он. Вспомнил также, что говорил ему Птамоз, посылая в Город Солнца: «Будь тверд и мужественен, сын мой, ибо с тобою Господь: Он совершит за тебя».
И дал ему нож, маленький, бронзовый, жертвенный, с головой бога Амона-Овна вместо рукояти: на что, не сказал, и он не спросил, – сам понял.
Вспомнив это, засунул руку под плащ, за широкий кожаный пояс и, нащупав в нем спрятанный нож, сжал рукоять нежно и крепко, как любящий – руку возлюбленной. «Ну что же, страшно? – подумал. – Нет, ничего не страшно с Ним: Он за меня совершит. Несет, несет и принесет к Себе!»
Обернулся к Ахираму и сказал:
– Дядюшка, достань мне пропуск!
Все эти дни хотел это сказать, но не смел; сам еще за минуту не знал, что скажет.
– Какой пропуск?
– На завтрашний день, во дворец.
– Да что ты, сынок, ошалел, что ли? Где я тебе, на ночь глядя, пропуск буду доставать?
– Дядюшка, ты все можешь, у тебя везде ходы, лазейки. Достань же, миленький, достань! – умолял Иссахар так, как будто дело шло о спасеньи жизни его.
– А тебе на что? – спросил Ахирам, вглядываясь в него пристально.
– Чтобы видеть царя.
– Да ведь ты его уже видел.
– Плохо, издали. Завтра день прошений: всех подпускать будут к престолу. Близко увижу, лицом к лицу. Очень мне нравится. Радость-Солнца, Радость-Солнца, видеть его – радость! – говорил Иссахар умиленно, восторженно.
– Нет, не будет тебе пропуска, – сказал Ахирам, покачав головою решительно. – Бог тебя знает, что у тебя на уме, еще беды с тобой наживешь!
Иссахар вынул мошну из-за пазухи, достал из нее большого, в полпальца, священного жука, Хэпера, из чудесной синайской лапис-лазури, и подал его Ахираму.
Тот жадно схватил его, взвесил на ладони и долго, тщательно разглядывал.
– Славненький камешек! – проговорил наконец, колеблясь между восхищеньем знатока и желаньем сбить цену товара. – Есть на брюшке подпалинка, муть будто кажет, прозелень, а ничего, недурен, даже очень. Из казны Амоновой, что ль? Украл?
– Что ты, дядюшка, я не вор. Святой отец подарил.
– Ну-у! За что же! А впрочем, дураки на свете бывают всякие: дарят и ни за что… Сколько возьмешь?
– Ничего, только пропуск достань.
Глаза у старика разгорелись. Опять осмотрел камень, даже полизал, покусал; быстрым, как бы воровским, движеньем погладил свою Авраамову бороду, поднял бровь, прищурил глаз и сказал, отдавая камень:
– Слушай, сынок, в городе сегодня не ночуй: будет облава. Страженачальник Маху что-то пронюхал, бунтовщиков нут-амонских ищет. В Козьей пещере ночуй, над Шэолом. Нааман проведет. Если пропуск достану, приду туда до полуночи, а если нет, значит, дело плохо, – беги, душу спасай!
Иссахар опять подал ему камень, но он его не взял.
– Нет, вперед не надо. Будет товар, будет и плата – я честный купец.
Не лгал: был честен – плут и честен вместе, по завету Авраамову.
– Жалко мне тебя, Рыженький! – проговорил он тихо, со старческой благостью. – Брат твой, Элиав, погиб ни за что: как бы и тебе не погибнуть… Помни, сынок, люди на страданье рождаются, как искры пламени, чтобы устремляться вверх, а все-таки сладок свет солнца живым; и псу живому лучше, нежели мертвому льву.
«Душу мою за камень купил, и вот жалеет», – удивился Иссахар. Опять взглянул на орла, все еще кружившего в небе, вспомнил, что будет завтра, и сердце забилось от радости: «Несет, несет и принесет к Себе!»
Взошли на вершину холма и увидели внизу, в котловине, правильный четырехугольник совершенно одинаковых домиков, пересеченный сетью улочек и огражденный высокими стенами.
Мертвая пустыня была кругом: ни деревца, ни кустика – только камень да песок: зимою холодная могила, летом раскаленная печь: настоящий Ад – Шэол.
Снизу пахнуло на них как бы смрадом тлеющей падали. Ахирам повел носом, поморщился:
– Ох-ох-ох! Человечинкой пахнет, двуногой скотинкой. Ни колодца кругом, ни источника, а на реку-то за водой не находишься: в собственном смраде задыхаются, бедные.
Быстро спустились, всё той же тропинкой, на дно котловины и подошли к воротам Шэола. Ахирам постучался. Открылось оконце в стене, выглянул привратник, узнал старика и отпер калитку. Иссахара сначала не хотел пускать, но Ахирам что-то шепнул ему на ухо, что-то сунул в руку, и он пропустил обоих.
Длинные, узкие, прямые, как по шнуру вытянутые, улочки шли от площади у ворот в глубину селенья. Голая стена была с одной стороны каждой улочки, а с другой – дверцы в глиняных, низеньких, совершенно одинаковых домиках, подобьи скотских стойл: улочки – как бы тюремные ходы; домики – как бы тюремные кельи. Ни кладовых, ни житниц: всем заключенным в Шэоле выдавался казенный паек.
Лужи помоев с тучами жужжащих над ними мух, кучи помета, скотского и человечьего, смердели так, как будто все селенье было одна огромная свалка нечистот.
«Язву проказы наведу на домы ваши, – говорил Господь Израилю. – Если покажется язва на стенах домов, зеленоватые или красноватые ямины, должно выломать камни и бросить их на место нечистое; если же снова язва будет цвести, это проказа едкая; должно разломать сей дом».
Все домы Шэола цвели такими язвами. Мертвые камни изъедены были нечистью; тем более – живые тела людей: сыпи, чесотки, нарывы, лишаи, парши, коросты и страшные белые струпья проказы покрывали несчастных, заживо сошедших в Ад.
Царскою милостью разрешено было семьям узников жить вместе с ними; но и милость сделалась казнью: люди задыхались в тесноте еще большей. «Женки пархатых плодущие!» – смеялись тюремщики. «Умножая, умножу семя твое, как звезды небесные», – благословил Господь Израиля; но и благословенье сделалось проклятьем: дети рождались и умирали бесчисленно, киша в смердящем Аду, как черви в падали.
Все племена пленил ты в свои плен,
Заключил в узы любви,
– вспомнил Иссахар песнь царя богу Атону. «Хороша любовь, – подумал, – живых низвел в преисподнюю!»
Подойдя к Элиавову домику, Ахирам простился с племянником и пошел обратно в город за пропуском.
Иссахар вступил в полутемные сени. Две шелудивых овцы дремали в стойле; старый, больной лошак и ободранный ослик уныло понурили головы у пустой водопойной колоды: вьючные животные возили тяжести в каменоломнях и жили вместе с заключенными.
Тут же, сидя на гноище, куче навоза и пепла, голый, подпоясанный рубищем, древний старик скоблил черепицею белые струпья проказы на теле своем и плакал, вопил однозвучно-глухо, как ветер в ночи. Это был дед Элиавовой жены, Ноэмини, Шаммай Праведный.
Некогда жил он в богатстве, почете и счастьи, имел соловарни у Горьких Озер и множество скота на Гозенских пастбищах; посылал караваны с шерстью и солью в Мадиамскую землю. Был непорочен и богобоязнен, за что и назван Праведным. Думал кончить жизнь в старости доброй, насытившись днями. Но Бог захотел его испытать и вдруг отнял все. Двое сыновей его пропали без вести с караваном в пустыне: должно быть, убили их разбойники; двое других – погибли в восстании. Зять, управлявший всем его имением, сделал на него ложный донос, будто и он, Шаммай, участвовал в бунте. Его схватили, судили и оправдали; но судьи, стакнувшись с зятем, обобрали его и пустили по миру нищим. Все друзья покинули его, жена умерла. Вспомнив тогда любимую внучку свою, Ноэминь, он переселился к ней в Шэол и здесь заболел проказой.
Днем и ночью, сидя на гноище, расчесывал он струпья черепицей и услаждал сердце воплем. Все в доме привыкли к этому бесконечному воплю так, что уже почти не слышали его, как скрипа дверей, шума ветра или стрекотанья кузнечиков.
Остановившись в сенях, Иссахар прислушался.
– Погибни день, в который я родился, и ночь, сказавшая: зачался человек! Для чего не умер я, выходя из утробы? Лежал бы я теперь и почивал: спал бы, и мне было бы покойно. Опротивела душе моей жизнь моя! Скажу Богу: не обвиняй меня, объяви мне, за что Ты борешься со мной? Хорошо ли для Тебя, что Ты губишь невинного?
Так вопил Шаммай, и Иссахару казалось, что это вопль всего Израиля, а может быть, и всего человеческого рода, от начала до конца времен.
Пройдя мимо Шаммаева гноища, он вошел в тесную, темную клеть, где тускло мерцали две плошки-лампады с овечьим жиром, одна – у стены, на деревянной полочке с глиняными уродцами богов Элогимов, другая – на низком кирпичном помосте-лежанке с каменной плитой, служившей столом.
Сидя за ним, Элиав ужинал с двумя гостями, Авиезером, священником, и Нааманом, пророком.
Авиезер был тучный, краснощекий, чернобородый, важного вида человек. Пышная, из финикийской узорчатой ткани, одежда его была неопрятна; множество перстней с фальшивыми камнями блестело на жирных пальцах. Он приехал в Шэол с милостыней узникам от богатых гозенских купцов.
Нааман, лудильщик и пророк, был маленький, лысый старичок, тихий, робкий и застенчивый, с одним из тех простых и добрых лиц, какие бывают у бедных еврейских поденщиков. Он приехал с Иссахаром из Фив.
Были и другие гости, но они сидели поодаль, не принимая участия в беседе и трапезе.
Когда Иссахар увидел брата, человека лет сорока, высокого, сутулого, костлявого, с изрытым глубокими морщинами, как будто измятым, лицом, – все вдруг исчезло из глаз его, кроме этого лица: родного, чужого, жалкого, милого, страшного.
– А-а, наконец-то, пожаловал! А я уж думал, не придешь, – сказал Элиав, вставая.
Иссахар подошел к нему и хотел обнять, но тот, быстрым движением хватив его за руки, не оттолкнул, а только удержал и заглянул ему в глаза, усмехаясь:
– Ну что ж, можно бы, пожалуй, и обняться? Аль брезгаешь? – проговорил, как будто не он, Элиав, медлил обнять брата, а тот – его.
Иссахар бросился к нему на шею.
– Ну, садись, – сказал Элиав, освободившись от его объятий, и указал ему на почетное место рядом с собой, полукруглый, низенький каменный стулец. – А мы тут, видишь, пируем, твоим же гостинцем без тебя угощаемся. Спасибо, что вспомнил, милостыньку нищим прислал. Угощать не смею: вам, египтянам, нечиста наша Иадова трапеза!
– Что ты, брат, зачем так говоришь? – начал Иссахар и не кончил, покраснел, потупился. Взял кусок с блюда.
– Есть! есть! И впрямь не гнушается! – воскликнул Элиав, продолжая усмехаться недоброй усмешкой.
Авиезер тоже усмехнулся в бороду, а Нааман обвел всех добрыми глазами, с тревогой.
– Может, и выпьешь? – спросил Элиав.
Иссахар подставил чашу, и тот налил в нее из кувшина густой, как масло, алой, как кровь, гранатовой наливки, тоже братнина гостинца. Налил и себе.
– За твое здоровье, Изеркер!
Выпил одним духом.
– Ах, хороша наливка, в жизнь такой не пивал!
Снова налил. Подошла Ноэминь, молодая, испитая женщина, и сказала мужу на ухо:
– Больше нельзя, господин.
– Отчего нельзя? Сколько лет с братом не виделись, как же не выпить на радостях?
Грубо оттолкнул ее локтем в беременный живот, так что она едва не упала.
– Ох, голубчики, миленькие, не давайте ему пить, беды наделает! – взмолилась она к гостям и отошла покорно, как прибитая собака.
– Чашу вторую за успех дела! – сказал Элиав. – К нам-то, чай, не без дела пришел, не для того, чтобы с братцем видеться? Ну-ка говори, Изеркер, зачем пришел?
– Не Изеркер, а Иссахар, – поправил тот и чуть-чуть побледнел, нахмурился.
– Иссахар, по-израильски, Изеркер, по-египетски, – возразил Элиав. – Сам-то ты знаешь ли, как тебя звать? Ну, полно, не сердись, не смотри на меня глазами Авеля. В Авели тебе хочется, да я-то не Каин… Равви, за что Каин убил Авеля? – обратился он к Авиезеру.
– За то, что призрел Бог на Авелев дар, а Каинов отверг.
– А отверг за что?
– Этого никто не знает.
– Ну вот, так всегда: главного никто не знает. А ведь с этого-то все и началось. Скверно началось – скверно, должно быть, и кончится… Говори же, Авель, с чем пришел?
– С доброю вестью, брат: ныне услышал Господь вопль Израиля. Скоро из Шэола выйдете, узники… Наби Нааман, ты пророк Божий, ты лучше моего знаешь все, – говори!
Нааман покачал головой, улыбаясь застенчиво:
– Э, полно, куда мне в пророки! Я человек несмышленый; вся-то мудрость наша котлы да кастрюльки лудить…
– Ничего, говори, Бог вразумит!
Старичок опустил глаза, помолчал; потом заговорил тихо, робко, видимо, повторяя чужие слова:
– Так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля: укрепите ослабевшие руки и утвердите колена дрожащие, вот Бог ваш! Он придет и спасет вас; мышцею простертою и судами великими изведет народ Свой из Египта, из печи железной. И будет второй Исход больше первого, и больше Моисея – новый вождь Израиля.
Вдруг поднял глаза, и голос его окреп, зазвенел:
– Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут? Попирают народ Твой, угнетают наследие Твое. Боже отмщений, Господи Боже отмщений, яви Себя, воздай возмездие гордым! У Господа суд с народами: Он будет судить всякую плоть!
– Что-то долго не судит! – проговорил Элиав, усмехаясь язвительно, и, как будто в ответ ему, раздался вопль Шаммая:
– Вот я кричу: обида! И никто не слушает, вопию, и нет суда! Почему Бог пытке невинных посмеивается? Почему беззаконные живут и проводят дни свои в счастьи? Почему земля предана злодеям и Бог покрывает лица их? Если не Он, то кто же?
– Слышишь? – спросил Элиав, глядя прямо в глаза Иссахару. – Прав Шаммай: нет судов Божьих в делах человеческих. Болтовня пустая – все ваши пророчества. Вся земля – рай злодеев, ад невинных, Шэол. Жалкие утешители все вы, врачи бесполезные, будьте вы с вашим Богом прокляты!
Авиезер поднял глаза на Элиава и сказал:
– Не богохульствуй, сын мой. Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных!
– А ты, брат, что скажешь? – спросил Элиав, продолжая смотреть прямо в глаза Иссахару. – Прав Шаммай или не прав?
– Прав.
– Кто же ответит ему?
– Избавитель.
– А Избавитель кто?
– Сам знаешь.
– Нет, не знаю. Много к нам пророков ходит, не вы одни. Вон и о царе Ахенатоне говорят, что он – Избавитель. Уж не от него ли и ты к нам пришел?
– Зачем смеешься, брат, над святыней ругаешься?
– А что свято, сам-то ты знаешь ли? Правда ли, говорят, что ты в веру царя обратился?
– Нет, неправда.
– Как же намедни, на празднике Солнца, видели тебя среди обращенных? Кого обманываешь, их или нас?.. Что же молчишь? Говори!
– Что мне тебе сказать, брат? Все равно не поверишь. Подожди до завтра, – завтра узнаешь все…
– Завтра? Нет, сейчас, сейчас говори. Что значит: «Скоро из Шэола выйдете, узники»? Без бунта не выйдем. Бунтовать нас пришел, что ли?
– Завтра все узнаешь, – повторил Иссахар, вставая.
Элиав тоже встал и схватил его за руку:
– Стой, так не уйдешь! Нам не хочешь сказать – скажешь царскому приставу!
– Донесешь?
– А ты что думал? Око за око, зуб за зуб. Десять лет из-за тебя мучаюсь, – помучайся и ты.
– Ох, голубчики, миленькие, держите, держите его, беды наделает! – опять закричала Ноэминь.
Все бросились на Элиава, но, прежде чем успели удержать его, он отскочил в угол, схватил стоявший там у стены медный лом, которым ломал камень в каменоломнях, подбежал к Иссахару, занес над ним лом и закричал:
– Прочь с глаз моих, сын Козла смердящего, убью!
Иссахар, закрыв лицо руками, выбежал вон из дома.
Бежал темной улочкой, спотыкался, падал, вставал и снова бежал, обуянный ужасом.
Только за воротами Шэола опомнился. Рядом с ним бежал Нааман и что-то говорил ему, но он долго не мог понять что; наконец понял:
– В Козью пещеру бежим, там переночуем!
Узкою тропинкой-лесенкой, вырубленной в круче скал, поднялись из котловины Шэола на гору, в степь. Вдали красной точкой замигал огонек. Пошли на него. Злые овчарки с паучьими мордами кинулись на них с лаем. Старый пастух вышел им навстречу, отогнал псов, низко поклонился, приветствуя Наамана по имени, – видимо, ждал гостей, – и повел их в пещеру у самого обрыва над Шэолом.
Двое молодых пастухов, сидевших у костра в пещере, среди спавшего стада коз и овец, встали, тоже низко поклонились, подбросили хвороста в огонь, постлали овечьи меха, пожелали гостям доброй ночи и вышли со стадом.
Иссахар и Нааман сели у огня.
«Люди рождаются на страданье, как искры пламени, чтоб устремляться вверх», – вспомнил Иссахар слова Ахирама, глядя на искры в дыму, и подумал: «Завтра Элиав узнает все и простит, полюбит меня!»
Лег и, только что закрыл глаза, начал спускаться по темным, подземным ходам в Нут-Амоново святилище бога Овна; шел-шел и все не мог дойти – заблудился. Красной точкой вдали замигал огонек. Он пошел на него. Точка росла, росла и выросла в красное, на черном небе, солнце. Кто-то стоял под ним, в белой одежде, с тихим лицом, как у бога, чье имя: «Тихое Сердце». Тихий голос сказал: «Ты, Отец, в сердце моем, и никто Тебя не знает, – знаю только я, Твой сын!» – «Проклят обманщик, сказавший: я – Сын!» – закричал Иссахар и, выхватив нож из-за пояса, хотел ударить. Но увидел красную, по белой одежде льющуюся кровь. «Воззрят на Того, Кого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о сыне», – вспомнил пророчество, выронил нож и упал к ногам Пронзенного, с воплем: «Кто ты?»
– Ахирам, дядюшка твой, а ты думал кто? Да ну же, проснись, сынок! – услышал он голос Ахирама и проснулся.
– Что с тобой, Рыженький? Сон дурной приснился, что ли? – говорил старик, ласково гладя его по голове. – А вот и пропуск!
Вынул из-за пазухи и подал ему глиняную дощечку: рядом с царскою печатью, солнечным кругом Атона, стояло наверху число месяца, а внизу – подпись: «Тутанкатон».
Иссахар взял дощечку и смотрел на нее, все еще дрожа так, что зуб на зуб не попадал.
– Камешек давай! – сказал Ахирам, взглянув на него подозрительно: как бы не отказался от платы.
Иссахар вынул из мошны и подал ему камень.
– Да что ты как испугался? Аль раздумал? Не пойдешь? – спросил старик.
– Нет, пойду, – ответил Иссахар.
VI
– Бедная царица! Когда болит у бога живот, делать ему припарки, ставить промывательные и все-таки верить, что царь – бог, не так-то легко! – смеялся старый вельможа Айя.
Тута, большой любитель острых слов, однажды, в минуту откровенности, передал Дио эту шутку, и часто она вспоминала ее, глядя на царицу Нефертити.
В двадцать восемь лет, мать шестерых детей, все еще она была похожа на девочку: тонкий девичий стан, чуть выпуклая грудь, узенькие плечи, выступающие на ключицах косточки, шейка тонкая, длинная, – «как у жирафа», шутила сама. Под высоким, ведроподобным царским кокошником, низко надвинутым на лоб, так что не видно было волос, детски нежною казалась округлость лица; в слишком короткой верхней губке, слегка выдававшейся над нижней, была детская жалобность; в черных, без блеска, огромных глазах с чуть-чуть косым разрезом, с тяжело опущенными веками и как бы внутрь смотрящим взором – бездонно-тихая грусть.
Вся настороженная, как будто к чему-то внутри себя прислушалась и так замерла; вся неподвижная, как стрела на тетиве, или слишком натянутая, но еще не зазвеневшая струна: зазвенит – оборвется. Раненная насмерть и скрывающая рану свою ото всех.
Дочь митаннийской царевны Тадухипы и египетского царя Аменхотепа Третьего, царица Нефертити была сводною сестрою царя Ахенатона; цари Египта, сыны Солнца, чтобы сохранить чистоту солнечной крови, часто женились на сестрах своих.
Царь и царица были так схожи, что в юности, когда мальчик и девочка одевались почти одинаково, люди с трудом различали, кто он, кто она. Та же прелесть была в обоих, слишком томная, как в едва расцветшем и уже от зноя никнущем цветке.
Ты – цветок, чьи корни из земли исторгнуты;
Ты – росток, текучей водой не взлелеянный, —
вспоминала Дио песнь о боге Таммузе умершем, глядя на плоское стенное изваяние царя и царицы в одной из дворцовых палат, где изображены они были сидящими рядом на двойном престоле: левой рукой обняла она стан его, правую – вложила в руку его, пальцы в пальцы, и облики их сливались так, что почти не видно было ее из-за него: он – в ней, она – в нем. Как сказано было в песне Атону:
Господи, прежде сложения мира
Волю свою открыл ты сыну своему,
Ахенатону Уаэнра,
И дочери своей возлюбленной,
Нефертити, Прелести-прелестей-солнечных,
Цветущей во веки веков!
«Розно любить их нельзя, можно только вместе – двух в одном», – это Дио сразу поняла.
После пляски в день рождества Атонова получила она сан главной опахалоносицы одесную благого бога-царя и, покинув Тутину усадьбу, поселилась во дворце, в отведенном ей покое женского терема, недалеко от покоев царицы. С нею скоро сблизилась, но от царя отделяла ее какая-то преграда, ей самой непонятная.
Что он «не совсем человек», уже не боялась: через царицу узнала, что человек совсем. «Когда болит у бога живот», – в этой плоской шутке был глубокий смысл. И страх, испытанный ею на празднике Солнца от кощунственных слов о сыне божьем, царе Ахенатоне, в ней тоже потух: не все ли цари Египта называли себя сынами божьими?
Страха не было, но было то, что, может быть, хуже страха.
Осенью, бывало, во время охоты на Иде-горе, на острове Крите, в самый яркий, солнечный день вдруг наползал из горных ущелий туман, и червонное золото леса, синее небо, синее море – все тускнело, серело, и самое солнце глядело из тумана как мертвый рыбий глаз. «Что, если, – думала она, – глянет на меня и Радость-Солнца, Ахенатон, таким же рыбьим глазом?»
Каждый день плясала перед ним, и он восхищался ею. «Только плясунья, – больше никогда ничем я для него не буду», – говорила она себе со скукой – серым туманом в душе.
Целыми часами стояла за царским престолом, то подымая, то опуская медленно-мерным движеньем, по древнему чину, пышное, из страусовых перьев, на длинном шесте опахало. Иногда, оставшись с ней наедине, он вдруг оборачивался и улыбался ей с такой зовущей лаской, что сердце у нее замирало от ожидания: вот-вот заговорит, и падет преграда. Но молчал или говорил о пустом: спрашивал, не устала ли, не хочет ли присесть отдохнуть; или удивлялся, что так скоро научилась владеть опахалом, искусству более трудному, чем кажется; или, с шутливой любезностью за то, что она с ним, благословлял глупый древний обычай навевать зимою прохладу и отгонять мух, которых нет.
Однажды Дио рассказывала царице нехотя, только отвечая на расспросы, – не любила говорить об этом, – как, отмщая за человеческую жертву, свою любимую подругу, Эойю, убила она бога Быка на Кносском ристалище; как присудили ее за то на сожженье, и как спас ее Таммузадад, вавилонянин, взойдя за нее на костер.
Тут же был царь и слушал как будто внимательно. Когда Дио кончила, у царицы стояли слезы в глазах, а царь, точно вдруг очнувшись и взглянув на них обеих с тихою, странною улыбкою, пробормотал, спеша и волнуясь, повторяя одни и те же слова, как это часто делывал:
– Брить не надо! Не надо брить!
Это было так некстати, что Дио испугалась, подумала, не болен ли он. Но царица спокойно улыбнулась, положила руку на голову ее и сказала:
– Нет, ни за что не будем брить: жалко таких чудесных волос!
Только тогда вспомнила Дио, что намедни спрашивала царицу, не сбрить ли ей волосы, чтобы, по здешнему обычаю, надеть парик.
Царь тотчас после этих внезапных слов о бритье вышел, а царица, как будто извиняясь за него, сказала, что он в последние дни не очень здоров.
Долго Дио не могла забыть, как в ту минуту мелькнуло перед ней Гэматонское дряхлое страшилище – глянуло солнце сквозь туман – «рыбий глаз».
А в тот же день вечером, оставшись с ней наедине, он вдруг встал, положил ей руки на плечи и приблизил лицо к лицу ее, как будто хотел поцеловать, но не поцеловал, а только улыбнулся так, что сердце у нее замерло: вспомнился мальчик, похожий на девочку, с тихим-тихим лицом, как у бога, чье имя «Тихое Сердце».
Снится иногда человеку райский сон, как будто душа его во сне возвращается на свою небесную родину, и долго, проснувшись, не верит он, что это был только сон, не может привыкнуть к земной чужбине и все томится, грустит: такая грусть была в этом лице. Длинные ресницы опущенных, как бы сном отяжелевших век казались влажными от слез, а на губах была улыбка – след рая – небесная радость сквозь земную грусть, как солнце сквозь облако.
– Давеча я слышал все, только не хотел при ней говорить: об этом нельзя говорить ни с кем. Ведь ты это знаешь? – сказал он, глядя на нее все с той же улыбкой.
– Знаю, – ответила Дио.
– Милая, как хорошо, что ты пришла, как я тебя ждал!
Еще приблизил лицо к лицу ее, так что губы их почти слились.
– Любишь? – спросил детски просто.
– Люблю, – ответила она также просто.
И в том, что он ушел, не поцеловав ее, была радость райского сна.
На следующий день, одиннадцатый после рождества Атонова, Дио стояла с опахалом за царицыным креслом, в дворцовой палате Разлитья, изображавшей половодье Нила.
Утренне-зимнее солнце светило сквозь тающий пар облаков в четырехугольное отверстие потолка, украшенного фаянсовым плетеньем виноградных лоз с темно-красными гроздьями и темно-синими листьями. Роспись стенных изразцов изображала водяные цветы и растенья; в венцах столпов – связанных стеблей папируса, изваяны были дикие утки и гуси, висевшие вниз головами, – добыча ловитвы речной; а роспись пола изображала Нильскую заводь: между голубыми волнистыми линиями водной зыби плавали рыбы; в лотосной чаще порхали бабочки, взлетали утиные выводки, и тут же скакал, смешно задравши хвост, красно-пегий теленок. Все, как в утренней песне Атону:
Радостью радуется вся земля:
Всякий скот пасется на пастбище,
Всякий злак зеленеет в полях;
Птицы порхают над гнездами,
Подымают крылья, как длани молящие;
Всякий ягненок прыгает,
Всякая мошка кружится:
Жизнью твоею оживают, Господи!
Царь играл с шестью дочерьми: Меритатоной, Макитатоной, Анкзембатоной, Нефератоной, Неферурой и Зетепенрой. Старшей было пятнадцать, младшей – пять, а остальные – погодки. Когда становились они в ряд, на молитву, то гладко бритые головы их, с черепами яйцевидно-удлиненными, – «царские тыковки», – постепенно понижались, от большой к маленькой, подобно косому ряду дудочек в пастушьей свирели.
Четверо старших были в распашонках из прозрачного льна – «тканого воздуха», а две маленьких – совсем голые, с коричнево-смуглыми, тоненькими, как палочки, ручками и ножками, с тяжелыми золотыми кольцами в ушах и широкими на шеях ожерельями из расположенных лучами хрустальных и хризолитовых слез.
В играх участвовал и царский карлик Иагу из дикого племени пигмеев Уа-уа, жившего, подобно обезьянам, на деревьях, в болотных лесах Крайнего Юга. Росту в локоть с небольшим, кривоногий, толстопузый, черный, сморщенный, старый, страшный, как бог Бэс, первозданный урод; по виду свирепый, а на самом деле кроткий, как овца; чудесный плясун; вечная нянька царевен, любимец их и мученик; преданный слуга царского дома; за всех их вместе и за каждого в отдельности умер бы с радостью.
Сначала играли в «девять», прокатывая костяные шарики в камышовые дужки-воротца так, чтобы свалить сразу девять поставленных в ряд кегельков, деревянных куколок с гадкими рожами – девять враждебных Египту царей.
Потом ученый белый пудель Данг, с шапкой огненно-красных перьев на голове и рубиновыми серьгами в ушах, ученик Иагу, скакал сквозь обруч и ходил на задних лапах, держа в передних военачальнический жезл, а на носу кусок антилопьего мяса, и не смея проглотить его, пока Иагу не вскрикивал: «Ешь!»
Потом, выйдя из палаты в зимний сад-теплицу с редкими заморскими цветами и водоемом, где плавали чаши лотосов, лепили из глины двух страшных уродов – вавилонского царя Буррабуриаша и сына его, царевича Каракардаша, который сватался за восьмилетнюю царевну Нефератону. Царь испачкался глиною так, что его должны были отмывать в водоеме.
Потом забавлялись с петухом, невиданной в Египте птицей, привезенной из Митаннийского царства. Смущенный, должно быть, долгим путешествием, он все угрюмо молчал, хохлился, но вдруг захлопал крыльями и закричал сегодня в первый раз так громко, что все испугались, а потом восхитились: «Настоящая труба!» – и начали ему подражать; царь – так неумело, что девочки смеялись над ним.
Потом, вернувшись в палату, играли в жмурки. Иагу поймал царя. Ему завязали глаза. Девочки прыгали, шмыгали под самым носом его, звенели систрами, топотали по полу босыми ножками, подражая молотящим волам, и пели песенку:







