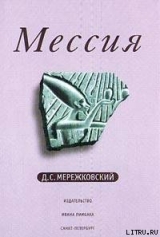
Текст книги "Мессия"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
V
Царь узнал позже всех, что царевна Макитатона беременна. Она сама призналась ему в этом, но не сказала, от кого, и так умоляла не расспрашивать, что он пожалел ее, успокоил:
– Не хочешь говорить, не надо; скажешь, когда захочешь.
Обвинял себя во всем: «Если б я любил ее больше, этого бы не было!» Был несправедлив к себе: всех дочерей любил, а Маки больше всех.
Думал, что знает царица, от кого дочь беременна; но не знала и она. Может быть, только царевнина няня, старушка Аза, кое-что подозревала, но скорее дала бы себе вырвать язык, чем сказала бы.
Странные слухи ходили по городу: будто бы царевну обольстил бродяга, беглый раб, а может быть, и сам Изеркер, Изка Пархатый; это ему и не так трудно было сделать, потому что за царскими дочерьми надзор был плохой: видели, как царевна Макитатона выходила ночью одна в пустыню через потайную дверь в садовой стене Мару-Атону. И прибавляли не без злорадства, что Пархатые очень довольны: от царевны-де родится ихний царь, Мессия.
Однажды принесли во дворец карлика Иагу, избитого до полусмерти. Он подрался с толпою уличных оборванцев, глазевших на непристойный рисунок, сделанный углем на стене: шесть царевен стояли в ряд, а внизу была надпись:
Нас, маленьких, шесть,
Сами мы – крошки,
А большущие головы —
Словно гири из олова
Или тыквы на грядках.
Подгибаются ножки,
Шатаемся на пятках:
Трудно нам головы несть.
Тыквоголовых нас шесть.
Рядом был другой рисунок: царевна Макитатона с огромным животом, и надпись:
Вот она, царевна-шлюха.
Нагуляла себе брюхо;
За царевной едут сваты,
А жених ее – Пархатый.
Царь позволил Маки жить уединенно в женском тереме Мару-Атону, ожидая родов. Здесь проводила она целые дни в совершенно темной, точно подземной, горнице с закрытыми ставнями и занавешенными окнами: страдала болезнью, находившей на нее и раньше, припадками, – светобоязнью. Свет дневной резал, как ножами, не только глаза ее, но и все тело; если луч солнца проникал в щелку, стонала, кричала, как от нестерпимой боли.
Старшая царевна Меритатона – Рита, супруга Заакеры, была неразлучна с Маки. Сестры-погодки – одной было пятнадцать, другой четырнадцать – нежно любили друг друга, хотя были несхожи, как день и ночь.
Маки уступила Рите жениха своего, Заакеру, страстно любившего ее и любимого ею: дала обет девства богу Аттису. В горной пустыне, неподалеку от Мару-Атону, находилась часовня бога. По ночам слышались оттуда завыванья радевших скопцов, подобные вою шакалов.
Дней десять спустя после Заакерова пира Маки и Рита сидели, поздно вечером, в саду Мару-Атону, в Водяной палате, узкой, длинной беседке на пальмовидных столпах, с лабиринтом из одиннадцати водоемов. По отлогим стенкам их была роспись: водяные растения, лотосы, папирусы; казалось, что они растут из воды; а над ними, тоже в росписи, – гранатовые кусты и кущи виноградных лоз. Тут же были цветники живых цветов.
Рита и Маки полулежали на подушках, у самой воды, под кустом белых, алых и розовых роз.
– Раньше зачем не сказала, дура? Можно бы сделать выкидыш, а теперь вон какое брюхо: пожалуй, поздно, – молвила Рита, щупая Макин живот, как опытная бабка-повитуха. Чудовищным казался этот живот беременной женщины у маленькой девочки, почти ребенка. – Снадобье есть у эфиоплянки, Заакеровой наложницы. Хочешь, спрошу? Может, и теперь еще можно.
– Ох, Рита, не надо, не надо об этом!
– Ну, ладно, не скули… О чем, бишь, я? Да, насчет Анки. Анки хочет к Туте бежать. В тюрьме-то молодцы недолго насиделись, в Нут-Амон бежали: должно быть, подымут восстанье… Нет, я бы их не выпустила так: тут же бы на месте убила. Да сановники наши все – подлецы, изменники…
Говорила нехотя, видимо, думая о другом. Вдруг усмехнулась, как будто вспомнила что-то веселое:
– Шиха – умница! Знаешь, что он о царе говорит?
Шиха был великий жрец, скопец бога Аттиса.
– Что? – спросила Маки. При имени Шихи чуть-чуть вздрогнула, и Рита это заметила.
– Царь, говорит, так живет, как будто все на свете хорошо, а ведь не все хорошо!
– Не все хорошо? – повторила Маки и сдвинула брови, с детским усильем стараясь понять.
– Помнишь, как умирала Юма? – продолжала Рита. Юма была маленькая черная рабыня, умершая от укуса тарантула. – Посерела, побелела вся, точно плесенью подернулась, как осенние мухи, и трупом от нее запахло, еще от живой. А третьего дня у самых стен Атонова храма кто-то осрамил пятилетнюю девочку, задушил и тело выбросил свиньям. Разве это хорошо? А царь живет так, как будто ничего этого нет. Может быть, для Бога и все хорошо, но ведь царь не Бог; люди говорят, что Бог, да сам-то он знает, что не Бог!
Помолчала, подумала и заговорила опять:
– Плакать не умеет, а без слез не проживешь: сладость слез – сладчайшая…
– Это Шиха говорит? – спросила Маки.
– Нет, я… а может быть, и Шиха, не помню… Что такое Солнце-Атон? Искра во тьме: дунет смерть, и солнце потухнет. Мрак больше света; мрак сначала, а свет потом. Может быть, Бог во мраке живет…
Вдруг засмеялась:
– А ведь и ты у меня умница: света боишься, любишь мрак. Не в отца дочка!
Маки слушала жадно, иногда порывалась что-то сказать, но слова замирали на губах ее, только смотрела на сестру широко открытыми глазами; похожа была на связанного по рукам и ногам человека, который ждет удара.
– Ну, полно киснуть, пойдем! Прогуливаться надо, это для брюха полезно, – сказала Рита, подняла ее, как будто грубо, а на самом деле нежно-бережно, и повела в сад.
Падали сумерки. Небо было ясно, а по земле полз туман. Наводненье только что схлынуло; кое-где лужи еще не успели просохнуть. С мокрых листьев падали капли. Лягушки квакали восторженно. Головокружительно пахли цветы. Вдруг туман порозовел от невидимо всходившего месяца.
Подошли к Большому пруду, где росла Макина березка. Как засохла тогда, в огне Шехэба, так и не могла оправиться. Все вокруг цвело, зеленело, а она стояла мертвая, только кое-где на голой ветке чернел сморщенный лист.
Маки обняла тонкий, бледный ствол и прижалась к нему щекой.
– Бедная, бедненькая! – прошептала с такою нежностью, как будто прощалась с мертвою.
– А-а, примету вспомнила! – сказала Рита, усмехаясь. – Если кто деревцо посадит и оно засохнет, то и человек умрет. Ну, и умрешь, не беда – зато родишь. Вот послал Бог счастье, кому не надо. Да я бы десять раз умерла, только бы родить!
Обойдя Большой пруд, подошли к Лотосному прудику с Атоновой часовней на островке и перекинутым к ней мостиком. На воде белел огромный, еще не распустившийся лотос. Тут же была привязана лодка. Рита вскочила в нее, увидела на дне садовый нож, взяла его, срезала цветок и отдала Маки, а нож спрятала за пазуху.
Вернулись в Водяную палату и сели на прежнее место.
– У Шихи давно не была? – спросила Рита.
– Давно.
– А я к нему часто хожу. Любопытно. Настоящий блудилищный дом. Все наши сановницы тоже туда повадились. Эти старые бабы, скопцы, – отличные сводни. Ну, да и сами любят женщин, а тем это нравится. «Ласки скопцов, – говорят, – как соленая вода: чем больше пьешь, тем больше жажда. Страсть у мужчин – миг, а у скопцов – вечность. Святая любовь, непорочная!» Видела, как обезьяны в клетке ласкаются? А люди еще пакостней… А моя-то обезьянка, Заакера, тоже туда бегает, хорошеньких девочек ловит. Шиха и меня соблазняет: «Хочешь, – говорит, – на брачное ложе к богу? Бог к тебе сойдет в ночи, как жених к невесте!» Ну, да я не дура, чтоб гуся в мешке покупать. Смерд какой-нибудь, Изка Пархатый, вместо бога, придет и осрамит… Помолчала, потом опять заговорила, глядя ей прямо в глаза:
– Удивительно! Как же не узнать, от кого беременна! Да я бы подлеца со дна моря достала. А Шиха-то ведь знает, кто к тебе тогда приходил. Хочешь, припугну его, – скажет?.. Ну, что ж ты молчишь? Говори, хочешь?
– Делай что знаешь, только не мучай, не мучай так! Лучше уж сразу! – простонала Маки, дрожа и бледнея, как в пытке. Рита чуть-чуть отшатнулась и тоже вздрогнула.
– Что сразу? Что сразу? Думаешь, все знаю и только дразню, играю, как кошка с мышью? А может, и знаю, может, и знаю… Да что ты, чего испугалась? Может, и ты знаешь?.. А-а, поймала! Говори же, говори, кто приходил? Он?
– Да, он, Заакера, – ответила Маки, как будто спокойно, глядя ей тоже прямо в глаза. – Ну что ж, убей, мне все равно…
Рита выхватила нож из-за пазухи и далеко отбросила его. Закрыла лицо руками и долго сидела так, не двигаясь потом отвела их от лица и положила на плечи Маки.
– Ну вот, хорошо, что сказала, а то ведь, пожалуй, и вправду убила бы. Куклу-то Анкину помнишь?
Рита и Анки, маленькими девочками, подрались однажды из-за глиняной куклы, уродливой, но страстно обеими любимой. Рита отняла ее у сестры, а та вырвала у нее из рук и разбила об стену вдребезги. Тогда Рита кинулась на Анки, как бешеная, и впилась ей зубами в горло; едва оттащили ее сбежавшиеся мамы. А ночью ушла потихоньку в сад и наелась ядовитых ягод – «паучьих яиц», едва не умерла.
– Бес в меня тогда вошел. Вот и теперь тоже. Все мы, дочки, в отца – одержимые… Да, хорошо, что сказала. Все теперь хорошо – кончено! Только сама на себя я дивлюсь: думала, скажешь – убью; а вот, ничего. Глупые девчонки из-за куклы подрались, а ведь, пожалуй, и не стоит. Жен-то у Заакеры знаешь сколько? Овцы в стойле, рыбы в садке, а мы у него в тереме. Чем же мы лучше других? Ты мне жениха отдала, а я тебе – мужа, вот и расплатились начисто, и дело с концом. Заживем душа в душу, как прежде, – лучше прежнего. Детку родишь – мальчика, девчонки не надо, – вместе будем нянчить… Что ж ты опять молчишь, куксишься? Или не веришь?
– Верю, а только страшно…
– Чего?
– Не знаю… Ты-то меня простишь, да я сама замучаю себя, загрызу, вот как ты тогда Анки… Ох, Рита, Рита, милая, зачем ты меня сразу не убила давеча? Уж лучше бы сразу!
– Вздор! Все простится, забудется, только бы жить да любить. А ты ведь любишь меня – больше любишь, чем прежде?
– Больше, больше! До смерти люблю, – оттого и умру, что так люблю. Знаешь, Рита, если очень любишь, нельзя жить – такая радость…
– После того полюбила так? – спросила Рита и чуть-чуть усмехнулась.
Маки ничего не ответила, спрятала лицо на груди ее и заплакала.
– Ну, ладно, кончено, – сказала Рита сухо. – Пора домой, вон роса какая.
Взяла ее под руки и повела осторожно, как повитуха роженицу.
Вошли в терем. Рита уложила сестру в постель и села рядом; ждала, пока заснет.
– Не уходи, – сказала Маки.
– Не уйду, не бойся, лягу здесь рядом.
– Правда, любишь? – шепнула ей Маки на ухо.
– Нет, совсем не люблю, ни капельки… Ах ты, глупая девчонка, да если б не любила, разве мучила бы так?.. Ну, полно болтать, спи!
– Нет, погоди, что я хотела?.. Да, я ведь наверное не знаю, кто тогда приходил. Давеча сказала, что он, Заакера, а ведь не знаю, – может быть, и не он…
– А кто же?
– Тот, кого ждала. Усомнилась, не поверила – за то теперь и мучаюсь, в муке умру, а когда умру, может быть, Он и придет…
– Ну, полно, не надо об этом, спи. Хочешь, сказку скажу?
– Скажи, – ответила Маки уже сонным, детским голосом.
– Жил-был царь с царицей, – начала Рита нараспев, как старая няня Аза, сказку об Очарованном Царевиче. – Вот раз помолились они, и боги дали им сына. И когда он родился, пришли семь Гатор назначить ему судьбу и сказали: «Этот человек умрет от крокодила, змеи или собаки». И царь, узнав о том, огорчился очень, очень. И велел построить башню в горах и поселил в ней царевича. И было ему там хорошо очень, очень…
Замолчала, прислушалась к ровному дыханью спящей, поцеловала ее в глаза, чтобы снились хорошие сны, и вышла из комнаты.
Старая старушка Аза, царевнина няня, выйдя в сад из душного терема, где томилась бессонницей, и, увидев что-то мелькнувшее между стволами деревьев, белое, как призрак, испугалась, подумала: «Уж не Тэйя ли?» Знала, что покойная царица ходит по ночам. Но, узнав царевну Меритатону, быстро бежавшую, окликнула ее. Та остановилась, оглянулась, но ничего не ответила, побежала дальше и скрылась за чащей кустов.
Как ни привыкла Аза к царевниным причудам, все же удивилась, а потом вдруг опять испугалась, но уже по-иному: что-то почудилось ей в белом призраке непризрачно-жуткое.
Побежала за нею, но старые ноги плохо слушались. Долго бегала, искала, кликала, но той и след простыл.
Встретила садовника.
– Видел царевну?
– Видел.
– Где?
– На Лотосном пруду, в часовне.
– Что она там делает?
– Не могу знать.
– Ну-ка, пойдем, посмотрим.
Подошли к часовне. Внутрь ее садовник войти не посмел. А старушка как вошла – завопила, выскочила, едва не сбила садовника с ног и, продолжая вопить, повалилась наземь.
Он вошел в часовню и увидел, что царевна висит на медном шесте завесы перед жертвенником. Петлю сделала из оторванного шнура, но так неискусно, что узел на шее ослаб, соскользнул, и тело, повиснув неровно, уперлось носком левой ноги в угол опрокинутой скамьи, на которую встала она, чтобы перекинуть петлю через шест.
Когда садовник перерезал шнур и вынул шею царевны из петли, она уже не дышала, и страшно посиневшее лицо ее было так неподвижно, что он подумал: «Удавилась до смерти!»
Маки видела сон, будто бы лежит на брачном ложе, на высокой башне, в звездном небе, и ждет Его, как тогда во храме Аттиса; знает, что Он придет, и лицо Его будет как месяц – ночное солнце, не жгучее, не страшное, и как лицо того бога, чье имя «Тихое Сердце».
Проснулась, позвала:
– Рита!
Оглянулась – никого; только месяц смотрит в окно, яркий, как ночное солнце.
Вдруг далеко в саду послышались крики. Маки вскочила, выбежала в сад, прислушалась. Крики доносились все ближе и ближе. Люди с факелами бегали, кричали.
Маки побежала на факелы. Люди несли что-то длинное, белое. Маки с воплем кинулась вперед. Люди расступились. Месяц осветил лицо Риты, и Маки упала без чувств.
Рита была жива, только в глубоком беспамятстве. Ее спасли, но она была долго больна, при смерти, как в детстве, когда наелась «паучьих яиц».
А у Маки в ту же ночь начались муки родов, и к утру благополучно разрешилась она от бремени сыном.
VI
На дворе был сияющий день, а в спальной палате Мару-Атонова терема с закрытыми ставнями и занавешенными окнами – темная ночь; только позолота столпов тускло мерцала в тусклом свете лампад.
Посредине палаты, на четырех ступенях, стояло точенное из слоновой кости и черного дерева, раскрашенное и раззолоченное ложе – чудовище, помесь гиппопотама и крокодила, на львиных лапах, с разинутой пастью: оно сторожило спящего; чем оно страшнее, тем ему спокойнее. Странно-выпуклое, круглое, жесткое, с деревянной, вместо изголовья, лункой, ложе казалось неудобным, а на самом деле было удобнее всех других, потому что давало свежесть в жаркие ночи, когда пуховики и подушки невыносимы.
На ложе лежала больная царевна Макитатона. На четвертый день после родов сделалась у нее родильная горячка.
В душной темноте пахло лекарствами. Врач Пенту толок в каменной ступе сложное снадобье из сорока шести составов, соответственных такому же числу кровеносных сосудов в человеческом теле. Кроме лекарственных злаков, тут были ящеричная кровь, сера из свиных ушей, порошок из головы и крыльев священного жука, Хепэра, молоко беременной женщины, гиппопотамий зуб и мушиный помет.
А в другом углу палаты вавилонский заклинатель бесов Ашуршаратта кипятил в котле кровь только что заколотого ягненка с колдовскими травами и бормотал заклинанье от семи бесов лихорадки:
Сибити шуну, сибити шуну,
Сибит ади шина шуну!
Их семеро, семеро,
Их дважды семеро!
На небе – семеро,
В преисподней – семеро.
Ни мужские, ни женские,
Безбрачные, бездетные;
Вихри губящие,
Пощады не ведают,
Молитвы не слушают,
Злые, могучие.
Их семеро, семеро!
Но ничто не помогало – ни лекарства, ни заклинанья, ни даже целебная вода из Солнечного колодца в Гелиополе, в которой бог Ра умывал лицо свое, когда жил на земле.
Тщетно старая Аза шептала заговор:
Мать Изида кричит
С вершины гор:
«Сын мой, Гор!
На горе горит, —
Воды принеси,
Огонь угаси!»
Не угасал огонь горячки.
Тщетно царица читала над дочерью молитву Изиды-Матери. Когда скорпион ужалил младенца Гора, возопила она к солнцу, и солнце померкло, ночь была на земле, пока бог Тот не исцелил младенца и не отдал его матери. С той поры читалась над больными детьми молитва-заклятье Изиды.
– Стой, Солнце, остановись, пока дитя не возвратится матери! – повторяла царица с безумной мольбой, но знала, что чуда не будет, солнце не остановится.
Вспоминала песнь Атону:
Ты побеждаешь любовью;
Утешаешь дитя во чреве матери,
Прежде чем его утешит мать.
Но вот, не утешил.
Милуешь сына червя
И мошку в воздухе.
Но вот, не помиловал.
Царь и царица не отходили от больной, но она уже не узнавала их, бредила. Только что луч света проникал между складками завес или в щелку открывшейся двери, металась, плакала:
– Лезет, лезет опять! Вон лапу протянул… Авинька, миленький, да прогони же его, прогони скорей! Схватит – как муху высосет… И кто это паука пустил на небо?
Царь понимал: Солнце-Атон – паук; руки-лучи – паучьи лапы.
Но чаще всего она бредила Шихой-скопцом.
– Шиха, а, Шиха, что это значит: «Мрак больше света»? Кто похулил божественный мрак? Царь Уаэнра – безбожник?.. Ах ты, обезьяна старая, как ты смеешь?.. Пить, пить! Да нет ли посвежее? Давеча кипятку дали, весь рот обожгла…
Ей давали самой свежей воды из пористых тинтирийских сосудов; но она отталкивала чашу:
– Опять кипяток!
Мальчик родился раньше времени, без ногтей, без волос, слабый, бледный, как прозябшая в темноте былинка. Почти не плакал, только болезненно морщился от лампадных огней.
– Нехорошо быть младенцу без света: может ослепнуть; надо на солнце вынести, – решили бабки-повитухи.
Но только что вынесли – закричал, забился, как в родимчике; должны были унести назад в темноту. Родился врагом Солнца-Атона.
– Что сейчас на дворе, ночь? – спросила однажды Маки, очнувшись от бреда.
– Нет, день, – ответил царь.
– Краток день жизни, ночь смерти длинна, – проговорила она с тихой усмешкой, глядя ему прямо в глаза до глубины сердца проникающим взором. – Шиха говорит: «Тьма прежде света; солнечным светом тьма покрывается…» Солнечный свет увидят ли мертвые? Ты как думаешь, Энра?
Он хотел ответить, но она опять забредила:
– Курица, курица белая, на голове рыжий парик, как у Тэйи… Бежит на меня… Ой-ой-ой, всеми зубами впилась!
Царь вспомнил: белая курица была супругой того петуха, с которым играли когда-то он и царевны. А старая Аза горько заплакала: недобрым знаком казалось ей, что у птицы выросли зубы.
– Растолкуй ты мне, Шиха, – бредила Маки. – Царь Уаэнра мудрее всех сынов человеческих; как же он смерти не знает? Живет, солнцу поет, как будто нет смерти, все хорошо… Что-то запоет, когда узнает смерть?
Иногда казалось царю, что это больше, чем бред; как будто она его не видела, но знала, что он здесь, и для него говорила, страшным судом судила его, страшным смехом смеялась над ним.
– Энра, Энра, что же ты не молишься? – повторяла царица, как безумная, глядя на него сухими глазами без слез. – Молись же! Твоя молитва сильна: Отец услышит сына. Спаси ее, Энра!
Царь молчал. Стыдно ему было так, что хотелось кричать от стыда, как от боли; но сильнее, чем стыд, боль, смерть, был смех: «Что-то запоешь, когда узнаешь смерть?»
В эти же дни лежала и царевна Меритатона, больная, в покоях Заакеры, наследника.
Маки вспоминала о ней как о мертвой.
– Из-за меня! Из-за меня! – повторяла с тоской.
– Полно, доченька, Рита жива, – утешала ее царица.
Но она не верила.
– Нет, не обманывай, я же видела, как ее несли, мертвую…
«А ведь, может быть, спаслась бы, если бы только поверила, – думала царица. – Но как уверить, чем?.. И что это, что это было между ними? Хороша и я: мать не знает, из-за чего одна дочь удавилась и от кого другая родила… Может быть, Энра знает? Он тогда говорил с нею – должен знать».
Приступала к царю наедине, спрашивала:
– Энра, ты знаешь, кто отец ребенка?
– Нет, не знаю.
– Разве ты ее не спросил?
– Спрашивал, – не сказала.
– Как же ты не выпытал, оставил ее одну с этою мукою?
– Жалко было.
– А теперь не жалко? Энра, Энра, что ты сделал!
Мальчик жил недолго: на пятый день к вечеру умер, точно уснул.
– Где мальчик? – спросила Маки, очнувшись от бреда.
– Спит, – ответила царица.
– Ничего, я потихоньку, дайте!
Все стояли молча, не двигаясь.
– Дайте же, дайте! – повторяла Маки, оглядывая всех. – Где он? Правду говорите… Что с ним? Умер?
Царица закрыла лицо руками.
– Ну что ж, может быть, и лучше так, – сказала Маки тихо. – Скоро вместе будем.
В ту же ночь, перед рассветом, начала томиться. Уже не металась, не бредила; лежала, вся голая: легчайшая ткань давила ее; плоским, точно раздавленным, растоптанным, как былинка, казалось худенькое тельце, детское, как у восьмилетней девочки; голова с удлиненным черепом – «царская тыковка» – закинута, глаза закрыты, лицо недвижно, и дыханье так слабо, что иногда не знали, дышит ли.
Врач Пенту подносил к губам ее круглое медное зеркало и, когда ясная медь чуть-чуть мутнела, говорил:
– Дышит.
Вдруг открыла глаза и позвала:
– Энра, где Энра?
– Здесь, – ответил царь, нагнувшись к ней, и она зашептала, зашелестела ему на ухо, как сухая былинка:
– Ставни открой!
Он знал, что она боится света, все ставни сразу открыть не посмел, только с одного окна велел откинуть занавес.
– Все, все! – прошептала она.
Все окна открыли настежь. Утреннее солнце залило палату; детские ручки-лучики бога Атона обняли голое тельце.
– Подыми! – прошелестела былинка, и легко, как былинку, он поднял ее. Солнце озарило лицо ее.
– Ахенатон, Радость-Солнца, Сын-Солнца-Единственный! – проговорила она, глядя в глаза его так, что он понял, что это не бред. – Я знаю, что ты…
Не кончила, но царь понял: «Я знаю, что ты – Он».
Вдруг вся затрепетала на руках его, как лист под бурей. Он опустил ее на ложе.
Пенту поднес к ее губам зеркало, но ясная медь уже не помутнела. И детские ручки-лучики Солнца обняли мертвую.
Плач раздался по терему. Женщины плакали, выли неистово, били себя в грудь, рвали на себе волосы, царапали ногтями лица свои до крови, как будто с восторгом отчаянья. Но все было чинно, обрядно, священнодейственно: также плакали за тысячи лет, и через тысячи лет будут плакать так же.
Царь слышал плач, но в сердце его был смех: «Ты – Он!»







