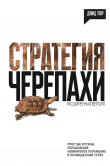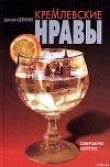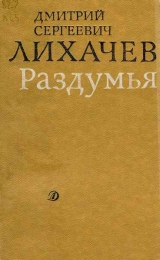
Текст книги "Раздумья"
Автор книги: Дмитрий Лихачев
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
Дмитрий Сергеевич Лихачев
Раздумья
К моим читателям
Человек должен жить в сфере добра. Эта сфера добра в значительной степени создается им самим. Она создается из его добрых дел, добрых чувств, добрых воздействий на окружающую среду, памяти на добро.
Злое дело забывается быстрее, чем доброе. Может быть, это происходит оттого, что вспоминать хорошее приятнее, чем злое? Конечно, приятнее! Но дело и в другом. Зло – бродит общество. Оно «сепаратно» по своей природе. Добро же социально в широком смысле этого слова. Оно соединяет, объединяет, роднит. Оно вызывает симпатию, дружбу, любовь. Поэтому злые объединения недолговечны. Они основываются на общности временных интересов.
«Волчья стая» рано или поздно кончается дракой волков.
Объединение же на почве доброго дела, добрых чувств живет даже тогда, когда завершено само доброе дело, послужившее причиной его создания. Доброе объединение живет в душах людей даже тогда, когда завершена и забыта практическая необходимость объединения.
Добро выше практической нужды!
И вот тут обратим внимание на одну черту сферы добра. Она плотнее связана с традициями родной культуры, с культурой человечества вообще, с прошлым и будущим. Сфера добра большая. Она прочная, хотя и труднее достигается, чем формируется сфера зла. Сфера добра ближе к вечности.
Вот почему сфера добра требует от каждого из нас внимания к истории – своей и мировой, к культурным ценностям, накопленным всем человечеством, с ценностями гуманитарными в первую очередь.
Изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, градостроительство и природный ландшафт, созданный одной природой или природой в союзе с человеком, – изучение всех этих гуманитарных ценностей умножает, укрепляет, повышает нравственность отдельного человека и всего общества.
А без нравственности не действуют социальные и экономические, исторические и любые другие законы, которые создают благосостояние и самосознание человечества.
И в этом огромный практический результат «непрактического» по своей природе добра.
Вот почему дело каждого в отдельности и всех вместе – приумножать добро, хранить традиции, знать и ценить историю свою, родную, и всего человечества.
Я вспоминаю…
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ
Я родился в среднеинтеллигентской семье. Мой отец был инженер-электрик, добившийся высшего электротехнического образования только благодаря своей энергии и работоспособности. Уже в старших классах реального училища он зарабатывал себе на жизнь репетиторством, а в студенческие годы – и преподаванием в реальном училище Шкловского, отца известного литературоведа В. Б. Шкловского.
Известную роль сыграло для меня увлечение моих родителей Мариинским балетом, а затем озорная и увлекательная атмосфера артистической молодежи в дешевой дачной местности, под Петербургом – Куоккале. Имена многих знаменитых художников, актеров, писателей, живших в Куоккале или только посещавших ее, были для меня живыми и повседневными.
Многим в своем воспитании я обязан школам, в которых учился. В старшем приготовительном классе я учился в гимназии Человеколюбивого общества на Крюковом канале.
ГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ К. И. МАЯ
В 1915 году я поступил в Гимназию и реальное училище К. И. Мая на 14-й линии Васильевского острова. К этому времени мой отец получил в заведование электрическую станцию при Главном управлении почт и телеграфов и казенную квартиру при этой станции. День и ночь квартира наша содрогалась от действия паровой машины. Сейчас этой станции и в помине нет. Двор пустой, нет и нашей квартиры. Но тогда посещение станции доставляло мне большое удовольствие. Громадное колесо вращалось поршнем, оно блестело от масла, было необычайно красивым.
В школу Мая мне надо было ездить на трамвае, но пробиться в трамвай было чрезвычайно трудно: площадки были заполнены солдатами («нижними чинами», как их называли). Им разрешалось ездить бесплатно, но только на площадках вагонов.
Жили мы рядом с Конногвардейским бульваром, и я наслаждался тогда вербными базарами, где можно было потолкаться около букинистических ларьков, купить народные игрушки и игрушки специально вербные (вроде чертей на булавках для прикалывания к пальто, акробатов на трапециях, «тещиных языков» и пр.), полакомиться вербными кушаньями. Вербная неделя была лучшей неделей для детей в старом Петрограде, и именно здесь можно было почувствовать народное веселье и красоту народного искусства, привозимого сюда из всего Заонежья.
Ведь Петербург-Петроград не только стоял лицом к Европе, что ощущалось прежде всего в его пестром населении (немцы, французы, англичане, шведы, финны, эстонцы наполняли собой и школу К. И. Мая), но за его спиной находился весь Русский Север с его фольклором, народным искусством, народной архитектурой, с поездками по рекам и озерам, близостью к Новгороду и пр.
Гимназии и реальном училище К. И. Мая написано много. Не буду повторять всего того хорошего, что о школе уже сообщалось, отмечу только, что школа эта сыграла большую роль в моей жизни. Я чувствовал себя там прекрасно и, если бы не трудности дороги, не мог бы и желать лучшего.
Я взрослел и был как раз в таком возрасте, когда особенно тяжело переживаются военные неудачи. Обсуждение военных неудач и всех возмутительных неурядиц в правительстве и в русской армии занимали изрядное место в вечерних семейных разговорах, тем более что все происходившее было как будто тут же, рядом. Распутин появлялся в ресторанах и домах, которые я видел, мимо которых гулял; солдат обучали совсем рядом на любой свободной площади; спектакли начинались с томительного исполнения всех гимнов союзных России держав и прежде всего с бельгийского гимна «Барбансон». Национальное чувство и ущемлялось, и подогревалось. Я жил известиями с театра военных действий, слухами, надеждами и опасениями.
Школа К. И. Мая наложила сильный отпечаток и на мои интересы, и на мой жизненный, я бы сказал мировоззренческий, опыт. Класс был разношерстный. Учились и внук Мечникова, и сын банкира Рубинштейна, и сын швейцара. Преподаватели тоже были разные. Старый майский преподаватель M. Г. Горохов обучал нас два года перспективе почти как точной науке; преподаватель географии изумительно рассказывал о своих путешествиях и по России, и за границей, демонстрируя диапозитивы; библиотекарь умела порекомендовать каждому свое. Я вспоминаю те несколько лет, которые я провел у Мая, с великой благодарностью. Даже почтенный швейцар, который приветствовал нас по-немецки, а прощался по-итальянски, учил нас вежливости собственным примером, – как много все это значило для нас, мальчиков!
Учителя не заставляли нас выдавать «зачинщиков» шалостей, разрешали на переменах играть в шумные игры и возиться. На уроках гимнастики мы главным образом играли в активные игры – такие, как лапта, горелки, хэндбол (ручной мяч).
На школьные каникулы выезжали всей школой в какое-то имение на станцию Струги-Белые по дороге на Псков.
Мы выпускали разные классные журналы и даже писали и размножали собственные сочинения в духе повестей Буссенара и Луи Жаколио без преподавательского надзора.
Я жалею, что не мог ходить на все вечерние занятия и школьные кружки, – уж очень трудная была дорога в переполненных трамваях.
УРОКИ РИСОВАНИЯ
Уроки рисования в школе Мая вел наш классный наставник Михаил Григорьевич Горохов. Он всегда входил в класс серьезный, как бы «выполняющий высокий долг» (а долг его и в самом деле был высоким). Часто читал нам нотации. Учил нас корректности в обращении друг с другом, манере держаться. Помню, что ставил нам в пример учеников старших классов, в частности ученика старших классов Игоря Ивановича Фомина, впоследствии архитектора.
Но самыми удивительными были уроки рисования M. Г. Горохова. Два года мы проходили с ним перспективу. По его проекту был создан в новом здании школы Мая кабинет для уроков рисования. Там были удобные пюпитры, на которые мы накалывали бумагу для рисунков. Со всех мест было хорошо видно натуру, а натура состояла для уроков перспективы главным образом из проволочных каркасов. Перспектива была точнейшая наука, учившая нас думать. Уроки перспективы были сродни урокам геометрии. С тех пор я умею замечать ошибки в перспективе.
И вместе с тем уроки рисования были уроками труда, ручного труда, они учили уметь работать руками. Даже стирать резинкой неверно нанесенную карандашную линию надо было уметь. И этому Михаил Григорьевич нас тоже учил. А что стоили походы с ним на выставки, хотя принимать участие в этих походах мне приходилось редко.
УМНЫЙ «РУЧНОЙ ТРУД»
В годы первой мировой войны в школе Мая был введен урок ручного труда. Чем это диктовалось, я не знаю. Но воспитательное значение он имел очень большое.
Сравнительно молодой столяр говорил нам: «Когда работаешь, надо думать». Я это запомнил. Он учил нас, как без гвоздей делать различные деревянные поделки – полки, рамки, табуретки, как делать различные сочленения, чтобы вещь крепко держалась без гвоздей, как выбирать дерево для работы, как обходить сучки, как работать рубанком, полировать. Закончив один какой-то прием, мы переходили к другому.
«Ручной труд», так назывался урок, был уроком творчества. От менее сложных приемов мы переходили к более сложным. И хотя в классе было много детей работников отнюдь не ручного труда – уроки эти нам нравились. Единственное, что нам мешало, это то, что нас было много: человек двадцать, а нашему преподавателю надо было показывать каждому в отдельности.
Объяснив нам всем приемы работы, преподаватель ручного труда подходил к каждому из нас (верстаков и столярных инструментов было много) и каждому показывал отдельно – как держать инструмент, как им работать. Многие, конечно, понимали не сразу, стояли и ожидали, пока к ним подойдет наш милый интеллигентный рабочий-столяр.
Ручной труд был трудом умственным и давал нам радость овладения новым.
Само собой, что сделанные нами полочки, коробочки и скамейки мы уносили домой, и сделанным нами гордилась вся семья.
ВНЕШНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Ни моя семья, ни я, одиннадцати-двенадцатилетний мальчик, разумеется, ничего толком не понимали, что происходит, и происходит почти на наших глазах, так как жили мы на Новоисаакиевской улице вблизи Исаакиевской площади. Семья слабо разбиралась в политике.
Когда в первые дни февральской революции «гордовики» (так называли в Петрограде городовых) захватили вышку Исаакиевского собора и чердаки гостиницы «Астория» и оттуда обстреливали любую собиравшуюся толпу, мои родители возмущались «горловиками» и боялись приблизиться к этим местам. Но когда «гордовиков» стащили с их позиций и разъяренная толпа убивала их, родители возмущались жестокостью толпы, не особенно входя в дальнейшее обсуждение событий.
Когда мы с отцом ходили на Невский, чтобы посмотреть на полки, непрерывно и, по-видимому, без особой цели маршировавшие под оркестры, звуки маршей поднимали нам настроение, но когда эти же полки шли нестройными рядами, мы огорчались, ибо помнили, с каким блеском шел до войны Конногвардейский полк по воскресеньям в свою полковую Благовещенскую церковь, с каким балетным искусством вышагивал впереди командир полка – полковник из русских немцев, как блестели кирасы и каски, как лихо крутил палку тамбурмажор перед оркестром.
Да и до революции, когда мы с отцом гуляли по Большой Морской и видели, как строят дом и носят тяжести на своих спинах обутые в лапти (чтобы не скользить) крестьяне, приехавшие в город на заработки, я почти задыхался от жалости и вспоминал с отцом «Железную дорогу» Некрасова. То же самое происходило на любой набережной в местах, где разрешалось разгружать барки с кирпичом и дровами. Здоровые катали, чтобы взобраться по узким доскам, перекинутым с бортов барж на набережную, вкатывали быстро-быстро, не останавливаясь, свои тачки с тяжеленным грузом. Мы жалели каталей, старались представить себе, как они живут в отрыве от семей на этих барках, как замерзают по ночам, как тоскуют по своим детям, ради которых они, в сущности, и зарабатывали свой хлеб тяжелым трудом. Но когда эти же бывшие грузчики и носильщики, мастеровые и мелкие служащие пошли по бесплатным билетам на балет в Мариинский театр и заполнили собой партер и ложи, родители жалели о былом бриллиантовом блеске голубого Мариинского зала. Единственное, что на тех представлениях радовало родителей, – это то, что балерины танцевали не хуже, прежнего. Спесивцева и Люком были так же великолепны, раскланивались перед новой публикой так же, как и перед старой. А ведь как это было замечательно! Какой урок уважения к новому зрителю давал нам всем тогдашний театр!
ЖИЗНЬ В ПЕРВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИПОГРАФИИ
Отец был рад и горд, когда рабочие электрической станции в Первой государственной типографии (теперь это Печатный Двор) выбрали его своим заведующим. Мы переехали с Новоисаакиевской в центре Петрограда на казенную квартиру при типографии на Петроградской стороне. Это была осень 1917 года. События Октябрьской революции оказались как-то в стороне от меня. Я их плохо помню.
Жизнь в типографии меня во многом воспитала. Типографии я обязан своим интересом к типографскому делу. Запах свежеотпечатанной книги для меня и сейчас – лучший из ароматов, способный поднять настроение. Я свободно ходил по типографии, знакомился с наборщицами, носившими длинные волосы (прическа эта называлась «марксистка»), часто писавшими стихи, считавшими себя среди рабочих интеллигентами и гордившимися своей работой. Отец постепенно стал специалистом по типографским машинам. Вскоре после революции для типографии были закуплены за рубежом новые печатные машины, в которых отец один и смог разобраться.
Типография имела большой театральный зал, где для рабочих и служащих выступали лучшие певцы и актеры города и даже однажды происходил публичный диспут на тему: «Есть бог или нет» между А. В. Луначарским и митрополитом Александром Введенским… Помню парадоксы того времени: толпа верующих после диспута хотела побить именно митрополита, и отец по просьбе начальства спасал его через нашу квартиру, выведя на другую улицу через наш черный ход.
Жизнь в типографии многому меня научила, многое раскрыла, объяснила. Но может быть, не последнюю роль сыграло и то, что на некоторое время отец получил на хранение библиотеку директора ОГИЗа – небезызвестного в тогдашних литературных кругах Ильи Ионовича Ионова. В его библиотеке были эльзевиры, альдины, редчайшие издания XVIII века, собрания альманахов, дворянские альбомы. Библия Пискатора, роскошнейшие юбилейные издания Данте, издания Шекспира и Диккенса на тончайшей индийской бумаге, рукописное «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, книги из библиотеки Феофана Прокоповича, множество книг с автографами современных писателей (запомнились письма-надписи на сборниках стихов С. Есенина, А. Ремезова, А. Н. Толстого и т. д.). Получил отец в подарок и некоторые вещи – посмертную маску, снятую Манизером с Александра Блока. (Маска эта пропала.)
Библиотека была получена нами при следующих обстоятельствах. У нас была на Печатном Дворе огромнейшая казенная квартира, по которой мы с братом катались даже на велосипеде. И. И. Ионов получил назначение торгпредом в США и, зная честность отца, наличие у него большой квартиры, свез основную часть своей библиотеки к нам. Возвратился Ионов уже не в Ленинград, а в Москву. Отец немедленно по возвращении его погрузил все книги в контейнеры и отправил их в Москву.
Несколько лет существования великолепной библиотеки в нашей квартире не прошли для меня даром. Я рылся и рылся в ней, читал, смотрел, любовался изданиями и рукописями, гравюрами и фотографиями с памятников искусства. Мне не хватало образования, иначе я еще больше смог бы получить для себя от этой необыкновенной библиотеки. На многое я просто не обратил внимания.
Сам И. И. Ионов не имел систематического образования. В Одессе, еще гимназистом, он был арестован царским правительством и получил пожизненное заключение, которое и провел в Шлиссельбургской тюрьме, откуда вышел глубоко больным человеком и с невероятными провалами в образовании, за что над ним насмехались многие, не зная, что при всем этом он был начитан в самых неожиданных областях, так как имел возможность в тюрьме получать книги.
ШКОЛА ЛЕНТОВСКОЙ
Первое время после переезда в казенную квартиру на Петроградской стороне я продолжал учиться в школе Мая. В ней я пережил самые первые реформы школы, переход к трудовому воспитанию, к совместному обучению мальчиков и девочек (к нам в школу перевели девочек из соседней школы Шаффе) и т. д. Но ездить в школу в переполненных трамваях стало совершенно невозможно, ходить пешком – еще труднее, так как сложности в тогдашнем Петрограде с едой были страшными. Меня перевели поблизости в 190-ю советскую трудовую школу имени Лентовской на Плуталовой улице Петроградской стороны. И снова я попал в замечательное училище.
Сравнительно со школой Мая «Лентовка» была бедна оборудованием и помещениями, но была поразительна по преподавательскому составу. Школа образовалась спустя несколько лет после революции 1905 года из числа преподавателей, изгнанных из казенных гимназий за революционную деятельность. Их собрала театральный антрепренер Лентовская, дала денег и организовала частную гимназию, куда сразу стали отдавать своих детей левонастроенные интеллигенты. У директора – Владимира Кирилловича Иванова – в его кабинете была библиотечка революционной марксистской литературы, из которой он секретно давал читать книги заслуживающим доверия ученикам старших классов.
Между учениками и преподавателями образовалась тесная связь, дружба, «общее дело». Учителям не надо было наводить дисциплину строгими мерами. Учителя могли постыдить ученика, и этого было достаточно, чтобы общественное мнение класса было против провинившегося, и озорство не повторялось. Нам разрешалось курить, но ни один из аборигенов школы этим правом не пользовался.
Об одном из преподавателей этой школы – Леониде Владимировиче Георге – я написал в отдельном очерке. Но мог бы написать и о многих других: Александре Юльевиче Якубовском (нашем преподавателе истории, будущем известном востоковеде), Татьяне Александровне Ивановой (преподавателе географии) и о многих других.
Школа была близко, и я постоянно посещал различные кружки, главным образом кружки литературы и философии, в занятиях которых принимали участие и многие «взрослые». Об одном из таких участников наших кружков – Евгении Павловиче Иванове, друге Александра Блока, – я немного написал в статье «Из комментария к стихотворению А. Блока «Ночь; улица, фонарь, аптека…».
Один летний месяц имел огромное значение для формирования моей личности, моих интересов и, я бы сказал, моей любви к Русскому Северу: школьная экскурсия в 1921 году по Мурманской железной дороге в Мурманск, оттуда на паровой яхте в Архангельск вокруг Кольского полуострова по Белому морю, на пароходе по Северной Двине до Котласа и оттуда по железной дороге в Петроград.
Эта двухнедельная школьная экскурсия сыграла огромную роль в формировании моих представлений о России, о фольклоре, о деревянной архитектуре, о красоте русской северной природы.
Путешествовать по родной стране нужно как можно раньше и как можно чаще. Школьные экскурсии устанавливают добрые отношения с учителями и вспоминаются потом всю жизнь.
О РИСОВАНИИ В ШКОЛЕ ЛЕНТОВСКОЙ
В Гимназии и реальном училище К. И. Мая, где я учился в 1915–1918 годы, был замечательный преподаватель рисования – Михаил Григорьевич Горохов, я уже об этом говорил. Когда родители перевели меня в школу Лентовской, преподавателем рисования у нас стал Павел Николаевич Андреев – брат писателя Леонида Андреева. Его методика преподавания была совсем другой. В классе, где стояли большие столы, он раздал нам огромные куски обоев и на обратной, белой стороне их предложил писать толстыми кистями «вольные композиции»: зиму, лето, весну, осень. Не помню, какое время года выбрал я, но отчетливо помню, как он подошел ко мне и сказал: «Ну вот, небо непременно синее! А Вы (к ученикам в то время обращались уважительно) попробуйте нарисовать его светло-зеленым, светло-розовым. Ведь и снег не бывает чисто белым». Я закрасил небо светло-зеленой краской и только тут впервые прикоснулся к тому – что такое живопись.
О МОЕМ УЧИТЕЛЕ
Леонид Владимирович Георг принадлежал к тем лучшим старым учителям словесности в наших гимназиях и реальных училищах XIX и начала XX веков, которые были подлинными «властителями дум» своих учеников и учениц, окружавших их то серьезной любовью, то «девчоночьим» обожанием.
Именно эти старые учителя словесности формировали не только мировоззрение своих учеников, но воспитывали в них вкус, добрые чувства к народу, интеллектуальную терпимость, интерес к спорам по мировоззренческим вопросам, иногда интерес к театру (из московских театров Леонид Владимирович любил Малый театр), к музыке.
Леонид Владимирович обладал всеми качествами идеального педагога. Он был разносторонне талантлив, умен, остроумен, находчив, всегда ровен в обращении, красив внешне, обладал задатками актера, умел понимать молодежь и находить педагогические выходы в самых иногда затруднительных для воспитателя положениях.
Расскажу об этих его качествах.
Его появление в коридоре, на перемене, в зале, в классе, даже на улице было всегда заметно. Он был высок ростом, с лицом интеллигентным и чуть насмешливым, но при этом добрым и внимательным к окружающим. Белокурый, со светлыми глазами, с правильными чертами лица, он сразу привлекал к себе. На нем всегда хорошо сидел костюм, хотя я никогда не помню его в чем-либо новом: времена были тяжелые (я учился у него в 1918–1923 годах), и где было взять это новое на скромное учительское жалованье!
Мягкость и изящество в нем доминировали. Ничего агрессивного не было и в его мировоззрении. Ближе всего он был к Чехову – его любимому писателю, которого он чаще всего читал нам на своих «заместительских уроках» (то есть уроках, которые он давал вместо своих часто хворавших тогда товарищей-педагогов).
Эти «заместительские уроки» были его маленькими шедеврами. Он приучав нас на этих уроках к интеллектуальному отношению к жизни, ко всему окружающему. О чем только не говорил он с нами на них! Он читал своих любимых писателей: по преимуществу я помню его чтение «Войны и мира», пьес Чехова («Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад»), рассказов Мопассана, былин «Добрыня Никитич» и «Соловей Будимирович» («Добрыню Никитича» Леонид Владимирович читал и на родительском собрании для родителей – их он также «воспитывал»), «Медного всадника», «Жизнь Званской…» Державина… Всего не перечислишь.
Леонид Владимирович приходил в класс с французскими текстами и показывал нам, как интересно учить французский язык: он разбирал рассказы Мопассана, рылся при нас в словарях, подыскивал наиболее выразительный перевод, восхищался теми или иными особенностями французского языка. И уходил из класса, оставляя в нас любовь не только к французскому языку, но и к Франции. Стоит ли говорить, что все мы после этого начинали, как могли, изучать французский. (Это было весной, и помню, что я все лето потом занимался только французским…)
На иных из своих «заместительских уроках» он рассказывал нам о том, как слушал народную сказительницу Кривополенову, показывал, как она пела, как говорила, как делала во время пения свои замечания. И мы вдруг начинали понимать эту русскую бабушку, любить ее и завидовали Леониду Владимировичу, что он ее видел, слышал и даже разговаривал с ней.
Но самыми интересными темами «заместительских уроков» были темы о театре. Еще до выхода в свет знаменитой книги К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» Леонид Владимирович рассказывал нам о теории Станиславского, последователем которой он был не только в своей актерской практике, но и в педагогике. Его рассказы о постановках и знаменитых актерах как-то органически переходили в занятия по той или иной пьесе, которую он великолепно ставил с учениками в школе. «Маленькие трагедии» Пушкина были его огромным успехом, не только как педагога, не только как великого режиссера (я не побоюсь назвать его именно «великим»), но и как художника-декоратора. Вместе с помогавшими ему учениками он создавал из цветной бумаги необычайно лаконичные декорации к своим постановкам. Помню в «Каменном госте» черные или какие-то очень темные (зеленые? синие?) кипарисы, в виде остроконечных конусов, белую колонну в каком-то интерьере, тоже вырезанную из бумаги, которую мой отец добывал ему из «отходов» на Печатном Дворе, где мы тогда жили.
Помню, как он воспитывал в своих учениках актеров. Это был именно его прием – прием режиссера-воспитателя. Он заставлял своих актеров носить костюм роли в обыденной жизни. На уроках сидел Дон Гуан, загримированный, в испанском костюме и со шпагой, сидела Дона Анна в длинном платье. А на переменах они гуляли и даже бегали, но только так, как должны были бы бегать Дон Гуан или Дона Анна в какой-то сложной воображаемой ситуации (актер должен был играть все время, но если он хотел порезвиться или сделать что-либо необычайное для своей роли, он обязан был придумать мотивировку, создать себе соответствующую «ситуацию»). Носить платье Леонид Владимирович учил прежде всего. Прежде, чем входить в роль. Актер должен был чувствовать себя совершенно свободно в плаще, в длинной юбке, свободно играть шляпой, уметь ее небрежно бросить на кресло, легко выхватить шпагу из ножен. Незаметно Леонид Владимирович следил за таким костюмированным учеником и умел его поправить одним или двумя замечаниями, сделанными всегда тактично и с не обидным юмором.
Леонид Владимирович был поклонником психолога Джемса. Помню, как хорошо объяснил он нам положение Джемса: «Мы не оттого плачем, что нам грустно, но потому грустно, что мы плачем». И это положение он сумел применить в своей педагогической практике. Одному крайне застенчивому мальчику он предложил изменить походку. Сказал ему, чтобы он двигался быстрее, делал шире шаги и непременно размахивал руками, когда ходил. Встречая его на перемене, он часто говорил ему: «Машите руками, машите руками». Кстати, он обращался к ученикам на «вы», как это было принято в старых гимназиях, и редко отступал от этого правила.
Он воспитывал в своих учениках самоуважение и требовал от них уважения к другим, к своим товарищам. Разбирая какое-нибудь происшествие в классе, он никогда не требовал, чтобы ему выдали зачинщика или виновника. Он добивался того, чтобы провинившийся сам назвал себя. Выдать товарища было для него недопустимым, как, впрочем, и для всех хороших педагогов старого времени.
Когда я учился в Лентовке, у Леонида Владимировича был тенор. Впоследствии у него «открылся» баритон, и, по общему мнению, довольно хороший. В те времена почти в каждом классе стоял рояль, из реквизированных у «буржуев». Леонид Владимирович подходил к роялю и показывал нам на нем то особенности музыкального построения фраз у Чайковского, которого он очень любил (в те времена было модно не любить Чайковского, и Леонид Владимирович посмеивался над этой претенциозной модой), то тот или иной мотив былины (помню, как он пел зачин к былине «Соловей Будимирович», рассказывая об использовании этой былины в опере «Садко» Н. А. Римского-Корсакова).
С дурными привычками или с безвкусицей в одежде учениц Леонид Владимирович боролся мягкой шуткой. Когда наши девочки повзрослели и стали особенно тщательно следить за своими прическами и походкой, Леонид Владимирович, не называя никого из них по имени, рассказывал нам, что происходит в этом возрасте, как девочки начинают ходить, покачивая бедрами (и рискуя, по его словам, получить «вывих таза», им, конечно, придуманный) или устраивая себе кудельки, и в чем состоит вкус о ГПС-МПР.Он даже читал нам в классе о Дж. Бреммеле из книги поэта-символиста М. Кузьмина «О дендизме», но не для того, чтобы восславить дендизм, а скорее для того, чтобы раскрыть нам сложность того, что может быть названо красивым поведением, хорошей одеждой, умением ее носить, и еще, я думаю, для того, чтобы вышутить фатовство и пижонство у мальчишек.
Как много лет прошло с тех пор, но как много запомнилось из его наставлений на всю жизнь! Впрочем, то, что он говорил и показывал нам, нельзя назвать наставлениями. Все было сказано ненарочито, при случае, шутливо, мягко, «по-чеховски».
В каждом из учеников он умел открыть интересные стороны – интересные и для самого ученика, и для окружающих. Он рассказывал об ученике в другом классе, и как было интересно узнать потом об этом от других! Он помогал каждому найти себя: в одном он открывал какую-то национальную черту (всегда хорошую), в другом – нравственную черту (доброту или любовь к «маленьким»), в третьем – вкус, в четвертом – остроумие, но не просто выделял чье-то остроумие, а умел охарактеризовать особенность этого остроумия: «холодный остряк», «украинский юмор» (и непременно с пояснением, в чем состоит этот украинский юмор), в пятом открывал философа.
Для самого Леонида Владимировича не было кумиров. Он с увлечением относился к самым разнообразным художникам, писателям, поэтам, композиторам, но его увлечения никогда не переходили в идолопоклонство. Он умел ценить искусство по-европейски. Пожалуй, самым любимым его поэтом был Пушкин, а у Пушкина – «Медный всадник», которого он как-то поставил с учениками. Это было нечто вроде хоровой декламации, которая была поставлена как некое театральное представление, главным в котором был текст, пушкинское слово. На репетициях он заставлял нас думать – как произнести ту или иную строфу, с какими интонациями, паузами. Он показывал нам красоту пушкинского слова. И одновременно неожиданно показывал нам и пушкинские «недоделки» в языке.
Вот пример, запомнившийся мне с тех времен.
«Нева всю ночь
Рвалася к морю после бури,
Не одолев их буйной дури…
И спорить стало ей невмочь…»
Начинался спор, почему буря в другой строке стоит во множественном числе.
Такие же недоделки, если не ошибки, умел он найти в самых известных произведениях живописи, скульптуры, музыки. Он говорил как-то, что у Венеры Милосской ноги чуть короче, чем следует. И мы это начинали видеть. Разочаровывало ли нас это? Нет, наш интерес к искусству только возрастал.
В школе Леонид Владимирович организовал самоуправление, был создан так называемый КОП (Комитет общественных предприятий). Я почему-то очень был против этой «лицемерной», как мне казалось, затеи. Я доказывал в классе, что настоящего самоуправления быть не может, что КОП не годится и как некая игра, что все эти заседания, выборы, выборные должности только напрасная потеря времени, а нам надо готовиться поступать в вуз. Я как-то стал вдруг действовать против Леонида Владимировича. Моя любовь к нему почему-то перешла в крайнее раздражение против него. Весь класс наш отказался принимать участие в КОПе. Мы не ограничились этим, но агитировали и в других классах против КОПа. Леонид Владимирович сказал по этому поводу моему отцу: «Дима хочет показать нам, что он совсем не такой, каким представлялся раньше». Леонид Владимирович был явно сердит на меня. Но в класс он к нам пришел, как всегда, спокойный и чуть-чуть насмешливый и предложил высказать ему все наши мысли по поводу КОПа, внести свои предложения. Он терпеливо выслушал все, что мы думали о КОПе, и нам не возражал. Он только спросил: что же мы предлагаем? К позитивной программе мы были совершенно не готовы. И Леонид Владимирович помог нам. Он обратил внимание на те наши высказывания, где мы признавали, что в школе некому выполнять тяжелые работы, некому пилить дрова, некому таскать рояли (почему-то приходилось часто переносить рояли из одного помещения в другое). И он предложил: пусть класс не входит в КОП, пусть он будет организован так, как хочет, или даже не организован вовсе. Но пусть класс помогает школе в тяжелой работе, на которую нельзя нанять людей со стороны. Это оказалось для нас приемлемым. Конечно, мы были в школе самые старшие и самые сильные; конечно, мы не могли допустить, чтобы девочки из младших классов выполняли за нас трудные работы. Мы будем все это делать, но мы не хотим никакой организации. Леонид Владимирович сказал на это: «Но назвать вас все же как-то надо?» Мы согласились. Он тут же предложил: «Давайте без претензий: «Самостоятельная группа». Или короче: «Самогруппа». Мы согласились и на это. Таким образом незаметно для нас он прекратил весь наш «бунт». И мы вошли в школьное самоуправление как его очень важная и действительно ценная часть.