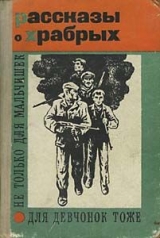
Текст книги "Диверсия не состоялась"
Автор книги: Дмитрий Репухов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
– А красноармейцы-то ушли!
Я сорвался с места, выскочил во двор и побежал в сторону парка. Высоко в небе кружился самолет. Чей он? Ежели немецкий, тогда почему молчат наши зенитки? И вдруг я увидел между белесых облаков черные барашки разрывов. Загудела земля. Где-то совсем рядом по-кошачьи взвыли мины, грохнули орудийные залпы. Загудело, засвистело кругом, да так, что не усидеть на одном месте. Спасаясь от смерти, я побежал вслед за Виталькой к погребу.
…Когда наступила третья ночь, выстрелы как будто стихли. Никому ничего не сказав, – мать спала сидя, а дед Игнат, обхватив руками голову, о чем-то глубоко задумался, – я взял котелок, вылез тихонько из погреба и побежал вниз, к речке.
Село словно вымерло. В кромешной тьме я споткнулся о бревно и выронил котелок. Когда он катился по дороге, гремя и подпрыгивая, мне казалось, будто сотни барабанов вокруг меня бьют тревогу. Должно быть, котелок и в самом деле произвел изрядный шум. На другой стороне села вдруг прострочила пулеметная очередь. Ей откликнулась другая, из-за реки, и я услышал тонкий посвист пуль… Почувствовав непонятную слабость во всем теле, я присел на траву и некоторое время не в состоянии был шевельнуть ни рукой, ни ногой. Но когда стрельба утихла, ко мне вновь вернулись силы. Я осторожно пополз к речке мимо своего дома и березовой рощицы. Спустился по крутому откосу к берегу. Вот она, вода! Настоящая!
Наполнив водой котелок, я поставил его рядом и умылся. И тут вдруг на противоположном берегу речки возник силуэт человека. Я услышал тихий возглас на немецком языке.
Схватив обеими руками котелок, я бросился что было духу назад в село.
Дед Игнат поджидал меня среди могилок.
– Ну, слава богу, жив! Куда тебя леший-то носил? Я протянул котелок.
– Соколик ты наш!
Я постепенно приходил в себя и чувствовал, как запоздалый страх треплет мое тело.
– Дедушка! У реки фашисты.
– Прячься в погребок, да поживей. Уже в блиндаже дед Игнат сказал маме:
– А Митя воды достал. Теперь не пропадем. До рассвета из блиндажа не будем выходить, а там посмотрим по обстановке…
Воды в котелке оставалось меньше половины: повыплескалась дорогой, но напиться хватило всем. Прислонившись к стене, я постарался уснуть.
Рано утром 27 июля немцы захватили село. Колючим брезгливым взглядом гитлеровский офицер долго прицеливался в каждого из нас. Надвинув на лоб фуражку, замедленным, усталым шагом подошел к деду Игнату и спросил:
– Кто есть такой?
– Здешние мы, сельчане, – ответил за всех дед Игнат и друг взмолился:
– Господин офицер, сделайте милость, убейте меня, старика, а их отпустите с миром!
– Мне нужны лопаты. Много лопат, – сухо произнес офицер.
– Найдем лопаты, – оживился дед Игнат и поспешно заковылял к школьному хозяйственному сараю. Вслед потянулись солдаты.
С того раннего утра началась мрачная и тревожная жизнь. Все чаще у крыльца родного дома я видел застывших в безысходной тоске людей:
– Васильевна! Скажи, что делать? Как жить-то будем?
– Всем нелегко, – отвечала мама. – Уж кто как может, уклоняйтесь от любой помощи врагу. Прячьте подальше хлеб…
Я никак не мог понять, отчего люди шли с бедой в наш дом. Почему они просили у мамы совета? Она же и сама, поди, не знала, как дальше жить. По вечерам украдкой плакала.
Однажды, когда мама куда-то ненадолго ушла, в наш двор заявился фриц. Он поискал что-то в огороде. Должно быть, морковку. А я еще на прошлой неделе последние хвостики повыдергивал. Не найдя, чем поживиться в огороде, немец забежал в сарай. Вышел оттуда с пустыми руками и посмотрел на меня так, будто я виноват был в том, что здесь уже побывали другие солдаты и унесли с собой последнего на поселке петуха Гришку. Гришка был до того хитрый и умный, что фрицы почти две недели не могли его поймать. Сонного схватили.
Фриц закурил сигарету, почесал спину об угол сарая и побрел к дому. Окно было прикрыто. Прикладом карабина фриц распахнул створки и полез в комнату. Я обежал вокруг дома и вошел через дверь. Немец остановился у печки и глазами пошарил по стенам. Потом заглянул под кровать и радостно воскликнул:
– О!
Я дернулся к нему, закричал:
– Не дам! Это моя балалаечка!
Фриц так пнул меня сапогом, что я отлетел к стене и ударился головой о подоконник и взвыл от боли.
Пришла мама, молча выслушала мои жалобы и, как раньше, на уроке истории, стала объяснять:
– Мы теперь, сынок, потеряли право называться людьми. Вспомни, какими словами обозвал тебя солдат?
– Свиньей, а еще собакой.
– А почему он тебя так обозвал? Да потому, что фашист видел перед собой не человека, а низшее существо – говорящее животное. И грабил, и бил он тебя не как человека. Понятно?
– Да, – сказал я.
– Сходи-ка ты лучше на речку за водой, – заключила мама.
Когда я, согнувшись под тяжестью почти полного ведра, возвращался обратно, меня остановил донесшийся из густого кустарника громкий шепот:
– Мальчик, подойди сюда!
Я думал – послышалось. Будь это ночью, наверное, испугался бы и убежал.
– Ну, чего ты? Подойди ближе!
Ветви кустов раздвинулись, и я увидел красноармейца в пилотке. Он поманил меня и сам пополз в глубь рощицы.
Их сидело в овражке двенадцать человек. Все молодые, безусые. Правда, очень уж худые, прямо кожа да кости. Красноармейцы отстали от своей части и вот несколько недель шли на восток.
– Мальчик, поесть принеси чего-нибудь!
Я поспешил к дому. Рассказал обо всем матери. Она насыпала в ведро картошки и поставила в печь.
– Надо бы где-то спрятать их, – озабоченно проговорила. – Сбегай за дедом Игнатом… Или постой – сварится картошка, я сама схожу.
Но за дедом Игнатом идти не пришлось. Когда я принес красноармейцам картошку, они спросили, не мог ли бы я проводить их к Днепру. Там, на левом его берегу, возле Сокольей горы, еще идет бой.
Вечером, как только стемнело, я вывел красноармейцев на пустынный проселок, ведущий в сторону деревни Ройновка, которая стояла почти на самом берегу Днепра.
В этот поздний час местные жители уже сидели по домам (задержанным после шести вечера грозил расстрел), полицаев в нашей округе еще не было, а немцы предпочитали ходить и ездить не глухими проселками, а по шоссе. Так что мы без приключений добрались еще затемно до реки и там распростились. Красноармейцы нашли на берегу лодку и поплыли, а я вернулся домой.
* * *
…По распоряжению немецких властей жители окрестных деревень жали на полях рожь, копали картофель. Весь урожай немцы забирали себе, а голодные сельчане бродили по тем участкам, с которых картофель уже был убран, и вновь перекапывали землю, выискивая случайно оставшиеся в ней клубни. Ходил на промысел и я. Когда один, а чаще с Виталькой. Бывало, насобираем за день по полведра – и довольнешеньки. Другой-то еды не было.
И вдруг староста объявил, что впредь до завершения уборки жителям запрещается самовольно собирать картофель. Кто послушался, а кто и нет.
Теперь с наступлением темноты, взяв мешок, я, крадучись, пробирался на картофельное поле. И тут уж я не церемонился: вырывал подряд десяток-другой кустов, собирал клубни и – давай бог ноги! И никто в доме не осуждал меня за это.
Однажды – это было в конце марта – я встретил в поле Толю Парфенова из Волковского детдома. Разрывая палкой мерзлую землю, он тоже искал «тошнотики» – перемороженные клубни. Я его сперва даже не узнал, так он похудел и повзрослел. И одет был в какие-то лохмотья. Последний раз мы виделись еще до войны, на спортивных состязаниях. Толя тогда был в красивой детдомовской форме: черные брюки, белая рубашка, красный галстук…
– Ну, как там у вас? – спросил я, кивнув в ту сторону, где находился детдом.
– Помаленьку, – ответил Толя скучным голосом. – Пока что живы.
Тогда я стал спрашивать про других детдомовских ребят, которых знал. Оказывается, разбежались кто куда, а детдом немцы переименовали в приют для сирот. Прежние воспитатели и учителя уволены, вместо них теперь расхаживали с плетками надзиратели. Новенькие, которых фрицы поналовили на чердаках, дорогах, в лесу, с утра до вечера копали картошку для отправки в Германию, а в классных комнатах, где до войны проводились учебные занятия, детей заставляли плести корзины и лапти, вязать веники.
Толя сказал, что к ним в приют прислали попа и этот поп обучает их закону божьему.
– И вы молитесь богу? – спросил я у Тольки.
– Попробуй не помолись – живо розог получишь. А то и в карцер посадят. Кто там посидел – больше не захочет.
– А что это – карцер? – спросил я. Толька бросил на меня презрительный взгляд:
– Не знаешь… Яма такая, вся мокрая, а в ней ящик длинный, как гроб. Жратву через день только приносят. А жратва-то: похлебка из брюквы да кусочек жмыху…
Глядя на съежившуюся от холода, одиноко бредущую Толину фигурку, я подумал, что мне еще хорошо живется – меня не заставляют молиться богу, не секут розгами и не сажают в карцер. Да и насчет еды полегче.
Дело в том, что мы с Виталькой Шапуро со временем научились таскать продукты у немцев.
Целыми днями мы шныряли по селу, высматривая, где что плохо лежит. Если повар на минуту отлучится из кухни – тут уж мы не зевали. Один оставался «на стреме», другой лез в окно, хватал, что попадало под руку. Когда удавалось поживиться консервами, а когда и хлебом. Однажды мы углядели, как кладовщик, разрубив тушу надвое, взвалил одну половину на плечи и понес на кухню, а другую половину туши оставил в сарае. Недолго думая, мы погрузили оставленное без присмотра мясо на санки и увезли домой. Была вьюга, и следы полозьев тут же замело снегом.
Выходило-то как! У вора свое же добро выкрадывали.
А в другой раз (это было в конце зимы сорок второго года) мы стащили из каптерки – она тоже находилась в школьном здании – ящик с мылом. Мыло было наше – красноармейское, разрезанное на квадратные кусочки. Домой сразу не понесли, спрятали в кустах. Не прошло и несколько часов, как в дом ввалилась орава разъяренных немцев. Сперва они зашли на половину Шапуро. Витальки, на его счастье, дома не было. Отдуваться за все пришлось мне. Двое немцев схватили меня, разложили на столе, задрали на голову рубаху, стянули штаны и один приставил к моему животу острие ножа:
– Мило цап-царап?
– Не брал я никакого мыла! – кричал я и извивался, как уж. – Пустите, не брал я мыла!
Тут фашист надавил острием. Резкая боль пронзила мое тело. Я заорал благим матом.
– Во ист мило? Немецкий солдат банья идет.
Боль становилась невыносимой, я чувствовал, как по животу на стол каплями стекает кровь, но продолжал отпираться. И хорошо, что не признался, – наверняка они бы меня убили.
Фашисты гоготали, кричали:
– Где мило?!
Кончилось тем, что подхватили меня за руки и за ноги и выбросили через окошко в огород. А спустя неделю я перенес в сарай мыло, и мы им пользовались почти целый год.
Перед новым, сорок третьим годом дед Игнат подарил мне гитару. Мало-помалу я стал учиться играть по самоучителю и уже к началу весны знал несколько песен. Иногда вечерами мама, Светланка и Саша хором пели под аккомпанемент русские народные песни и наши советские: «Мы – кузнецы», «Катюша», «Светит месяц»… В один из таких вечеров к нам кто-то постучался в окно. Мама торопливо чиркнула спичкой и зажгла фитилек коптилки, сделанной из патрона крупнокалиберного пулемета. Всматриваясь в серую пелену вечерних сумерек, открыла форточку и тихо спросила:
– Кто там?
Колючий ветер и хлопья снега с шумом ворвались в комнату.
– Ветер это, – сказала мама.
Не успела она отойти от окна, как в коридоре послышались чьи-то шаги, потом отворилась дверь, и в комнату вошел незнакомый парень лет двадцати пяти. Он был высокого роста, в шапке-ушанке из собачьего меха, лихо надвинутой на левое ухо, и телогрейке.
– Здравствуйте, Мария Васильевна, – сказал парень.
– Здравствуйте, – ответила мама, пристально всматриваясь в незнакомца.
– Это я, Сережа Уваров. Не узнаете?
– Не узнала я тебя, Сергей Георгиевич. Вон какой вымахал!
Уваров усмехнулся и, прищурив серые глаза, простуженно сказал;
– А пришел я к вам вот по какому делу. До войны, знаю, была у вас большая домашняя библиотека. Сохранилась она?
– Нет, Сережа. Немцы еще прошлой зимой сожгли. Удалось спасти самую малость.
– Из политической литературы что-нибудь осталось? Мама отрицательно покачала головой.
– Постой, постой! Кажется, четвертый том Ленина. Лежит в дровянике, в ящике из-под снарядов…
– Так это же настоящий клад! – обрадовался Уваров. Когда мама вышла из комнаты, Сергей Георгиевич спросил у меня:
– Твоя гитара?
Я вспомнил про балалайку и насторожился.
– Моя, а что?
– Сыграй.
– Ладно, – согласился я и тихонько запел под аккомпанемент гитары:
Мы – кузнецы, и дух наш молод…
Саша и Светланка тоже запели.
– Молодцы! – похвалил нас Уваров. Подумал немного, вздохнул, потом достал из-за пазухи краюху хлеба: – Держите.
Я разинул рот от удивления, когда увидел хлеб – и не какой-нибудь суррогат! – настоящий.
Уваров ушел. Мне тогда и в голову не могло прийти, что через каких-нибудь несколько месяцев я еще раз встречусь с ним, но уже при других обстоятельствах.
* * *
На другой день явился к нам дед Игнат со скрипкой.
– Давай попробуем сыграть вместе, – предложил он мне. Мама слушала, слушала, а потом сказала:
– Ты бы в Мосолово сходил. Там ребята играют по вечерам. Вот бы и пристроился к ним. Все не так тоскливо будет.
Я отправился в эту деревню. Еще издали увидел лохматые крыши деревенских избушек. Из почерневших, давно не кра-шенных труб кое-где курился дымок. Одним махом я пересек улицу и помчался к одиноко стоящему домику у оврага. Прежде чем зайти в избу, заглянул в окно. Павлик сидел у порога и топором рубил на куски немецкий телефонный провод. Я незаметно проскользнул в сени и тихонечко открыл дверь.
– Вот хорошо, что ты пришел! – обрадовался Павлик и с ходу сунул в мою руку кусок телефонного провода.
– Держи. Сейчас дело пойдет веселей. Я вытаращил глаза:
– Ну, ты и даешь! К чему все это?
– Понимаешь, на мандолине лопнула струна. А из провода можно вытащить несколько пар металлических стержней. Все лучше, чем играть на оборванной струне.
– Ага, понимаю, – сказал я и потянул к себе свободный конец провода. Из-под черной прорезиненной оболочки показались стальные блестящие ниточки.
Павлик снял со стены мандолину, вместо старой, оборванной струны поставил новую, настроил и бойко ударил по струнам:
Мы – кузнецы, и дух наш молод…
Я спросил:
– У вас, и правда, струнный оркестр?
– Какой там оркестр! Собираемся от нечего делать.
– А что, если по-настоящему нам сыграться? – предложил я.
– Попробовать надо, может, получится.
– Получится! – подбодрил я Павку. Завтра же в полдень я приду с гитарой и песенник принесу, а ты ребят предупреди. Сыграем на посиделках.
– Сыграть-то можно, только с оглядкой. Ежели староста, Василевич, узнает, штаны снимет и плеткой выпорет. Ты, Дима, смотри остерегайся. Стороной обходи Старостин двор.
На следующий день в назначенное время я пришел в деревню.
Для начала мы решили сыграть «Барыню». Кружком расселись кто на табуреты, кто на лавке. Под аккомпанемент гитары звонко запела мандолина. В руках у Вити загремели ложки. Соловьем начал свистеть Ваня. И все-таки нам здорово пришлось попотеть, пока мы научились играть вместе: «Светит месяц», вальс «Амурские волны», «Мы – кузнецы». И, ясное дело, без самоучителя ничего у нас не получилось бы.
Теперь каждый вечер я приходил в соседнюю деревню то на репетицию, то на посиделки. Но однажды у колхозной кузницы меня остановил злобный окрик:
– Стой!
Я хотел бежать, но вовремя одумался: пуля все равно догонит. Ко мне приблизился староста, исподлобья посмотрел:
– Подойди сюда! Кто разрешил шляться по деревне? Ежели еще раз попадешься на глаза, выдеру, а потом отправлю на работу в Германию.
Василевич с размаху хлестнул нагайкой по моей спине.
– Пошел вон! Чтоб духу твоего не было!
Но я продолжал ходить на посиделки. Только теперь стороной обходил деревенские улицы. Через овраг, прячась в кустарнике, пробирался к Павлику в дом. А когда начинало смеркаться, Ваня отдавал короткий приказ:
– Пора.
В какой-нибудь избе собирался народ на посиделки. Кто лапти плел, а кто вязал. Мы играли песни. Больше старинные русские. Но бывало, что и советскую какую-либо исполним.
Под тихое жужжание веретен люди слушали нашу музыку, вели неторопливый разговор. Я уже понимал – не из любопытства они приходят слушать музыку, а от горя, тоски.
27 июня 1943 года я запомнил на всю жизнь. Поздним вечером в избу ввалился староста. Пьяным голосом прохрипел:
– Пойте – сегодня разрешаю.
Иван дробно застучал ложками. Я тоже ударил по струнам. Староста вышел в круг и, топнув кованым немецким сапогом, пустился в пляс.
В разгаре танца на гитаре лопнула струна. Василевич вытаращил на меня глаза.
– А-а-а! И ты здесь? Ладно, драть не буду. Завтра получишь свое, что заработал…
Глава третья
Я проснулся от протяжного стона, похожего на плач. Мне показалось, стонет кто-то рядом. Сашка? Поднял голову. Вроде бы не он. Скорчился от боли, стиснул зубы – молчит. И Светланка спит. Я вскочил на ноги, прошлепал к окну. Голоса доносились со стороны сельского кладбища. Я глянул на спящую мать и выскользнул на улицу. Перемахнув через овражек, увидел толпу людей на дороге. Притаился у кювета, за кустом, осторожно раздвинул ветки и стал наблюдать. Это были жители окрестных деревень. Но куда и зачем их гонят? Неужели будут расстреливать?
Держась придорожных кустов, я следовал за толпой, высматривая знакомых. Здесь были все больше женщины, девчата и парни из деревень Мосолова Гора, Селифоново, Козине. Позади колонны, на некотором расстоянии от нее, тоже с воплями и душераздирающими криками шла группа пожилых женщин и стариков – родственников тех, кого гнали полицаи. Полицейский Арнольд из деревни Мосолова Гора метался вдоль нестройной колонны на рыжем приземистом жеребце. Гибкая ременная плеть свистела в воздухе и хлестала тех, кто случайно выбивался из общего строя. Я и не заметил, как кончились кусты. Слишком поздно увидел это. И Арнольд ухватил меня за шиворот:
– Вот здорово! Попался, щенок!
Староста этой же деревни Василевич удовлетворенно хмыкнул:
– Набегался с гитарой, бездельник? Теперь побегаешь с тачкой на каменоломнях.
– Отпустите! – закричал я, но тут же понял: не вырваться мне. Обернулся, увидел свой дом, и сердце больно сжалось в груди.
– Что я вам сделал? Староста сверкнул глазами.
– Дай-ка ему, Арнольд, напоследок меж глаз! Полицейский усмехнулся:
– Приказано не трогать. Инспектор ему сам врежет. Останется живой – век будет нас помнить.
Перед управой полицейский спрыгнул с жеребца. Одной рукой придерживая меня за ворот, другой поправил мундир и, поплевав на ладонь, вытер голенища сапог. У здания волости уже столпился народ. Разноголосо плакали женщины. Опустив голову, я прошел вдоль стонущей толпы. Василевич подтолкнул меня к крыльцу. Когда за спиной захлопнулась дверь, я увидел перед собой гитлеровского офицера в черном мундире и двух солдат.
– Фамилия, имя, национальность, возраст, адрес?… Офицер поднялся из-за стола. Черный мундир заслонил солдат.
– Молчать нехорошо. Молчать – значит, плохо думать о нас.
Пока я соображал, к чему он все это, – в разговор вмешался староста.
– Ваше превосходительство! Репухов он, Дмитрий. Русский. Тринадцати лет. Сын учительницы из села Богородицкое, Смоленского уезда. Вы его вот так! – Василевич сжал кулаки и сделал шаг в мою сторону.
– Нейн, нейн! – офицер помахал пальцем перед носом старосты.
Такого оборота староста не ожидал. Он отшатнулся к двери и покорно склонил голову. Гитлеровец приблизился ко мне и положил руку на мое плечо, что-то приказал солдату, стоявшему у окна. Тот вывел меня во двор, и я тотчас увидел среди других пожилых женщин и стариков мать. Она рванулась ко мне:
– Сынок!
Тяжелая рука солдата вцепилась в мое плечо и толкнула к машине. Непонятная слабость охватила меня. Я стал оседать на дорогу. Немец что-то выкрикнул, и подбежал еще один гитлеровец. Они подхватили меня и, как мешок, забросили в кузов автомашины.
По дороге я пришел в себя. Огляделся. Машина мчалась к Смоленской МТС. Вот она въехала в ворота и во дворе остановилась.
– Герман! – крикнул шофер из кабины.
К нам подошел рыжий огромного роста ефрейтор. Солдат пальцем показал в мою сторону и что-то сказал по-немецки. Герман осмотрел меня с ног до головы, взял, как щенка, за шиворот и молча повел к деревянному сараю. Перешагнув через порог, я застыл, как будто прирос к земле. Серый полусумрак и тишина…
Внезапно я услышал смех и увидел сидящих в дальнем углу мальчишек. Они были увлечены каким-то делом. В их движениях, разговоре было безмятежное спокойствие. Казалось, они сами забрались сюда, чтоб укрыться от посторонних. Мальчишки играли в карты.
– Опять ты, Валька, дурак! – весело выкрикнул черномазый паренек лет тринадцати с вихром густых темных волос на макушке. Другой, белобрысый, маленький и очень худой, похожий на высохшую тростинку, покорно подставил лоб.
Зашуршала солома, и передо мной выросла еще одна мальчишечья фигурка:
– Отваливай, пока цел!
– Ты что, сдурел? – я исподлобья смотрел на паренька и глазам не верил: Толя Парфенов!
– Димка! Откуда ты взялся? Пацаны! Это Репухов! Его матушка еще с войны у нас в детском доме с отстающими занималась.
Черномазый поднялся на ноги, шурша соломой, подошел ко мне и протянул руку:
– Володька, Пучков. Тоже поедешь на экскурсию? – – На какую экскурсию? – озадаченно замигал я.
– Будто и не знаешь? В Германию!
– Врешь! – не поверил я.
– Чтоб провалиться на этом месте! – Володька дружелюбно хлопнул меня по плечу. – Дурень ты бестолковый! Говорят тебе: на экскурсию едем! И точка. Полушепотом добавил: – Черный Ворон сказал.
– Что, кто? – переспросил я.
– Черный Ворон, инспектор нашего приюта. Слово у него – закон. Ежели пообещает задрать розгами – и задерет до смерти. Знал бы кто, чего мы только не видели в этом приюте! А теперь вот повезут в эту самую… Германию.
– Тебя же не на смерть везут, а на экскурсию. По дороге, стало быть, а там лес рядом… Соображать надо, – вмешался в разговор Толя Парфенов и предложил: – Сыграем-ка лучше в подкидного на щелчки.
Я присел на корточки, стал наблюдать за игрой. Со двора послышалось тихое ржание лошади и скрип колес. Звякнул запор. Распахнулись ворота, и в сарай, озираясь, плотной группкой ввалились новые ребята. От удивления я даже присвистнул, когда увидел весь наш «оркестр»: Ваню Селиверстова, Павку Романовича, Толю Сидорова, Витю Королькова, а еще Петю Фролова и Колю Минченкова из соседней деревни Корюзино. Я бросился к ним навстречу. Ваня, глядя на меня, не удержался от восклицания:
– Вот гады!
– Что же ты не сказал это фрицам? – с ехидной улыбкой спросил белобрысый Валька.
– Заткнись! – прошипел Ваня.
– Ну, чего ты взбесился? – удивленно произнес Володя. Селиверстов запальчиво замахнулся на него:
– Дуешься здесь в карты, и горя тебе мало! Ишачить, что ли, на фрицев вздумал?
Володя искоса посмотрел на него:
– Ты, может, первый пойдешь. Немцы любят дураков. Они и рубаху тебе дадут полосатую. Знаешь для чего? Чтоб далеко не убежал.
У Вани задрожали колени.
Согнувшись, как бычок, он подскочил к Володе и треснул его по затылку.
– Лапоть ты деревенский! – вспылил Володя и, сжав кулаки, бросился на Ваню. Я кинулся к ним. Толя Парфенов схватил Володю за рубаху и потащил в сторону.
– Псих ненормальный, – процедил сквозь зубы Володя и снова сел играть в карты. Деревенские, нахохлившись, сгрудились у ворот и издали наблюдали за игрой.
К вечеру принесли ужин.
– Живем, пацаны! – закричал белобрысый Валька и вытащил из-за пазухи огрызок деревянной ложки.
– Становись в очередь! – пробасил рыжий детина Герман, тот самый, что привел меня сюда.
Каждый получил котелок наваристой каши, а впридачу еще полбулки хлеба. Я не верил глазам: неужели все это мне одному?
– Отваливай! – цыкнул на меня повар. Кто-то из мальчишек хихикнул.
– Беги, а то отберет кашу.
В сарае царило оживление. Изо всех углов сыпались возгласы:
– Здорово подфартило!
– Как на курорте! Спи да ешь.
– К чему бы это?
Володя подошел к Ивану:
– Про ссору забудь. Сам понимаешь, какая у нас жизнь в приюте.
– Слыхал. Хуже каторги.
– Это точно.
– Да чего уж там, – по-деревенски добродушно проворчал Ваня и неторопливо стал рассказывать, что случилось в деревне после полуночи.
Оказывается, Ваню захватили во время облавы. Мать запрятала его под печь, да староста все равно нашел, сказал: «В МТС до осени поработаешь на ремонте дорог, а будешь примерным, начальство, может, отпустит тебя домой и пораньше». Взяли они Ваню и повезли по деревне. Потом на подводу посадили Тольку Сидорова, Пашку Романовича и Витьку Королькова…
* * *
Когда я проснулся, было уже утро. Во дворе накрапывал мелкий дождик. Часовой, прячась от непогоды, неподвижно стоял, прислонившись к старой сосне. Внезапно он встрепенулся, суетливо поправил френч и взял карабин наизготовку. Я отпрянул от щели. Загремело железо, ворота открылись, и в конюшню вошли двое – гитлеровец в черном мундире с железным крестом на груди и еще кто-то. Круглое лицо гитлеровца с прямым тонким носом и вытянутым вперед подбородком сияло улыбкой. Можно было подумать, что он всю свою жизнь только и мечтал о встрече с нами. А когда из-за спины немецкого офицера вынырнул человек в сером, я удивился еще больше. Передо мной стоял самый настоящий командир Красной Армии. Но странное дело – на армейской фуражке у него была прикреплена кокарда, а на плечах сверкали золотые погоны, на которых серебристыми блестками мерцали маленькие пятиконечные звездочки.
– Заждались? – вкрадчиво спросили нас вошедшие.
– Нисколечко, – за всех ответил Валька.
– Так вот, – начал человек в сером. – Заботясь о будущем России, – а вы ее будущее, – германская армия добровольно, без каких-либо условий берет вас под свою защиту. Мы создадим вам новую жизнь. Она и определит в дальнейшем вашу судьбу. Для начала мы отправимся на экскурсию по новой Великой Германии. – Он стрельнул глазами в сторону гитлеровца и слегка поклонился: – Обер-лейтенант господин Шварц будет сопровождать вас на всем пути увлекательного путешествия.
– О, да! – кивнул Шварц. – Лично я и Алексей Николаевич Федотов сделаем все, чтоб вы забыли свое прошлое и по-настоящему оценили нашу заботу о вас.
– Дяденька, а вы кто будете? – поинтересовался Валя у человека в форме командира.
– Я – ваш воспитатель.
– Как в приюте? Воспитатель – надзиратель, да?
– Э, нет! – Федотов легонько погладил Вальку по щеке. – Воспитатель, брат, это друг детей. Когда маленький человек, вот такой, как ты, еще не умеет управлять собой, мы, воспитатели, обязаны помочь ему найти правильную дорогу в интересах новой Германии и России. Перед тем как отправиться в путь, вам необходимо пройти карантин. Это не значит, что вы будете сидеть взаперти. У вас будет все: хорошая пища, игры и спортивные соревнования.
– Форма-то у вас какая чудная, – громко сказал Ваня Селиверстов.
– Советская. Там сейчас нет командиров. Все офицеры, как при белой армии. Вот я и надел новую форму большевиков. Решил показать ее вам. Между прочим, двадцать пять лет назад большевики рубили всех, кто носил такую форму. Теперь сами носят. Продались американским и английским колонизаторам за свиную тушонку.
«Врешь, гад!» – чуть было не сорвалось у меня с языка, но тут же я опомнился и до боли сжал зубы.
– Дяденька, а вы за кого? – спросил Толя и покосился на гитлеровского офицера.
– Я уже говорил, – спокойно ответил Федотов. – За новую Германию, за вас и за Русь святую.
Толя больше всего ненавидел закон божий, потому он спросил:
– За Русь святую – значит, быть заодно с попом?
– Нет, – усмехнулся воспитатель. – Поп вам не нужен. Вам потребуется другое воспитание.
– Дорогу чинить будем, да? – спросил Витя Корольков.
– Дорога нас пока подождет, – загадочно произнес Федотов.
Снова заскрипели ворота.
– Вот и завтрак принесли! Да еще какой! Яблочное повидло, кофе с молоком, бутерброды с маслом. Ну мы не будем мешать, заправляйтесь и без задержки – в баню, – сказал Федотов и вслед за Шварцем направился к выходу.
Мы с жадностью набросились на еду. Я, правда, успел подумать: почему вдруг фашисты вспомнили о нас, о мальчишках? Разве они раньше не замечали, как с голодухи умирали пацаны?
Баня оказалась вросшей в землю халупкой: голые, прокопченные стены, парилка в два аршина, печь, сложенная из камней, да еще предбанник из тонких жердей… Я стащил с себя одежду и пошлепал в парилку. Плеснув ковш воды на горку раскаленных камней, сел на деревянную скамейку и задумался: «Смогу ли я выбраться отсюда до того, как отправят в Германию?…»
– Эй, Димка! Поддай-ка еще парку! – крикнул с верхней полки Ваня Селиверстов. – Может, в последний разок моемся.
– Не каркай, ворона, – одернул его Володя.
Я долго и старательно полоскался в горячей воде, а когда вернулся в предбанник, солдат-каптенармус подал мне изрядно поношенную солдатскую амуницию.
Я запальчиво спросил:
– А где мои тряпки?
– Сгорели, – ответил со смешком солдат. – Одевай что дают!
Делать было нечего. Я отошел в уголок и напялил на себя заплатанные галифе и мундир мышиного цвета. Он был настолько велик, что, казалось, вот-вот соскользнет с моих плеч. Потом вышел на улицу. По двору бродили не мальчишки, а живые огородные чучела. Так изменила всех гитлеровская солдатская форма.
Когда построились, Федотов весело произнес:
– Форма в самый раз. Хоть сейчас на парад – гвардейцы, да и только.
«Вот трепло», – с удивлением подумал я.
– Молодцы! – продолжал восхищаться воспитатель. – Коль вы гвардейцы, теперь необходимо вам настоящее походное жилье. Что, если мы будем жить в палатках, как Александр… – Федотов выжидательно посмотрел на нас.
– Невский! – выкрикнул из строя Толя Парфенов. Воспитатель поморщился.
– Дурачок! Вы будете жить как воины великого завоевателя – полководца Александра Македонского!
Вскоре на лужайке, огороженной густой порослью акаций, вырос палаточный городок. Фрицы наверняка задабривали нас.
– Дудки! Нас не купят. Вот подвернется подходящий случай, и улизнем! – хорохорились приютские ребята.
– Дима, – сказал мне Ваня Селиверстов, – а что, если в самом деле мы попали в немецкую разведку?
– Нам дела нет до ихней разведки, а бежать надо, – ответил я.
– Попробуй, – предостерег меня Ваня.
– А что, и попробую. Мне терять нечего.
– Дурак, ну, уйдешь ты от фрицев, в лесу или под землей спрячешься. А немцы тем временем всю твою родню к ногтю…
Как утопающий хватается за соломинку, так и я решил – будь что будет! – воспользоваться единственной возможностью, повидаться с мамой: если немцы такие добрые, то неужели не отпустят меня домой хотя бы на часок?




