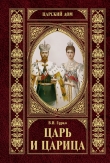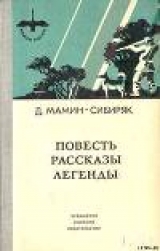
Текст книги "Избранные произведения для детей"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 28 страниц)
III
Через две недели Черное Ушко совсем выздоровел. Молодые косточки скоро срастаются. Он уже никого не боялся и весело прыгал по всей избе. Особенно ему хотелось вырваться на волю, и он сторожил каждый раз, когда открывалась дверь.
– Нет, брат, мы тебя не пустим, – говорил ему Богач. – Чего тебе на холоде мерзнуть да голодать?.. Живи с нами, а весной – с богом, ступай в поле. Только нам с Еремкой не попадайся…
Еремка, очевидно, думал то же самое. Он ложился у самой двери, и когда Черное Ушко хотел перепрыгнуть через него, скалил свои белые зубы и рычал. Впрочем, заяц его совсем не боялся и даже заигрывал с ним. Богач смеялся до слез над ними. Еремка растянется на полу во весь рост, закроет глаза, будто спит, а Черное Ушко начинает прыгать через него. Увлекшись этой игрой, заяц иногда стукался головой о лавку и начинал по-заячьи плакать, как плачут на охоте смертельно раненные зайцы.
– И точно младенец, – удивлялся Богач. – По-ребячьи и плачет… Эй ты, Черное Ухо, ежели тебе своей головы не жаль, так пожалей хоть лавку. Она не виновата…
Эти увещания плохо действовали, и заяц не унимался. Еремка тоже увлекался игрой и начинал гоняться по избе за зайцем, раскрыв пасть и высунув язык. Но заяц ловко увертывался от него.
– Что, брат Еремка, не можешь его догнать? – подсмеивался над собакой старик. – Где тебе, старому… Только лапы понапрасну отобьешь.
Деревенские ребята частенько прибегали в избушку Богача, чтобы поиграть с зайчиком, и приносили ему что-нибудь из съестного. Кто тащит репку, кто морковку, кто свеклу или картошку. Черное Ушко принимал эти дары с благодарностью и тут же их съедал с жадностью. Ухватит передними лапками морковку, припадет к ней головой и быстро-быстро обгрызет, точно обточит. Он отличался большой прожорливостью, так что даже Богач удивлялся.
– И в которое место он ест такую прорву… Не велика скотинка, а все бы ел, сколько ему ни дай.
Чаще других бывала Ксюша, которую деревенские ребята прозвали «заячьей крестной». Черное Ушко отлично ее знал, сам бежал к ней и любил спать у нее на коленях. Но он же и отплатил ей самой черной неблагодарностью. Раз, когда Ксюша уходила домой, Черное Ушко с быстротой молнии шмыгнул в дверях около ее ног – и был таков. Девочка горько расплакалась. Еремка сообразил, в чем дело, и бросился в погоню.
– Как же, ищи ветра в поле… – посмеялся над ним Богач. – Он похитрее тебя будет… А ты, Ксюшка, не реви. Пусть его побегает, а потом сам вернется. Куда ему деться?
– Наши деревенские собаки его разорвут, дедушка…
– Так он и побежал тебе в деревню… Он прямо махнул за реку, к своим. Так и так, мол, жив и здоров, имею собственную квартиру и содержание. Побегает, поиграет и назад придет, когда есть захочет. А Еремка-то глупый, бросился его ловить… Ах, глупый пес!..
«Заячья крестная» все-таки ушла домой со слезами, да и сам старый Богач мало верил тому, что говорил. И собаки по дороге могут разорвать, и у себя дома лучше покажется. А тут еще Еремка вернулся домой, усталый, виноватый, с опущенным хвостом. Старому Богачу сделалось даже жутко, когда наступил вечер. А вдруг Черное Ушко не придет… Еремка лег у самой двери и прислушивался к каждому шороху. Он тоже ждал. Обыкновенно Богач разговаривал с собакой, а тут молчал. Они понимали друг друга без слов.
Наступил вечер. Богач засиделся за работой дольше обыкновенного. Когда он уже хотел ложиться спать на свою печь, Еремка радостно взвизгнул и бросился к двери.
– Ах, косой, вернулся из гостей домой…
Это был действительно он, Черное Ушко. С порога он прямо бросился к своей чашке и принялся пить молочко, потом съел кочерыжку и две морковки.
– Что, брат, в гостях-то плохо тебя угощали? – говорил Богач, улыбаясь. – Ах ты, бесстыдник, бесстыдник. И крестную свою до слез довел.
Еремка все время стоял около зайца и ласково помахивал хвостом. Когда Черное Ушко съел все, что было в чашке, Еремка облизал ему морду и начал искать блох.
– Ах вы, озорники! – смеялся Богач, укладываясь на печи. – Видно, правду пословица говорит: вместе тесно, а врозь скучно…
Ксюша прибежала на другое утро чем свет и долго целовала Черное Ушко.
– Ах ты, бегун скверный… – журила она его. – Вперед не бегай, а то собаки разорвут. Слышишь, глупый? Дедушка, а ведь он все понимает…
– Еще бы не понимать, – согласился Богач, – небойсь вот как знает, где его кормят…
После этого случая за Черным Ушком уже не следили. Пусть его убегает поиграть и побегать по снежку. На то он и заяц, чтобы бегать. Месяца через два Черное Ушко совсем изменился: и вырос, и потолстел, и шерсть на нем начала лосниться. Он вообще доставлял много удовольствия своими шалостями и веселым характером, и Богачу казалось, что и зима нынче как-то скорее прошла.
Одно только было нехорошо. Охота на зайцев давала Богачу порядочный заработок. За каждого зайца он получал по четвертаку, а это большие деньги для бедного человека. В зиму Богач убивал штук сто. А теперь выходило так, как будто и совестно губить глупых зайцев, совестно перед Черным Ушком. Вечером Богач и Еремка уходили на охоту крадучись и никогда не вносили в избу убитых зайцев, как прежде, а прятали их в сенях. Даже Еремка это понимал, и когда в награду за охоту получал заячьи внутренности, то уносил их куда-нибудь подальше от сторожки и съедал потихоньку.
– Что, брат, совестно? – шутил над ним старик. – Оно, конечно, заяц – тварь вредная, озорная, а все-таки оно того… Может, и в ём своя заячья душонка есть, так, плохонькая совсем душонка.
Зима прошла как-то особенно быстро. Наступил март. По утрам крыши обрастали блестящей бахромой из ледяных сосулек. Показались первые проталинки. Почки на деревьях начали бухнуть и наливаться. Прилетели первые грачи. Все кругом обновлялось и готовилось к наступающему лету, как к празднику. Один Черное Ушко был невесел. Он начал пропадать из дому все чаще и чаще, похудел, перестал играть, а вернется домой, наестся и целый день спит в своем гнезде под лавкой.
– Это он линяет, ну, вот ему и скучно, – объяснял Богач. – По весне-то зайцев не бьют по этому самому… Мясо у него тощее, шкурка как молью подбита. Одним словом, как есть ничего не стоит…
Действительно, Черное Ушко начал менять свою зимнюю белую шубку на летнюю, серую. Спинка сделалась уже серой, уши, лапки тоже, и только брюшко оставалось белым. Он любил выходить на солнышко и подолгу грелся на завалинке.
Раз прибежала Ксюша проведать своего крестника, но его не было дома уже целых три дня.
– Теперь ему и в лесу хорошо, вот и ушел, пострел, – объяснял Богач пригорюнившейся девочке. – Теперь зайцы почку едят, ну, а на проталинках и зеленую травку ущипнет. Вот ему и любопытно…
– А я ему молочка принесла, дедушка…
– Ну, молочко мы и без него съедим…
Еремка вертелся около Ксюши и лаял на опустевшее под лавкой заячье гнездо.
– Это он тебе жалуется, – объяснял Богач. – Хотя и пес, а все-таки обидно… Всех нас обидел, пострел.
– Он недобрый, дедушка… – говорила Ксюша со слезами на глазах.
– Зачем недобрый? Просто заяц – и больше ничего. Лето погуляет, пока еда в лесу есть, а к зиме, когда нечего будет есть, и вернется сам… Вот увидишь. Одним словом, заяц…
Черное Ушко пришел еще раз, но к самой сторожке не подошел, а сел пеньком и смотрит издали. Еремка подбежал к нему, лизнул в морду, повизжал, точно приглашая в гости, но Черное Ушко не пошел. Богач поманил его; но он оставался на своем месте и не двигался.
– Ах, пострел! – ворчал старик. – Ишь как сразу зазнался, косой…
IV
Прошла весна. Наступило лето. Черное Ушко не показывался. Богач даже рассердился на него.
– Ведь мог бы как-нибудь забежать на минутку… Кажется, не много дела и время найдется.
Ксюша тоже сердилась. Ей было обидно, что она целую зиму так любила такого нехорошего зайца… Еремка молчал, но тоже был недоволен поведением недавнего приятеля.
Прошло и лето. Наступила осень. Начались заморозки. Перепадал первый мягкий, как пух, снежок. Черное Ушко не показывался.
– Придет, косой… – утешал Богач Еремку. – Вот погоди: как занесет все снегом, нечего будет есть, ну, и придет. Верно тебе говорю…
Но выпал и первый снег, а Черное Ушко не показывался. Богачу сделалось даже скучно. Что же это в самом деле: уж нынче и зайцу нельзя поверить, не то что людям…
Однажды утром Богач что-то мастерил около своей избушки, как вдруг послышался далекий шум, а потом выстрелы. Еремка насторожился и жалобно взвизгнул.
– Батюшки, да ведь это охотники поехали стрелять зайцев! – проговорил Богач, прислушиваясь к выстрелам, доносившимся с того берега реки. – Так и есть… Ишь как запаливают… Ох, убьют они Черное Ушко! Непременно убьют…
Старик, как был, без шапки побежал к реке. Еремка летел впереди.
– Ох, убьют! – повторял старик, задыхаясь на ходу. – Опять стреляют…
С горы было все видно. Около лесной заросли, где водились зайцы, стояли на известном расстоянии охотники, а из лесу на них гнали дичь загонщики. Вот затрещали деревянные трещотки, поднялся страшный гам и крик, и показались из заросли перепуганные, оторопелые зайцы. Захлопали ружейные выстрелы, и Богач закричал не своим голосом:
– Батюшки, погодите!! Убьете моего зайца… Ой, батюшки!!
До охотников было далеко, и они ничего не могли слышать, но Богач продолжал кричать и махал руками. Когда он подбежал, загон уже кончился. Было убито около десятка зайцев.
– Батюшки, что вы делаете? – кричал Богач, подбегая к охотникам.
– Как, что? Видишь, зайцев стреляем.
– Да ведь в лесу-то мой собственный заяц живет…
– Какой твой?
– Да так… Мой заяц – и больше ничего. Левая передняя лапка перешиблена… Черное Ушко…
Охотники засмеялись над сумасшедшим стариком, который умолял их не стрелять со слезами на глазах.
– Да нам твоего зайца совсем не надо, – пошутил кто-то. – Мы стреляем только своих…
– Ах, барин, барин, нехорошо… Даже вот как нехорошо…
Богач осмотрел всех убитых зайцев, но среди них Черного Ушка не было. Все были с целыми лапками.
Охотники посмеялись над стариком и пошли дальше по лесной опушке, чтобы начать следующий загон. Посмеялись над Богачом и загонщики, ребята-подростки, набранные из деревни, посмеялся и егерь Терентий, тоже знакомый мужик.
– Помутился немножко разумом наш Богач, – пошутил еще Терентий. – Этак каждый начнет разыскивать по лесу своего зайца…
Для Богача наступало время охоты на зайцев, но он все откладывал. А вдруг в ловушку попадет Черное Ушко? Пробовал он выходить по вечерам на гумна, где кормились зайцы, и ему казалось, что каждый пробегавший мимо заяц – Черное Ушко.
– Да ведь Еремка-то по запаху узнает его, на то он пес… – решил он. – Надо попробовать…
Сказано – сделано. Раз, когда поднялась непогода, Богач отправился с Еремкой на охоту. Собака пошла под гору как-то неохотно и несколько раз оглядывалась на хозяина.
– Ступай, ступай, нечего лениться… – ворчал Богач.
Он обошел гумна и погнал зайцев. Выскочило зараз штук десять.
«Ну, будет Еремке пожива…» – думал старик.
Но его удивил собачий вой. Это выл Еремка, сидя под горой на своем месте. Сначала Богач подумал, что собака взбесилась, и только потом понял, в чем дело: Еремка не мог различить зайцев… Каждый заяц ему казался Черным Ушком. Сначала старик рассердился на глупого пса, а потом проговорил:
– А ведь правильно, Еремка, даром что глупый пес… Верно, шабаш нам зайцев душить. Будет…
Богач пошел к хозяину фруктового сада и отказался от своей службы.
– Не могу больше… – коротко объяснил он.
ПРИМЕЧАНИЯ[46]46
Примечание – взято из Собрание сочинений в 10 т.
Рассказы и сказки для детей
[Закрыть]
Весь детский цикл произведений Мамина-Сибиряка, в том числе «Аленушкины сказки», многими критиками конца XIX и начала XX века обычно связывался с рождением дочери писателя (март 1892 г.). На самом деле Мамин-Сибиряк обратился к жанру детской литературы задолго до появления дочери.
Так, 4 ноября 1881 года молодой Мамин сообщал матери: «На днях кончил небольшую статейку «Покорение Сибири», которая будет печататься в «Иллюстрированном журнале для детей» с января. Там же приняты два моих маленьких рассказа «Мосье Бульон» и «Нет худа без добра» (Гос. библ. СССР им. В. И. Ленина).
23 января 1882 года Мамин-Сибиряк пишет матери: «Теперь работаю для детских журналов…»
31 октября 1882 года Мамин послал очерк «Наши инородцы» в журнал «Детский отдых».
«Емеля-охотник», один из лучших классических детских рассказов, написан в 1884 году. Рассказ «Свисток» переделанный позже автором в рассказ для детей под названием «Кормилец», написан в 1885 году. В том же году создан рассказ «Зимовье на Студеной» и послан Маминым на соискание премии С.-Петербургского Фребелевского педагогического общества. (Рассказ опубликован лишь в январе 1892 года, то есть за два с лишним месяца до рождения дочери писателя.)
В конце 80-х и в начале 90-х годов Мамин-Сибиряк уже систематически печатался в журналах «Детское чтение», «Всходы», «Детский отдых», «Родник», «Мир божий», позднее в «Юной России», «Современном мире» и других прогрессивных журналах. Во главе этих органов стояли передовые люди своего времени, педагоги, писатели, общественные деятели. Каждый из них был рад привлечь к сотрудничеству в свой журнал молодого талантливого уральского писателя. Так, известно, что во время второго приезда Мамина-Сибиряка в Петербург, в начале 90-х годов, редактор журнала «Мир божий» В. П. Острогорский предложил ему постоянное сотрудничество в своем журнале. Мамин-Сибиряк согласился, передал Острогорскому свой рассказ «Зимовье на Студеной» и с тех пор много лет подряд печатал в «Мире божьем» свои произведения для детей.
Для понимания той среды, в которой формировался будущий детский писатель, достаточно сослаться на его «Автобиографическую записку». Вспоминая о своих детских годах, Мамин писал: «Для себя большие читали «Современник» и Добролюбова, и Д. Н. еще детским ухом прислушивался в далеком, медвежьем углу к отзвукам и отголоскам великого движения конца 50-х и начала 60-х годов. Вообще вся обстановка жизни скромной поповской семьи носила не совсем заурядный характер и дала уму и характеру Д. Н. ту закалку, которая дается только у своего очага любящими руками». Это была атмосфера труда, поисков благородных идеалов, интеллектуальных интересов.
Большое влияние на педагогические воззрения Мамина-Сибиряка оказал выдающийся русский педагог К. Д. Ушинский, передовые взгляды которого были близки Мамину.
Свои произведения для детей Мамин создавал легко и быстро, утверждают современники писателя. Так, Д. И. Тихомиров, редактор «Детского чтения», журнала, о котором, по словам Н. К. Крупской, очень тепло отзывался В. И Ленин, в своих воспоминаниях писал: «Детские рассказы выливались у Мамина – сразу, писались легко, прямо «набело» и без всякой помарки» (Д. И. Тихомиров «Из жизни Д. Н. Мамина-Сибиряка». Сб. «Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибиряке» составила З. А. Ерошкина, Свердлгиз, 1936, стр. 162).
Все произведения, написанные Маминым для детей, отличаются глубоким идейным и социальным содержанием, тонко и умно обличает в них писатель капиталистический строй. Его детские рассказы и сказки прославляют труд, они глубоко гуманны, они протестуют против всех форм угнетения человека, вызывают сочувствие к униженным и обездоленным.
Получив для печати новый рассказ Мамина, «Кара-Ханым», проникнутый любовью к малым народностям и действенным желанием помочь им, Д. И. Тихомиров 12 марта 1896 года восторженно писал Мамину: «…Убил ты нас всех, до слез тронул, без преувеличения… И Нилыч был поражен и восхищен от души, и не скрывал этого, и велел тебе написать горячий привет. Дорогой мой, – ты взял новую ноту, новую тему, – ты другим указываешь пути. Твой глубоко содержательный рассказ покажет всем, что с детьми при уме и таланте можно говорить и с великим успехом, – и о серьезных материях. Давно этого ждет детская литература! И кому же и начать было, как не тебе! Приветствую от всей души! Пиши, пиши! пиши!» (Письмо не опубликовано. Хранится в Гос. библ. СССР им. В. И. Ленина).
Мамин-Сибиряк придавал огромное значение детской книге: «Для меня до сих пор каждая детская книжка является чем-то живым, потому что она пробуждает детскую душу, направляет детские мысли по определенному руслу и заставляет биться детское сердце вместе с миллионами других детских сердец. Детская книга – это весенний солнечный луч, который заставляет пробуждаться дремлющие силы детской души и вызывает рост брошенных в эту благодарную почву семян» («Из далекого прошлого», рассказ «Книжка с картинками»).
Будучи уже известным писателем, автором многих романов и повестей, Мамин-Сибиряк в 1894 году писал А. А. Давыдовой, издательнице журнала «Мир божий»: «Если бы я был богат, то посвятил бы себя именно детской литературе. Ведь это счастье писать для детей и чувствовать напряженное внимание тысяч детских головок, которые будут ловить каждое слово и дарить автора своими чистыми детскими улыбками…» (Текст, письма приводится по статье Вл. Кранихфельда, опубликованной в ж. «Современный мир» № 11, 1912 г., взятой, по его словам, из архива М. К. Иорданской.)
Рассказы Мамина для детей с интересом читаются взрослыми и выдержали «испытание временем». Из года в год переиздаются детские рассказы и по настоящий день.
Рассказы для детей переводились на иностранные языки, издавались в Париже, Польше, Болгарии, Чехословакии. Вот что писала, например, на ломаном русском языке в 1906 году переводчица маминских сказок чешский педагог А. А. Теска: «Я хотела бы прислать Вам всю радость и восторг, которые Вы возбудили своей книгой у наших чешских детей; я читала ее в классе народной школы и очень жалею, что Вы не могли увидеть в это время пылающие глазки всех, которые слушали, притаив дыхание, и что не слышали всеобщий длинный вздох после чтения, провожаемый восклицанием: «Как хорошо!» Но не одним детям Вы радость доставили своим произведением: все мы, большие, жалче детей: всю душу занесла пыль забот да разочарований жизнью и всего, что в ней так гадко, – и вот от Ваших рассказов пахнуло таким свежим воздухом, что хоть на времечко короткое, а все же пыль разлетелась и яркие краски на душе заиграли. Спасибо Вам тысячу раз!..» (Рукописный отдел Гос. библ. СССР им. В. И. Ленина.)
Мамин-Сибиряк не был педагогом ни по образованию, ни по профессии, но все его произведения, написанные для детей, педагогичны в подлинном смысле слова. Без всякой нарочитой тенденции он воспитывает в детях благородные чувства, жажду знаний, любовь к родному краю, природе, животным.
5 сентября 1891 года он пишет матери: «…Избалованные дети – несчастье на всю жизнь и для себя, и для родителей, и для общества. Нужно воспитывать рядового солдата, а остальное пусть сам получает…» (Гос. библ. СССР им. В. И. Ленина).
К этому вопросу писатель вновь вернулся в 1894 году, когда писал матери: «Мы раз разговорились с Чеховым на эту тему. У него нет ни жены, ни детей, и разговор имел чисто теоретическое значение. Чехов заявил категорически, что, если бы у него были дети, он не оставил бы им буквально ни гроша, потому что не желает их губить. Это глубоко верно, а я прибавлю к этому, что нужно оставить детям столько, сколько необходимо для скромного существования, и не больше того» (письмо от 3 марта 1894 г.). Характерно, что Мамин имеет в виду сынков богачей, «придавленных родительскими капиталами». Это была уже определенная система взглядов, принципиальная точка зрения на вопросы воспитания молодого поколения, и Мамин был ее последовательным проводником и защитником.
Именно для воспитания в детях чувства любви к родине писатель задумал цикл исторических познавательных произведений, над которыми работал несколько лет. В письме от 13 августа 1895 года Мамин сообщал матери: «Хочу написать русскую историю для детей в форме путешествия. Сначала напишу новгородскую историю, потом киевский период, потом татарщину, собирание Москвы и закончу Петром. Работа большая, займет несколько лет…».
Из переписки писателя, в частности с Д. И. Тихомировым, видно, что в августе 1901 года Мамин специально ездил «по Великому пути», по Ладожскому озеру, на Волхов, чтобы накопить фактический материал, воскресить историческую обстановку. «Это мне необходимо для истории, для детей», – писал Мамин.
К этому труду Мамин готовился много лет, но осуществить его полностью ему не удалось. Лишь с 1904 года стали появляться первые его исторические очерки: «Сударь Пантелей – Свет Иванович», «Славен город Великий Новгород» и др.
Велико было чувство ответственности писателя перед многомиллионной аудиторией детворы и юношества, для которой он творил. Считая своих юных читателей «самой строгой публикой», Мамин тщательно обрабатывал свои детские произведения, внося в каждое новое издание поправки и изменения.
«В посту выйдет первый том моих детских рассказов, – писал он матери 12 февраля 1895 года. – Как мне кажется, эти маленькие безделки доставят мне больше популярности, чем все написанное раньше для большой публики».
Мамину-Сибиряку не очень «повезло» с критикой его творчества для взрослых, зато он был единодушно признан как дореволюционной, так и советской печатью непревзойденным мастером детского рассказа и сказки, добрым и умным другом детей, мастером тонкого психологического портрета, характеристики.
ЕМЕЛЯ-ОХОТНИК
Рассказ
Первоначальное название рассказа – «Бегун». Впервые опубликован в 1884 году в серии «Рассказы для детей младшего возраста», изд. Фребелевского педагогического общества, СПб. Рассказ был награжден премией этого общества. Выходил много раз отдельными изданиями и в сборниках детских рассказов.
Критика единодушно отмечала гуманизм рассказа и прелесть образа Емели.
Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк, сб. «Рассказы и сказки», т. 1, 1910, изд. журнала «Юная Россия», серия «Библиотека для семьи и школы». В этом издании был снят подзаголовок «Повесть для детей».
ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ
Рассказ
Впервые напечатан в журнале «Мир божий», 1892, № 1. 20 апреля того же года Мамин сообщал матери, что рассказ удостоен золотой медали С.-Петербургского комитета грамотности.
В «Зимовье на Студеной» опоэтизирован труд одинокого рыбака-охотника, обманутого купцами и заброшенного на далекое, оторванное от людей зимовье. Проникновенно рассказывает писатель о действенной любви русского человека к родной природе, к домашним животным, птицам.
Уральский журналист В. П. Чекин писал: «Зимовье на Студеной» – одно из тех немногих, искренне, лучшим «соком» авторских «нервов» написанных произведений нашей небогатой художественно-бытовой литературы, которые, раз прочитанные, никогда потом не забываются. От этого рассказа веет трогательно-претворенной правдой… Огни светлого, гуманного, истинно человеческого вспыхивают во всех этих рассказах под грубой, неприглядной внешней оболочкой большинства героев Мамина» (сб. «Урал», Екатеринбург, 1913, стр. 35 – 36).
С 1892 года рассказ перепечатывался много раз. Печатается по тексту: сб. «Зарницы», 1909, издание журнала «Юная Россия», серия «Библиотека для семьи и школы».
Стр. 52. Самоеды – старое русское название ненцев и других народностей Севера. Это слово происходит от «самэ-еднэ» (земля саамов).
Вогулы – ныне манси – народность, проживающая в Тюменской и отчасти Свердловской областях.
ПОСТОЙКО
Рассказ
Впервые напечатан в журнале «Детское чтение», 1893, № 3, затем выходил неоднократно. Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк, сб. «Рассказы и сказки», т. 1, 1910, издание журнала «Юная Россия».
ПРИЕМЫШ
Из рассказов старого охотника
Впервые опубликован в журнале «Детское чтение», 1893, № 11. При жизни автора рассказ печатался много раз. Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк, сб. «Рассказы и сказки», т. 1, 1910, издание журнала «Юная Россия».
СЕРАЯ ШЕЙКА
Рассказ
Впервые опубликован под названием «Серушка» в журнале «Детское чтение», 1893, № 12. Затем выходил много раз. Между текстами имелись расхождения: в журнальной публикации «Серая Шейка» именовалась «Серушкой». В последующих изданиях она всюду называется «Серой Шейкой». Подготавливая к печати отдельное издание рассказа, Мамин изменил название рассказа, изменил его концовку, сочтя ее слишком мрачной для детей, и ввел для этого новую главу, в которой рассказывается о спасении Серой Шейки.
Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк, сб. «Рассказы и сказки», т. 1, 1910, издание журнала «Юная Россия».
АК-БОЗАТ
Рассказ
Впервые напечатан в журнале «Детское чтение», 1895, №№ 1 и 2.
Еще в ноябре 1894 года Д. И. Тихомиров, редактор журнала «Детское чтение», восторженно писал о «чистом сердце» Мамина, о «чистых сценах любви» в рассказе «Ак-Бозат». Из переписки с ним Мамина видно, как оба они были заинтересованы в том, чтобы сделать рассказ более доходчивым, ярче его проиллюстрировать.
Отдавая себе отчет в социальной заостренности рассказа, Тихомиров, готовя отдельное издание рассказа (1907 г.), советуется с Маминым: «Публикации теперь давать не стоит – время глухое». Видимо, тоже опасаясь вмешательства цензуры, Мамин-Сибиряк внес существенные поправки в текст рассказа при очередной публикации его. Так, он исключил фразу: «У богатых людей жадность растет вместе с богатством и готова проглотить собственную тень»; изменил характеристику кулака Цацгая. В прежней редакции было: «Цацгай был скуп как все богатые люди (курсив мой – А. Н.) и как все богатые люди давал своим пастухам столько, сколько было нужно, чтобы не умереть с голоду». В новой редакции было снято обобщение и осталось: «Цацгай был скуп и давал своим пастухам столько, сколько было нужно, чтобы не умереть с голоду».
Рассказ был встречен положительными отзывами критики.
При жизни писателя рассказ переиздавался много раз. Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк «Ак-Бозат», 1910.
В ГЛУШИ
Рассказ
Впервые опубликован в журнале «Детский отдых», 1896, № 11 Рассказ иллюстрировался А. М. Васнецовым. Переиздавался много раз.
Рассказ был тепло отмечен печатью. В журнале «Мир божий» (№ 4, 1898) была опубликована рецензия, метко характеризующая особенности рассказа. «Господин Мамин, – писалось там, – изображает неподражаемо своих уральских героев, оставаясь всегда объективным, ни мало не стараясь их приукрасить или превознести, что, по нашему мнению, составляет одну из самых ценных сторон его выдающегося художественного таланта. Благодаря именно этой особенности его рассказы производят впечатление необыкновенной свежести и цельности, чего-то здорового и живительного, как природа Урала, которую он умеет изображать, как никто».
Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк, «В глуши», издание журнала «Юная Россия», серия «Дешевая библиотека для семьи и школы», 1909.
Стр. 99. Ясачить – облагать податями. Здесь – добыча охотника.
ВЕРТЕЛ
Рассказ
Впервые напечатан в журнале «Всходы» (иллюстрированный журнал для детей школьного возраста, 1897, № 19). Затем печатался много раз в сборниках и отдельными изданиями.
Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Рассказы и очерки», сборник «По Уралу», 1900, серия «Библиотека детского чтения».
СТАРЫЙ ВОРОБЕЙ
Рассказ
Впервые напечатан в журнале «Детское чтение», № 4, 1894; отдельной книжкой вышел в 1899 году («Издатель», СПб), затем выходил много раз при жизни автора как в сборниках, так и отдельными изданиями.
Написан рассказ, видимо, в 1892 году. В рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина хранится рукопись рассказа, на которой имеется собственноручная надпись Дмитрия Наркисовича: «15 марта Маруся (М. М. Абрамова, жена писателя, умершая 22 марта того же года.) переписывала этот рассказ».
Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк, «Рассказы и сказки», т. 1, 1910, издание журнала «Юная Россия». В тексте устранены погрешности по рукописи 1892 года.
БОГАЧ И ЕРЕМКА
Рассказ
Впервые опубликован в журнале «Детское чтение», 1904, №№ 4 и 5. Затем рассказ вышел в 1912 году в серии «Дешевая библиотека для семьи и школы», издание журнала «Юная Россия».
Печатается по тексту издания 1904 года.