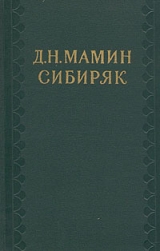
Текст книги "Том 2. Приваловские миллионы"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– А что наш редактор детского журнала? – спрашивала Ляховская, кивая головой в сторону молчаливо сидевшего Виктора Васильича.
– Он, кажется, сегодня не в духе…
– Виктор Васильич оставил редакторство, – объяснил Половодов, успокоенный внимательно-тревожным взглядом хозяйки. – Отныне он просто Моисей…
– Это еще что такое? – удивилась хозяйка.
– А вот Аника Панкратыч расскажет…
– Вышел такой грех, точно… – заговорил Лепешкин. – Мы как-то этак собрались в «Золотом якоре», у одного проезжающего. Проезжающий-то в третьем этаже номер занял. Ну, набралось нас народу грудно… Иван Яковлич, Ломтев Миколя я, Виктор Васильич, ваш братец… много народу понаперло. Выпили… Виктор Васильич и говорит: «Супротив меня никому смелости не оказать…» Обнаковенно, человек не от ума сболтнул, а Иван Яковлич подхватил: окажи им смелость сейчас, и шабаш. Ну, какую в номере смелость окажешь, окромя того, что зеркало расщепать или другую мебель какую… Туда-сюда, а Виктор Васильича карахтер вроде как телеграф: вынь да положь… Как он закричит: «Спущайте меня на веревке на карниз… С бутылкой по карнизу обойду!» Я отговаривал, да куда – чуть было меня за бороду не схватил. Ну, думаю, ступай, – Василию Назарычу меньше по векселям платить. Связали полотенца да на полотенцах его, раба божия, и спустили, как был, без сюртука, без жилетки… Вот он встал этаким манером на карнизе, Христос его знает, уцепился как-то ногами – стоит, и только, значит, хотел из бутылки пить, внизу караульный прибежал… Думает, либо лунатик, либо вор по стене ползет. Ха-ха! И сейчас «караул!!»… Полиция и всякое прочее. А Виктор Васильич не идет с карнизу и шабаш: подавали мы полотенце – не берет, притащили лестницу – «не хочу». Сам слезу, слышь. Ну, слезай. Вот он уцепился руками за карниз, да по окну и полез… И господь его знает, совсем было слез, да по дороге зацепил, видно, голяшкой за кирпичи, да как ногами бухнет в окно… Звон, треск!.. А окно-то выходило в номер, где ташкентский офицер остановился. А у ташкентского офицера семь дочерей, и все спали в этом самом номере. Обнаковенно, испужались до смерти и, в чем были, прямо с постели в номер к тятеньке. Тятенька, обнаковенно, прибежал с ливольвером и сейчас Виктора Васильича за ногу и, с позволения сказать, как кошку, в номер к себе утащил: «Кто таков человек есть?» А Виктор Васильич, не будь плох, отвечает: «Моисей». – «Из каких местов?» – «С неба упал…» А мы там сидим и голосу не подаем, потому либо в свидетели потянут, либо тятенька этот пристрелит.
– И чем же кончилась вся эта история? – спрашивала Ляховская, хохотавшая во время рассказа до слез.
– Обнаковенно, к мировому. Миколя защитником объявился.
Виктор Васильич смеялся вместе с другими самым беззаботным образом. Давид хохотал как сумасшедший и старался под столом достать Лепешкина своими длинными ногами.
– Значит, мы потеряли редактора и получили Моисея, – резюмировала Ляховская, когда пароксизм общего смеха немного утих. – Так и запишем: Моисей…
После этого шумного завтрака Привалов простился с хозяйкой; как только дверь за ним затворилась, Половодов увел Ляховскую в другую комнату и многозначительно спросил:
– На ваш взгляд, Софья Игнатьевна, что за зверь этот Привалов?
– Привалов? А вам…
– Нет, будемте говорить серьезно. Знаете, мужчина никогда не поймет сразу другого человека, а женщина… Это, заметьте, очень важно, и я серьезно рассчитываю на вашу проницательность.
– Господи! Какая бездна серьезности и таинственности… Вы на что это давеча изволили надуться за завтраком?
– Ах, это пустяки… Разве кому-нибудь интересно знать, что я могу чувствовать или думать!
– Меня удивляет ваш тон, Александр Павлыч, – вспыхнув, проговорила Ляховская. – Вы позволяете себе, кажется, слишком много…
– Простите… – проговорил Половодов, почтительно целуя руку девушки, – вы знаете, что это со мной иногда случается…
Они прошли в угловую комнату и поместились около круглого столика. Ляховская сделала серьезное лицо и посмотрела вопросительно своими темными глазами.
– Видите ли, Софья Игнатьевна, – тихо начал Половодов, – Привалов начинает дело… Поверенным Веревкин.
– Nikolas?
– Да, Nikolas…
Последовала короткая пауза.
– Что же вы от меня хотите? – спрашивала Ляховская, общипывая пуговку на своей перчатке.
– Я… я хочу слышать ваше мнение о Привалове, Софья Игнатьевна.
– Мое мнение… Знаете, Александр Павлыч, в лице Привалова есть что-то такое – скрытность, упрямство, подозрительность, – право, трудно сказать с первого раза.
– Да, он умнее, чем может показаться с первого раза. Но не заметили ли вы в нем, что намекало бы на бесхарактерность? Нерешительность во взгляде, бесцельные движения… Обратите внимание, Привалов – последняя отрасль Гуляевых и Приваловых, следовательно, в нем должны перемешаться родовые черты этих фамилий: предрасположение к мистицизму, наконец – самодурство и болезненная чувствительность. Привалов является выродком, следовательно, в нем ярче и шире оставили свои следы наследственные пороки и недостатки, чем достоинства. Это закон природы, хотя известным образованием и выдержкой может быть прикрыто очень многое. Ведь вместе с своими миллионами Привалов получил еще большое наследство в лице того темного прошлого, какое стоит за его фамилией.
– Вы иногда бываете, Александр Павлыч, очень умным и проницательным человеком, – заметила девушка, останавливая глаза на одушевленной физиономии Половодова.
– Плохой комплимент, Софья Игнатьевна… Но я не могу обижаться, потому что меня делает глупым именно ваше присутствие, Софья Игнатьевна.
– Ах, как это чувствительно и… смешно. Веревкин справедливо говорит про вас, что вы влюбляетесь по сезонам: весной – шатенки, зимой – брюнетки, осенью – рыжие, а так как я имею несчастье принадлежать к белокурым, то вы дарите меня своим сочувствием летом.
– Довольно, довольно… – упавшим голосом проговорил Половодов.
– Да, мы уклонились от нашего разговора.
Половодов прошелся несколько раз по комнате, потер себе лоб и проговорил:
– Наше дело может кончиться очень плохо, Софья Игнатьевна.
– Именно?
– Я не буду говорить о себе, а скажу только о вас. Игнатий Львович зарывается с каждым днем все больше и больше. Я не скажу, чтобы его курсы пошатнулись от того дела, которое начинает Привалов; но представьте себе: в одно прекрасное утро Игнатий Львович серьезно заболел, и вы… Он сам не может знать хорошенько собственные дела, и в случае серьезного замешательства все состояние может уплыть, как вода через прорванную плотину. Обыкновенная участь таких людей…
– Вам-то какое горе? Если я буду нищей, у вас явится больше одной надеждой на успех… Но будемте говорить серьезно: мне надоели эти ваши «дела». Конечно, не дурно быть богатым, но только не рабом своего богатства…
В ее глазах, в выражении лица, в самой позе было что-то новое для него. Сквозь обычную беззаботность и приемы женщины, привыкшей к поклонению с первого дня рождения, прозвучала совершенно особенная нотка. Что это? Половодов внимательно посмотрел на девушку; она ответила ему странной улыбкой, в которой были перемешаны и сожаление, и гордость, и что-то такое… «бабье», сказал бы Половодов, если бы эта улыбка принадлежала не Зосе Ляховской, а другой женщине. Вдруг в голове у него мелькнула, как молния, одна мысль, и он совершенно равнодушным тоном спросил:
– Я что-то давно не вижу у вас Максима!
– Он давно не был у нас, – невозмутимо ответила Ляховская с той же улыбкой.
XV
Сам по себе приваловский дом был замечательным явлением, как живой памятник отошедшего в вечность бурного прошлого; по еще замечательнее была та жизнь, которая совершалась под его проржавевшей кровлей.
Игнатий Ляховский принадлежал к типу тех темных людей, каких можно встретить только в Сибири. Сам он называл себя почему-то хохлом. Молва гласила другое, именно, что он происходил из кантонистов. Свое состояние он нажил в Сибири какими-то темными путями. Одни приписывали все краденому золоту, другие – водке, третьи – просто счастью. Общий голос громко кричал о том, что Ляховский пошел жить от опеки над наследством Приваловых. Вернее всего было, что созидающими элементами здесь являлось много различных сил и счастливых случаев, а узлом всего являлась удивительная способность Ляховского сразу определять людей и пользоваться ими, как игрок пользуется шахматами в своих ходах. Все-таки как источник богатства Ляховского, так и размеры этого богатства оставались для обывателей уездного городка и всей губернии неразрешимой загадкой.
О странностях Ляховского, о его страшной скупости ходили тысячи всевозможных рассказов, и нужно сознаться, что большею частью они были справедливы. Только, как часто бывает в таких случаях, люди из-за этой скупости и странностей не желают видеть того, что их создало. Наживать для того, чтобы еще наживать, – сделалось той скорлупой, которая с каждым годом все толще и толще нарастала на нем и медленно хоронила под своей оболочкой живого человека.
Мы здесь должны сказать о жене Ляховского, которая страдала чисто русской болезнью – запоем. Все системы лечения, все знаменитости медицинского мира в России и за границей – все было бессильно против этой страшной болезни. Самым страшным для Ляховского было то, что она передала свои недостатки детям. Ляховский в увлечении своими делами поздно обратил внимание на воспитание сына и получил смертельный удар: Давид на глазах отца был погибшим человеком, кутилой и мотом, которому он поклялся не оставить в наследство ни одной копейки из своих богатств. Давид был тем же матушкиным сынком, как и Виктор Васильич; эти молодые люди весело шли по одной дорожке, и у обоих одинаково было парализовано самое дорогое качество в каждом человеке – воля, характер. Они не были ни злыми, ни глупыми, ни подлецами, но всякую минуту могли быть тем, и другим, и третьим в силу именно своей бесхарактерности.
Несмотря на все принятые предосторожности, в характере Зоси рано сказалось ее мужское воспитание, и она по своим привычкам походила больше на молодого человека. Женского общества она не выносила, и исключение, сделанное для Нади, скоро потеряло всякое значение. Дела по приваловской опеке расстроили хорошие отношения между Ляховским и Бахаревым. Последний не любил высказываться дурно о людях вообще, а о Ляховском не мог этого сделать пред дочерью, потому что он строго отличал свои деловые отношения с Ляховским от всех других; но Надя с женским инстинктом отгадала действительный строй отцовских мыслей и незаметным образом отдалилась от общества Ляховского. Правда, по наружному виду это трудно было отгадать, но оно чувствовалось во всем, и Ляховский искренне жалел об этом невыгодном для него обстоятельстве. Мы уже видели, что в нем были и Лепешкин, и Виктор Васильич, и еще много других лиц, на которых Ляховскому приходилось смотреть сквозь пальцы. Правда, для всех было ясно, как день, что из Зоси вырабатывалась прозаическая натура, недоступная увлечениям. Поэтому исключительно мужское общество не смущало ни доктора, ни Ляховского.
– Благодаря нашему воспитанию, доктор, у Зоси железные проволоки вместо нервов, – не без самодовольства говорил Ляховский. – Она скорее походит на жокея, чем на светскую барышню… Для нее же лучше. Женщина такой же человек, как и мужчина, а тепличное воспитание делало из женщин нервных кукол. Не правда ли, доктор?
Доктор на это ничего не отвечал обыкновенно, и Ляховский переходил на другой тон.
– Что будете делать, что будете делать, – говорил он, грустно покачивая головой. – Кровь великое дело. А в Зосе много дурной крови… Да, в ней много дурной крови! Но ведь в этом не мы с вами виноваты. Я вижу, что ей во многом еще недостает характера, силы воли, и она делается несправедливой и злой именно в силу этого недостатка. Но научите меня, что еще для нее я могу сделать? Отправить за границу, в Америку, – но ведь она не поймет и десятой доли того, что увидит, а всякое полузнание хуже всякого незнания. Как отец, я не могу отнестись беспристрастно, как желал бы к ней отнестись, и, может быть, преувеличиваю ее недостатки. Не помню где, но, кажется, в каком-то пустейшем французском романе я вычитал мысль, что нет ничего труднее, как установить правильные отношения между отцом и взрослой дочерью. А здесь затруднение усложняется тем, что у бедной Зоси нет матери… Нет, гораздо хуже, чем нет! Да, доктор… Но войдите в мое положение и скажите, не сделали бы вы то же самое, что я сделал?
XVI
Мы видели Ляховского с его лучших сторон; но он являлся совершенно другим человеком, когда вопрос заходил о деньгах. В конце каждого месяца в его кабинете с небольшими вариациями происходили такие сцены. В двери кабинета пролезает кучер Илья и безмолвно останавливается у порога; он нерешительно начинает что-то искать своей монументальной рукой на том месте, где его толстая голова срослась с широчайшими плечами. Узкие глаза смотрят в угол, ноги делают беспокойные движения, как у слона, прикованного к полу железной цепью.
– Зачем ты пришел, Илья? – спросит Ляховский усталым голосом.
– А насчет жалованья, Игнатий Львович…
– Зачем?
– Говорю: насчет жалованья…
– За деньгами пришел?
– За жалованьем.
– Деньги… везде деньги, всякому подай деньги, – начинает горячиться Ляховский. – Что же, по-твоему, я сам, что ли, делаю их?
– Не могу знать, Игнатий Львович.
– Не могу знать!.. А где я тебе возьму денег? Как ты об этом думаешь… а? Ведь ты думаешь же о чем-нибудь, когда идешь ко мне? Ведь думаешь… а? «Дескать, вот я приду к барину и буду просить денег, а барин запустит руку в конторку и вытащит оттуда денег, сколько мне нужно…» Ведь так думаешь… а? Да у барина-то, умная твоя голова, деньги-то разве растут в конторке?..
По оплывшей бородатой физиономии Ильи от одного уха до другого проползает конвульсивное движение, заменяющее улыбку, и маленькие черные глаза, как у крота, совсем скроются под опухшими красными веками.
– Ежели вы, Игнатий Львович, очень сумлеваетесь насчет жалованья, – начинает Илья, переминаясь с ноги на ногу, – так уж лучше совсем рассчитайте меня… Меня давно Панафидины сманивают к себе… и пять рублей прибавки.
– А кто эти Панафидины?
– Купцы… В гостином дворе кожевенным товаром торгуют.
– Купцы… Вот и ступай к своим Панафидиным, если не умел жить здесь. Твой купец напьется водки где-нибудь на похоронах, ты повезешь его, а он тебя по затылку… Вот тебе и прибавка! А ты посмотри на себя-то, на рожу-то свою – ведь лопнуть хочет от жиру, а он – «к Панафидиным… пять рублей прибавки»! Ну, скажи, на чьих ты хлебах отъелся, как боров?
– Это уж божеское произволение, – резонирует Илья, опять начиная искать в затылке. – Ежели кому господь здоровья посылает… Другая лошадь бывает, Игнатий Львович, – травишь-травишь в нее овес, а она только сохнет с корму-то. А барин думает, что кучер овес ворует… Позвольте насчет жалованья, Игнатий Львович.
– Что ты пристал ко мне с ножом к горлу? Ну, сколько тебе нужно?
– Да за месяц уж пожалуйте… двадцать пять рублей.
– О-о-о… – стонет Ляховский, хватаясь обеими руками за голову. – Двадцать пять рублей, двадцать пять рублей… Да ведь столько денег чиновник не получает, чи-новник!.. Понял ты это? Пятнадцать рублей, десять, восемь… вот сколько получает чиновник! А ведь он благородный, у него кокарда на фуражке, он должен содержать мать-старушку… А ты что? Ну, посмотри на себя в зеркало: мужик, и больше ничего… Надел порты да пояс – и дело с концом… Двадцать пять рублей… О-о-о!
– А вы, Игнатий Львович, и возьмите себе чиновника в кучера-то, – так он в три дня вашего Тэку или Батыря без всех четырех ног сделает за восемь-то цалковых. Теперь взять Тэка… какая это лошадь есть, Игнатий Львович? Одно слово – разбойник: ты ей овса несешь, а она зубищами своими ладит тебя прямо за загривок схватить… Однова пятилась да пятилась, да совсем меня в угол и запятила. Думаю, как брызнет задней ногой, тут тебе, Илья, и окончание!.. Позвольте, Игнатий Львович, насчет жалов…
– На!.. бери, бери!.. – кричит Ляховский отодвигая ящик конторки, на дне которого лежит несколько смятых кредиток. – На, грабь меня, снимай последнюю рубашку.
– Уж вы лучше сами отдайте…
– Не могу… чувствую, что пропьешь!
Эта история повторяется исправно каждый раз, поэтому Илья, как по льду, подходит к столу и еще осторожнее запускает свою лапищу в ящик.
– Покорно вас благодарю, – говорит Илья, пятясь к двери, как бегемот. – Мне что, я рад служить хорошим господам. Намедни кучер приходил от Панафидиных и все сманивал меня… И прибавка и насчет водки… Покорно вас благодарю.
Кучер Илья жил настоящим паразитом, но Ляховский никак не мог ему отказать, потому что другого такого Ильи в целой губернии не сыщешь, – ездил он мастерски и умел во всем потрафить барышне.
Чтобы докончить характеристику жизни в доме Ляховского, мы должны остановиться на Альфонсе Богданыче и Пальке. Альфонс Богданыч, безродный полячок, взятый Ляховским с улицы, кажется, совсем не имел фамилии, да об этом едва ли кто-нибудь и думал. Все привыкли к тому, что Альфонс Богданыч должен был все знать, все предупредить, все угадать, всем угодить и все вынести на своей спине, – к чему еще тут фамилия? Никто, кажется, не подумал даже, что могло бы быть, если бы Альфонс Богданыч в одно прекрасное утро взял да и забастовал, то есть не встал утром с пяти часов, чтобы несколько раз обежать целый дом и обругать в несколько приемов на двух диалектах всю прислугу; не пошел бы затем в кабинет к Ляховскому, чтобы получить свою ежедневную порцию ругательств, крика и всяческого неистовства, не стал бы сидеть ночи за своей конторкой во главе двадцати служащих, которые, не разгибая спины, работали под его железным началом, если бы, наконец, Альфонс Богданыч не обладал счастливой способностью являться по первому зову, быть разом в нескольких местах, все видеть, и все слышать, и все давить, что попало к нему под руку Одним словом, Альфонс Богданыч играл в доме ту же роль, как стальная пружина в часах, за что в глазах Ляховского он был только очень услужливым и очень терпеливым человеком. Ляховский считал Альфонса Богданыча очень ограниченной головой и возвысил его из среды других служащих только за ослиное терпение и за то, что Альфонс Богданыч был один-одинехонек Последнее обстоятельство в глазах Ляховского служило лучшей гарантией, что Альфонс Богданыч не будет его обкрадывать в интересах племянников и племянниц. Терпение у Альфонса Богданыча было действительно замечательное, но если бы Ляховский заглянул к нему в голову в тот момент, когда Альфонс Богданыч, прочитав на сон грядущий, как всякий добрый католик, латинскую молитву, покашливая и охая, ложился на свою одинокую постель, – Ляховский изменил бы свое мнение. Как это могло случиться, что Ляховский, вообще видевший людей насквозь, не мог понять человека, который ежедневно мозолил ему глаза, – этот вопрос относится к области психологии. Может быть, это самая простая психическая близорукость у себя дома людей, слишком дальнозорких вне этого дома.
Палька был диаметральной противоположностью Альфонса Богданыча, начиная с того, что он решительно ничего не делал и, по странной случайности, неизменно пользовался репутацией самого верного слуги. Сам Альфонс Богданыч был бессилен против Пальки, как был бессилен относительно Ильи. Но Илья ленился потому, что его избаловали, а Палька потому, что ни на что больше не был годен, ибо был холоп до мозга костей, и больше ничего. Положение Пальки было настолько прочно, что никому и в голову не приходило, что этот откормленный и упитанный хлоп мог же что-нибудь делать, кроме того, что отворять и затворять двери и сортировать проходивших на две рубрики: заслуживающих внимания и таких, про которых он говорил только «пхе!..».
XVII
– Ну, что, как вы нашли Ляховского? – спрашивал Веревкин, явившись к Привалову через несколько дней после его визита. – Не правда ли, скотина во всех отношениях? Ха-ха! Воображаю, какого шута горохового он разыграл перед вами для первого раза…
Привалов подробно рассказал весь ход своего визита и свои занятия с Ляховским, эпизод с сигарами и метлами вызвал самый неистовый хохот Веревкина, который долго громким эхом раскатывался по всему домику Хионии Алексеевны и заставил Виктора Николаича вздрогнуть и заметить: «Эк, подумаешь, разобрало этого Веревкина!»
– Так и есть, по всем правилам своего искусства, значит, вел дело, – заговорил Веревкин, вытирая выступившие от смеха на глазах слезы. – Дайте время, он начнет прикидываться глухим и слепым. Ей-богу! Мерзавец такой, что с огнем поискать. У него есть здесь в Узле несколько домов, конечно купленных при случае, за бесценок. Вот однажды один из этих домов загорелся. Что бы вы думали: набат, народ бежит со всех сторон, и Ляховский трусцой задувает вместе с другими, а пожар на другом конце города. Видите ли, извозчик запросил с Ляховского пятиалтынный, а он давал гривенник. Так в пятачке и разошлись. После говорят Ляховскому: «Как же это вы, Игнатий Львович, пятачка пожалели, а целого дома не жалеете?» А он: «Что же я мог сделать, если бы десятью минутами раньше приехал, – все равно весь дом сгорел бы и пятачок напрасно бы истратил». Заметьте, выдержка какая дьявольская. О, с ним нужно ухо востро держать! Какие он вам бумаги дал – посмотрим.
– Вот все здесь, – отвечал Привалов, вынимая из папки целую кипу взятых у Ляховского бумаг.
Веревкин с сигарой в зубах самым комфортабельным образом поместился в креслах и вооружил свой нос пенсне. Заметив, что Ипат принес и поставил около него на подносе графинчик с водкой и закуску на стеклянной тарелочке, он только улыбнулся; внимание Привалова к его жажде очень польстило Веревкину, и он с особенным усердием принялся рыться в бумагах, швырял их по всему столу и делал на полях красным карандашом самые энергичные nota bene. На первый раз трудно было разобраться в такой массе цифр, и Веревкин половину бумаг сложил в свой объемистый портфель с оборванными ремнями и сломанным замком.
– Да тут черт ногу сломит, батенька, – проговорил он после часовой работы. – По меньшей мере недели две придется высидеть над ними. Этот Альфонс Богданыч – видели? – такого, я думаю, туману напустил… Ну, да мы их проберем и всех узлом завяжем. А вот что, – совершенно другим тоном прибавил Веревкин, отваливая свою тушу на спинку кресла, – я заехал, собственно, везти вас к Половодову… Мы отлично пообедаем там, а вы кстати пощупаете Александра Павлыча, как он себя чувствует. Ссориться с ними нам во всяком случае не приходится, потому что этим только затянем дело; ведь бумаги все у них в руках. Да я и не люблю ссориться со своими противниками.
Привалову совсем не хотелось ехать к Половодову. Он пробовал сопротивляться, но Веревкин был неумолим и даже отыскал шляпу Привалова, которую сейчас же и надел ему на голову.
– Нет, батенька, едемте, – продолжал Веревкин. – Кстати, Тонечка приготовила такой ликерчик, что пальчики оближете. Я ведь знаю, батенька, что вы великий охотник до таких ликерчиков. Не отпирайтесь, быль молодцу не укор. Едем сейчас же, время скоротечно. Эй, Ипат! Подавай барину одеваться скорее, а то барин рассердится.
Всю дорогу Веревкин болтал, как школьник. Это веселое настроение подействовало заразительно и на Привалова. Только когда они проезжали мимо бахаревского дома, Привалову сделалось как-то немного совестно – совестно без всякой видимой причины. Он заранее чувствовал на себе полный немого укора взгляд Марьи Степановны и мысленно сравнил Надю с Антонидой Ивановной, хотя это и были несравнимые величины.
Обед у Половодова прошел скучнее, чем можно было предполагать, и Привалов был очень недоволен, что послушался Веревкина. Антонида Ивановна сегодня держала себя очень холодно, даже немножко грустно, как показалось Привалову. Никто ни слова не говорил о Ляховских, как ожидал Привалов, и ему оставалось только удивляться, что за странная фантазия была у Веревкина тащить его сюда смотреть, как лакей внушительной наружности подает кушанья, а хозяин работает своими челюстями. Привалову, конечно, и в голову не пришло бы подумать, что Веревкин действовал по просьбе Антониды Ивановны, а между тем это было так. Веревкин для такого сорта поручений был самый золотой человек, потому что, несмотря на величайшие затруднения и препятствия при их выполнении, он даже не задавал себе вопроса, для чего нужен был Антониде Ивановне Привалов, нужен именно сегодня, а не в другое время. «Женская фантазия», – говорил обыкновенно Веревкин, если от него непременно требовали объяснений. Обед был точно такой же, как и в прошлый раз: редкие, художественно исполненные кушанья съедались с редким вниманием и запивались самыми редкими винами. Сейчас после обеда Половодов увел Привалова к себе в кабинет.
Пока в кабинете шла деловая беседа, Веревкин успел немного прийти в себя после сытного обеда, поймал сестру и усадил ее за рояль.
– Тонечка, голубушка, спой эту песню про Волгу, – умолял он. – Уважь единоутробного брата… а?.. Привалова не стесняйся, он отличный малый, хоть немножко и того (Веревкин многозначительно повертел около лба пальцем), понимаешь – славянофил своего рода. Ха-ха!.. Ну, да это пустяки: всякий дурак по-своему с ума сходит.
– А ты, кажется, сегодня порядочно утешился за Обедом? – спрашивала Антонида Ивановна, с нежностью глядя на «единоутробного» братца.
– Что же, я только в своей стихии – не больше того. «Пьян да умен – два угодья в нем…» Видишь, начинаю завираться. Ну, спой, голубчик.
Антонида Ивановна взяла несколько аккордов и запела небольшим, но очень чистым контральто проголосную русскую песню:
Широка Волга разливалася,
С крутым бережком поровнялася…
Эта заунывная песня полилась с тем простым, хватавшим за душу выражением, с каким поет ее простой народ и никогда не поют на сцене. Антонида Ивановна умела вытянуть ту заунывную, щемящую нотку, которая неизменно слышится во всех проголосных русских песнях: глухие слезы и смертная тоска по какой-то воле и неизведанном счастье, казалось, стояли в этой песне. Веревкин сидел на низеньком диванчике, положив свою громадную голову в ладони рук как вещь, совершенно для него лишнюю. Спутанные шелковые кудри свалились к нему на лоб и закрывали глаза, но он не поправлял их, отдавшись целиком тому подмывавшему чувству, которое, как набежавшая волна прилива, тихо поднимало и несло куда-то вдаль. Привалов что-то хотел отвечать Половодову, когда раздались первые слова песни, да так и остался с открытым ртом на своем горнем месте, куда усадил его Половодов.
– Это Тонечка, – отвечал Половодов на немой вопрос Привалова. – Она порядочно поет русские песни, когда бывает в ударе.
Половодов вместе с Иваном Яковлевичем всему на свете предпочитал французские шансонетки, но в качестве славянофила он считал своим долгом непременно умилиться каждый раз, когда пела жена. У Привалова тихо закружилась голова от этой песни, и он закрыл глаза, чтобы усилить впечатление. В глубине души что-то тихо-тихо заныло. Пред глазами смутно, как полузабытый сон, проносились картины густого леса, широкий разлив реки, над которым тихо садится багровое солнце; а там уже потянуло и холодом быстро наступающей летней ночи, и тихо зашелестела прибрежная осока, гнувшаяся под напором речной струи.
– В женщине прежде всего – кровь, порода, – говорил Половодов, раздвигая ноги циркулем. – На востоке женщина любит припадками и как-то уж слишком откровенно: все дело сводится на одну животную сторону. Совсем другое дело европейская женщина. В ней нет этой грязи, распущенности, лени; в ее присутствии все нервы в приятном напряжении, чувства настороже, а глаза невольно отдыхают на стыдливо прикрытых формах. Часто женщину принимаешь за девушку. Здесь все построено на пикантных неожиданностях, везде заманчивая неизвестность, и часто под опущенными стыдливо глазками, под детскими не сложившимися формами кроется самая знойная страсть. Вам которая из Бахаревых больше нравится? – неожиданно спросил Половодов.
Привалов совсем не слушал его болтовни и теперь смотрел на него с недоумением, не понимая вопроса; впрочем, Половодов сейчас же вывел его из затруднения и проговорил:
– Мне Верета больше нравится; знаете, в ней есть что-то такое нетронутое, как переход от вчерашней девочки к завтрашней барышне. Тогда пиши пропало все, потому что начнется это жеманство да кривлянье. Пойдемте в гостиную, – прибавил он, подхватывая Привалова, по своей привычке, под руку.
В гостиной Половодов просидел недолго. Попросив жену занять гостя, он извинился перед Приваловым, что оставит его всего на несколько минут.
– Ты, Александр, подвергаешь Сергея Александрыча ничем не заслуженному испытанию, – проговорила Антонида Ивановна, оставляя рояль.
– Вы несправедливы ко мне, Антонида Ивановна, – мог только ответить Привалов. – Я считаю за счастье…
– А?.. Чего? – спрашивал Веревкин, который спал на своем диванчике и теперь только проснулся. – А я так расчувствовался, что вздремнул под шумок… – Вы тут комплименты, кажется, говорите?
Под смех, вызванный этим маленьким эпизодом, Половодов успел выбраться из комнаты, и Привалов остался с глазу на глаз с Антонидой Ивановной, потому что Веревкин уплелся в кабинет – «додернуть», как он выразился.
– Почему вы думаете, Антонида Ивановна, что я избегаю вашего общества? – спрашивал Привалов. – Наоборот, я с таким удовольствием слушал ваше пение сейчас… Могу сказать откровенно, что никогда ничего подобного не слышал.
Антонида Ивановна внимательно посмотрела на Привалова, накинула на плечи оренбургский платок из козьего пуха и проговорила с ленивой улыбкой:
– Я не понимаю, как это хочется мужчинам говорить вечно одно и то же… Неужели нельзя обойтись без комплиментов?
Они прошли в знакомую Привалову голубую гостиную, но на этот раз Антонида Ивановна села очень далеко от своего гостя.
– Вы не рассказали мне еще о своем визите к Ляховским, – заговорила хозяйка, вздрагивая и кутаясь в свой платок. – А впрочем, нет, не рассказывайте… Вперед знаю, что и там так же скучно, как и везде!.. Не правда ли?
– Я не понимаю, что вы хотите сказать этим?
– Ах, самую простую вещь, Сергей Александрыч… Посмотрите кругом, везде мертвая скука. Мужчины убивают время, по крайней мере, за картами, а женщинам даже и это плохо удается. Я иногда завидую своему мужу, который бежит из дому, чтобы провести время у Зоси. Надеюсь, что там ему веселее, чем дома, и я нисколько не претендую на него…
Привалов заговорил что-то об удовольствиях, о чтениях, о занятиях, но Антонида Ивановна неожиданно прервала его речь вопросом:








