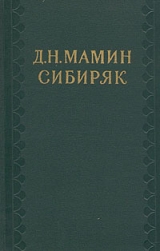
Текст книги "Том 2. Приваловские миллионы"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
XI
Приваловский дом стоял на противоположном конце той же Нагорной улицы, на которой был и дом Бахарева. Он занимал собой вершину горы и представлялся издали чем-то вроде старинного кремля. Несколько громадных белых зданий с колоннами, бельведерами, балконами и какими-то странной формы куполами выходили главным фасадом на небольшую площадь, а великолепными воротами, в форме триумфальной арки, на Нагорную улицу. Непосредственно за главным зданием, спускаясь по Нагорной улице, тянулся целый ряд каменных пристроек, тоже украшенных колоннами, лепными карнизами и арабесками. Сквозные железные ворота открывали вид на широкий двор, со всех сторон окруженный каменными службами, конюшнями, великолепной оранжереей. Это был целый замок в помещичьем вкусе; позади зеленел старинный сад, занимавший своими аллеями весь спуск горы. Привалова поразила та же печальная картина запустения и разрушения, какая постигла хоромины Полуяновых, Колпаковых и Размахниных. Дом представлял из себя великолепную развалину: карнизы обвалились, крыша проржавела и отстала во многих местах от стропил целыми полосами; массивные колонны давно облупились, и сквозь отставшую штукатурку выглядывали обсыпавшиеся кирпичи; половина дома стояла незанятой и печально смотрела своими почерневшими окнами без рам и стекол. Видно было, что крыша в некоторых местах была покрыта свежей краской и стены недавно выбелены. Единственным живым местом во всем доме была та половина, которую занимал Ляховский, да еще большой флигель, где помещалась контора; оранжерея и службы были давно обращены в склады водки и спирта. У Привалова сердце сжалось при виде этой развалины: ему опять страшно захотелось вернуться обратно в свои три комнатки, чтобы не видеть этой картины разрушения. Когда коляска Половодова с легким треском подкатила к шикарному подъезду, массивная дубовая дверь распахнулась, и на пороге показалась усатая улыбающаяся физиономия швейцара Пальки.
– Игнатий Львович дома? – спрашивал Половодов, взбегая на лестницу по ступенькам в темную переднюю.
– Дома, – почтительно вытянувшись, докладывал Палька. Это был целый гайдук в три аршина ростом, с упитанной физиономией, во вкусе старинного польского холопства.
Передняя походила на министерскую приемную: мозаичный мраморный пол, покрытый мягким ковром; стены, отделанные под дуб; потолок, покрытый сплошным слоем сквозных арабесок, и самая роскошная лестница с мраморными белыми ступенями и массивными бронзовыми перилами. По бокам лестницы тянулась живая стена из экзотических растений, а внизу, на мраморных пьедесталах, покоились бронзовые тритоны с поднятыми кверху хвостами, поддерживая малюток-амуров, поднимавших кверху своими пухлыми ручонками тяжелые лампы с матовыми шарами.
– У них Альфонс Богданыч, – предупредил Палька, помогая Половодову и Привалову освободиться от верхних пальто.
– Ничего… Альфонс Богданыч – главный управляющий Ляховского, – объяснил Половодов Привалову, когда они поднимались по лестнице.
Привалов издали еще услышал какой-то странный крик, будто где-нибудь ссорились бабы; крикливые, высокие ноты так и лезли в ухо. Заметив вопросительный взгляд Привалова, Половодов с спокойной улыбкой проговорил:
– Самая обыкновенная история: Игнатий Львович ссорится со своим управляющим… Ха-ха!.. Это у них так, между прочим; в действительности они жить один без другого не могут.
Когда они поднялись на вторую площадку лестницы, Половодов повернул к двери, которая вела в кабинет хозяина. Из-за этой двери и неслись крики, как теперь явственно слышал Привалов.
– Пожалуйте, Сергей Александрыч, – проговорил Половодов, распахнув дверь в кабинет.
Ляховский сидел в старом кожаном кресле, спиной к дверям, но это не мешало ему видеть всякого входившего в кабинет – стоило поднять глаза к зеркалу, которое висело против него на стене. Из всей обстановки кабинета Ляховского только это зеркало несколько напоминало об удобствах и известной привычке к роскоши; все остальное отличалось большой скромностью, даже некоторым убожеством: стены были покрыты полинялыми обоями, вероятно, синего цвета; потолок из белого превратился давно в грязно-серый и был заткан по углам паутиной; паркетный пол давно вытерся и был покрыт донельзя измызганным ковром, потерявшим все краски и представлявшимся издали большим грязным пятном. Несколько старых стульев, два небольших столика по углам и низкий клеенчатый диван направо от письменного стола составляли всю меблировку кабинета. Письменный стол был завален деловыми бумагами и расчетными книгами всевозможных форматов и цветов; ими очень искусно было прикрыто оборванное сукно и облупившаяся ореховая оклейка стола.
Наружность Ляховского соответствовала обстановке кабинета. Его небольшая тощая фигурка представлялась издали таким же грязным пятном, как валявшийся под его ногами ковер, с той разницей, что второе пятно помещалось в ободранном кресле. Несмотря на то, что на дворе стояло лето, почерневшие и запыленные зимние рамы не были выставлены из окон, и сам хозяин сидел в старом ваточном пальто. Его длинная вытянутая шея была обмотана шарфом. По наружному виду едва ли можно было определить сразу, сколько лет было Ляховскому, – он принадлежал к разряду тех одеревеневших и высохших, как старая зубочистка, людей, о которых вернее сказать, что они совсем не имеют определенного возраста, всесокрушающее колесо времени катится, точно минуя их. Такие засохшие люди сохраняются в одном положении десятки лет, как те старые, гнилые пни, которые держатся одной корой и готовы рассыпаться в пыль при малейшем прикосновении. Большая голова Ляховского представляла череп, обтянутый высохшей желтой кожей, которая около глаз складывалась в сотни мелких и глубоких морщин При каждой улыбке эти морщины лучами разбегались по всему лицу. Ляховский носил длинные усы и маленькую мушку под нижней губой; черные волосы с сильной проседью образовали на голове забавный кок. Синие очки не оставляли горбатого носа, но он редко смотрел в них, а обыкновенно поверх их, так что издали трудно было угадать, куда он смотрит в данную минуту. В высохшем помертвелом лице Ляховского оставались живыми только одни глаза, темные и блестящие они еще свидетельствовали о том запасе жизненных сил, который каким-то чудом сохранился в его высохшей фигуре. Альфонс Богданыч представлял полную противоположность рядом с Ляховским: толстый, с толстой головой, с толстой шеей, толстыми красными пальцами, – он походил на обрубок; маленькие свиные глазки юлили беспокойным взглядом около толстого носа.
– Вы хотите меня по миру пустить на старости лет? – выкрикивал Ляховский бабьим голосом. – Нет, нет, нет… Я не позволю водить себя за нос, как старого дурака.
– Успокойтесь, Игнатий Львович, – спокойно ответил Альфонс Богданыч, медленным движением откладывая на счетах несколько костяшек.
– Альфонс Богданыч, Альфонс Богданыч… вы надеваете мне петлю на шею и советуете успокоиться! Да… петлю, петлю! А Привалов здесь, в Узле, вы это хорошо знаете, – не сегодня-завтра он явится и потребует отчета Вы останетесь в стороне…
– Не то что явится, а уж явился, Игнатий Львович, – громко проговорил Половодов – Имею честь рекомендовать Сергей Александрыч Привалов, Игнатий Львович Ляховский…
– Ах, виноват… извините… – заметался Ляховский в своем кресле, протягивая Привалову свою сухую, как щепка, руку. – Я так рад вас видеть, познакомиться… Хотел сам ехать к вам, да разве я могу располагать своим временем: я раб этих проклятых дел, работаю, как каторжник.
Привалов пробормотал что-то в ответ, а сам с удивлением рассматривал мизерную фигурку знаменитого узловского магната. Тот Ляховский, которого представлял себе Привалов, куда-то исчез, а настоящий Ляховский превосходил все, что можно было ожидать, принимая во внимание все рассказы о необыкновенной скупости Ляховского и его странностях. Есть люди, один вид которых разбивает вдребезги заочно составленное о них мнение, – Ляховский принадлежал к этому разряду людей, и не в свою пользу.
– Вы приехали как нельзя более кстати, – продолжал Ляховский, мотая головой, как фарфоровый китаец. – Вы, конечно, уже слышали, какой переполох устроил этот мальчик, ваш брат… Да, да Я удивляюсь. Профессор Тидеман – такой прекрасный человек… Я имею о нем самые отличные рекомендации. Мы как раз кончили с Альфонсом Богданычем кой-какие счеты и теперь можем приступить прямо к делу… Вот и Александр Павлыч здесь. Я, право, так рад, так рад вас видеть у себя, Сергей Александрыч… Мы сейчас же и займемся!..
«Ну, этот без всяких предисловий берется за дело», – с улыбкой подумал Привалов, усаживаясь на место Альфонса Богданыча, который незаметно успел выйти из комнаты.
Половодов скрепя сердце тоже присел к столу и далеко вытянул свои поджарые ноги; он смотрел на Ляховского и Привалова таким взглядом, как будто хотел сказать: «Ну, друзья, что-то вы теперь будете делать Посмотрим!» Ляховский в это время успел вытащить целую кипу бумаг и бухгалтерских книг, сдвинул свои очки совсем на лоб и проговорил деловым тоном:
– Вы, господа, кажется, курите? Ведь вот были где-то у меня отличные сигары…
Он быстро нырнул под свой стол, вытащил оттуда пустой ящик из-под сигар, щелкнул по его дну пальцем и с улыбкой доктора, у которого только что умер пациент, произнес:
– Вот здесь была целая сотня… Отличные сигары от Фейка. Это Веревкин выкурил!.. Да, он по две сигары выкуривает зараз, – проговорил Ляховский и, повернув коробку вверх дном, печально прибавил: – Теперь ни одной не осталось…
– Не беспокойтесь, Игнатий Львович, – успокаивал Половодов, улыбаясь глазами. – Я захватил с собой…
– У меня тоже есть, – заметил Привалов; выходки Ляховского начинали его забавлять.
– Вот и отлично, – обрадовался Ляховский. – Я очень люблю дым хороших сигар… У вас, Александр Павлыч, наверно, регалии… Да? Очень хорошо… Веревкин очень много курит сигар.
После этого эпизода Ляховский с азартом накинулся на разложенные бумаги. Нужно сознаться, что он знал все дело, как свои пять пальцев, и артистически набросал картину настоящего положения дел по опеке. Как искусный дипломат, он начал с самых слабых мест и сейчас же затушевал их целым лесом цифровых данных; были тут целые столбцы цифр, средние выводы за трехлетия и пятилетия, сравнительные итоги приходов и расходов, цифровые аналогии, сметы, соображения, проекты; цифры так и сыпались, точно Ляховский задался специальной целью наполнить ими всю комнату. Привалов с напряженным вниманием следил за этим цифровым фейерверком, пока у него совсем не закружилась голова, и он готов был сознаться, что начинает теряться в этом лесе цифр. Чтобы перевести дух, он спросил Ляховского:
– Александр Павлыч мне говорил, что у вас есть черновая последнего отчета по опеке… Позвольте мне взглянуть на нее.
– Да, да… Есть, как же, есть. С большим удовольствием…
Ляховский мягкими шажками подбежал к окну, порылся в нескольких картонках и, взглянув в окно, оставил бумаги.
– Извините, я оставлю вас на одну минуту, – проговорил он и сейчас же исчез из кабинета; в полуотворенную дверь донеслось только, как он быстро скатился вниз по лестнице и обругал по дороге дремавшего Пальку.
– Посмотрите, Сергей Александрыч… Ха-ха!.. – заливался Половодов, подводя Привалова к окну. – Удивительный человек этот Игнатий Львович.
Половодов открыл форточку, и со двора донеслись те же крикливые звуки, как давеча. В окно Привалов видел, как Ляховский с петушиным задором наскакивал на массивную фигуру кучера Ильи, который стоял перед барином без шапки. На земле валялась совсем новенькая метла, которую Ляховский толкал несколько раз ногой.
– Вы все сговорились пустить меня по миру! – неестественно тонким голосом выкрикивал Ляховский. – Ведь у тебя третьего дня была новая метла! Я своими глазами видел… Была, была, была, была!..
– Она и теперь в конюшне стоит, – флегматически отвечал Илья, трогая одной рукой то место, где у других людей бывает шея, а у него из-под ворота ситцевой рубашки выползала широкая жирная складка кожи, как у бегемота. – Мне на што ее, вашу метлу.
– Да, да… Сегодня метла, завтра метла, послезавтра метла. Господи! да вы с меня последнюю рубашку снимете. Что ты думаешь: у меня золотые горы для вас… а?.. Горы?.. С каким ты мешком давеча шел по двору?
– Известно с каким: мешок обыкновенный с овсом…
– Хорошо, я сам знаю, что не с водой, да овес-то, овес-то куда ты нес… а?.. Ведь овес денег стоит, а ты его воруешь… а?..
– Ничего не ворую… вот сейчас провалиться, Игнатий Львович. Барышня приказали Тэку покормить, ну я и снес. Нет, это вы напрасно: воровать овес нехорошо… Сейчас провалиться… А ежели барышня…
– Барышня?! Знаю я вас, молодцов… Вот я спрошу у барышни.
Ляховский кричал еще несколько минут, велел при себе убрать новую метлу в завозню и вернулся в кабинет с крупными каплями холодного пота на лбу.
– Разоряют… грабят… – глухим голосом простонал он, бессильно падая в кресло и закрывая глаза.
– Мне кажется, что вы уж очень близко принимаете к сердцу разные пустяки, – заметил Половодов, раскуривая сигару.
– Пустяки?!. это пустяки?!. – возопил Ляховский, вскакивая с места с такой стремительностью, точно что его подбросило. – В таком случае что, по-вашему, не пустяки… а? Третьего дня взял новую метлу, а сегодня опять новая.
– Да ведь метла, Игнатий Львович, стоит у нас копейку.
– Ах, молодые люди, молодые люди… Да разве мне дорога самая метла? Меня возмущает отношение, – понимаете, отношение моих служащих к моим деньгам. Да… Ведь я давно был бы нищим, если бы смотрел на свои деньги их глазами. Последовательность нужна… да, последовательность! Особенно в мелочах, из которых складывается вся жизнь Сергей Александрович, обратите внимание: сегодня я спущу Илье, а завтра будут делать то же другие кучера, – все и потащат, кто и что успеет схватить. Метод, идея дороги: кто не умеет сберечь гроша, тот не сбережет миллиона… Да-с. Особенно это важно для меня: у меня столько дел, столько служащих, прислуги… да они по зернышку разнесут все, что я наживал годами.
– Извините меня, Сергей Александрыч. – прибавил Ляховский после короткой паузы. – Мы сейчас опять за дело…
– Может быть, вы устали, Игнатий Львович, – проговорил Привалов, – тогда мы в другой раз…
– Ах нет, зачем же. Во всяком деле важен прежде всего метод, последовательность…
Чтение черновой отчета заняло больше часа времени. Привалов проверил несколько цифр в книгах, – все было верно из копейки в копейку, оставалось только заняться бухгалтерскими книгами. Ляховский развернул их и приготовился опять унестись в область бесконечных цифр.
– Нет, уж меня увольте, господа, – взмолился Половодов, поднимаясь с места. – Слуга покорный… Да это можно с ума сойти! Сергей Александрыч, пощадите свою голову!
– Мне все равно, – соглашался Привалов. – Как Игнатий Львович.
– Ну и сидите с Игнатием Львовичем, – проговорил Половодов. – Я не могу вам принести какой-нибудь пользы здесь, поэтому позвольте мне удалиться на некоторое время…
– Куда же вы, Александр Павлыч? – спрашивал Ляховский с недовольным лицом. – Я просто не понимаю…
– Чего ж тут не понимать, Игнатий Львович? Дело, кажется, очень просто: вы тут позайметесь, а я тем временем передохну немножко… Схожу засвидетельствовать мое почтение Софье Игнатьевне.
Ляховский безнадежно махнул рукой на выходившего из комнаты Половодова и зорко поглядел в свои очки на сидевшего в кресле Привалова, который спокойно ждал продолжения прерванных занятий. Привалову больше не казались странными ни кабинет Ляховского, ни сам он, ни его смешные выходки, – он как-то сразу освоился со всем этим. Из предыдущих занятий он вынес самое смутное представление о действительном положении дел, да и трудно было разобраться в этой массе материала. Нужно было, по крайней мере, месяц поработать над этими счетами и бухгалтерскими книгами, чтобы овладеть самой сутью дела. Теперь задачей Привалова было ознакомиться хорошенько с приемами Ляховского и его пресловутой последовательностью. Василий Назарыч указал Привалову на слабые места опеки, но теперь рано было останавливаться на них: Ляховский, конечно, сразу понял бы, откуда дует ветер, и переменил бы тактику, а теперь ему поневоле приходилось высказываться в том или другом смысле. За Приваловым оставалось в этой игре то преимущество, что для Ляховского он являлся все-таки неизвестной величиной.
– Вот уж поистине – связался черт с младенцем, – ворчал Половодов, шагая по какому-то длинному коридору развязной походкой своего человека в доме. – Воображаю, сколько поймет Привалов из этих книг… Ха!..
По дороге Половодов встретил смазливую горничную в белом фартуке с кружевами; она бойко летела с серебряным подносом, на котором стояли пустые чашки из-под кофе.
– Кто у барышни? – спросил Половодов, загораживая дорогу и стараясь ухватить двумя пальцами горничную за подбородок с ямочкой посредине.
– Ах, отстаньте… – кокетливо прошептала девушка, защищаясь от барской ласки своим подносом. – Виктор Васильич, Лепешкин, наш барин…
– Понимаю, бесенок.
Потрепав горничную по розовой щеке, Половодов пошел дальше еще в лучшем настроении: каждое смазливое личико заставляло его приятно волноваться.
XII
Занятия в кабинете Ляховского продолжались недолго, потому что хозяин скоро почувствовал себя немного дурно и даже отворил форточку.
– Мы отложим занятия до следующего раза, Игнатий Львович, – говорил Привалов.
– Ах нет, зачем же… Мы еще успеем и сегодня сделать кое-что, – упрямился Ляховский и с живостью прибавил: – Мы вместо отдыха устроим небольшую прогулку, Сергей Александрыч… Да? Ведь нужно же вам посмотреть ваш дом, – вот мы и пройдемся.
– Я боюсь, что такая прогулка еще сильнее утомит вас.
– О, нисколько, напротив, я освежусь.
Привалов покорно последовал за хозяином, который своими бойкими маленькими ножками вывел его сначала на площадку лестницы, а отсюда провел в парадный громадный зал, устроенный в два света. Восемь массивных колонн из серого мрамора с бронзовыми базами и капителями поддерживали большие хоры, где могло поместиться человек пятьдесят музыкантов. Потолок, поднятый в интересах резонанса продолговатым овалом, был покрыт полинявшими амурами и широкими гирляндами самых пестрых цветов. Старинная бронзовая люстра спускалась с потолка массивным серым коконом. Стены, выкрашенные по трафарету, растрескались, и в нескольких местах от самого потолка шли ржавые полосы, которые оставляла просачивавшаяся сквозь потолок вода. Позолота на капителях и базах, на карнизах и арабесках частью поблекла, частью совсем слиняла; паркетный пол во многих местах покоробило от сырости, точно он вспух; громадные окна скупо пропускали свет из-за своих потемневших штофных драпировок. Затхлый, гниющий воздух, кажется, составлял неотъемлемую принадлежность этого медленно разлагавшегося великолепия.
– Этот зал стоит совершенно пустой, – объяснял Ляховский, – да и что с ним делать в уездном городишке. Но сохранять его в настоящем виде – это очень и очень дорого стоит. Я могу вам представить несколько цифр. Не желаете? В другой раз когда-нибудь.
– Да, думаю, что лучше в другой раз.
Ляховский показал еще несколько комнат, которые находились в таком же картинном запустении, как и главный зал. Везде стояла старинная мебель красного дерева с бронзовыми инкрустациями, дорогие вазы из сибирской яшмы, мрамора, малахита, плохие картины в тяжелых золоченых рамах, – словом, на каждом шагу можно было чувствовать подавляющее влияние самой безумной роскоши. Привалов испытывал вдвойне неприятное и тяжелое чувство: раз – за тех людей, которые из кожи лезли, чтобы нагромоздить это ни к чему не пригодное и жалкое по своему безвкусию подобие дворца, а затем его давила мысль, что именно он является наследником этой ни к чему не годной ветоши. В его душе пробуждалось смутное сожаление к тем близким ему по крови людям, которые погибли под непосильным бременем этой безумной роскоши. Ведь среди них встречались недюжинные натуры, светлые головы, железная энергия – и куда все это пошло? Чтобы нагромоздить этот хлам в нескольких комнатах… Привалов напрасно искал глазами хотя одного живого места, где можно было бы отдохнуть от всей этой колоссальной расписанной и раззолоченной бессмыслицы, которая разлагалась под давлением собственной тяжести, – напрасные усилия. В этих роскошных палатах не было такого угла, в котором притаилось бы хоть одно теплое детское воспоминание, на какое имеет право последний нищий… Каждый предмет в этих комнатах напоминал Привалову о тех ужасах, какие в них творились. Тени знаменитого Сашки, Стеши, наконец отца – вот что напоминала эта обстановка, на оборотной стороне которой рядом помещались знаменитая приваловская конюшня и раскольничья моленная.
– Эти комнаты открываются раз или два в год, – объяснял Ляховский. – Приходится давать иногда в них бал… Не поверите, одних свеч выходит больше, чем на сто рублей!
– Теперь нам остается только подняться в бельведер, – предлагал Ляховский, бойко для своих лет взбегая по гнилой, шатавшейся лестнице в третий этаж.
Привалов свободно вздохнул, когда они вышли на широкий балкон, с которого открывался отличный вид на весь Узел, на окрестности и на линию Уральских гор, тяжелыми силуэтами тянувшихся с севера на юг. Правда, горы в этом месте не были высоки и образовали небольшой угол, по которому бойко катилась горная речка Узловка. Она получила свое название от крутого колена, которое делала сейчас по своем выходе из гор и которое русский человек окрестил «узлом». Город получил свое название от реки, по берегам которой вытянул в правильные широкие улицы тысячи своих домов и домиков.
Вообще вид на город был очень хорош и приятно для глаз пестрел своими садами и ярко расписанными церквами. Это был бойкий сибирский город, совсем не походивший на своих «расейских» братьев. Видно, что жизнь здесь кипела ключом на каждом шагу. В густом сосновом бору, который широким кольцом охватывал город со всех сторон, дымилось до десятка больших фабрик и заимок, а по течению Узловки раскинулись дачи местных богачей. Привалов долго смотрел к юго-востоку, за Мохнатенькую горку, – там волнистая равнина тонула в мутной дымке горизонта, постепенно понижаясь в благословенные степи Башкирии.
– Бойкий город, не правда ли? – спрашивал Ляховский, прищуривая глаза от солнца. – Вы, я думаю, не узнали его теперь.
– Да трудно и узнать, потому что я почти все забыл за пятнадцать лет.
– А вот подождите, проведут к нам железную дорогу, тогда мы еще не так процветем.
Привалов промолчал.
– Теперь я покажу вам половину, где мы, собственно, живем сами, – говорил Ляховский, бойко спускаясь по лестнице.
Ляховский повел Привалова через анфиладу жилых комнат, которые представляли приятный контраст со всем, что приходилось видеть раньше. Это были жилые комнаты в полном смысле этого слова, в них все говорило о жизни и живых людях. Даже самый беспорядок в этих комнатах после министерской передней, убожества хозяйского кабинета и разлагающегося великолепия мертвых залов, – даже беспорядок казался приятным, потому что красноречиво свидетельствовал о присутствии живых людей: позабытая на столе книга, начатая женская работа, соломенная шляпка с широкими полями и простеньким полевым цветочком, приколотым к тулье, – самый воздух, кажется, был полон жизни и говорил о чьем-то невидимом присутствии, о какой-то женской руке, которая производила этот беспорядок и расставила по окнам пахучие летние цветы. Привалов настолько был утомлен всем, что приходилось ему слышать и видеть в это утро, что не обращал больше внимания на комнаты, мимо которых приходилось идти.
XIII
– Пожалуйте сюда, Сергей Александрыч, – проговорил Ляховский, отворяя перед Приваловым дверь на террасу, которая выходила на двор.
Терраса была защищена от солнца маркизой, а с боков были устроены из летних вьющихся растений живые зеленые стены. По натянутым шнуркам плотно вился хмель, настурции и душистый горошек. Ляховский усталым движением опустился на садовый деревянный стул и проговорил, указывая глазами на двор:
– Моя дочь, Зося…
С намерением или без всякого намерения, но едва ли Ляховский мог выбрать другой, более удачный момент, чтобы показать свою Зосю во всем блеске ее оригинальной красоты. Зося стояла в каком-нибудь десятке сажен от террасы На ней была темно-синяя амазонка с длиннейшим шлейфом Из-под синей шляпы с загнутым широким полем a la Rubens выбивались пряди бело-русых волос с желтоватым отливом. Привалов внимательно смотрел на эту захваленную красавицу, против которой благодаря именно этим похвалам чувствовал небольшое предубеждение, и принужден был сознаться, что Зося была действительно замечательно красива. Она принадлежала к тому редкому типу, о котором можно сказать столько же, сколько о тонком аромате какого-нибудь редкого растения или об оригинальной мелодии, – слово здесь бессильно, как бессильны краски и пластика.
«Неужели это ее отец?» – подумал он, переводя глаза на Ляховского, который сидел на своем стуле с полузакрытыми глазами, как подбитое молью чучело.
Ляховская была не одна. Рядом с ней стоял в своем сером балахоне Половодов; он всем корпусом немного подался вперед, как пловец, который вот-вот бросится в воду. По другую сторону Зоси выделялась фигура Виктора Васильича с сбитой на затылок шляпой и с выдававшейся вперед козлиной бородкой. Тут же, неизвестно зачем, стоял в своем кафтане Лепешкин. От расплывшейся по его лицу улыбки глаза совсем исчезли, и он делал короткие движения своей пухлой пятерней каждый раз, когда к нему обращалась Ляховская. В этой группе Привалов рассмотрел еще одного молодого человека с длинным испитым лицом и подгибавшимися на ходу тоненькими ножками; он держал в руке длинный английский хлыст. Этот молодой человек был не кто другой, как единственный сын Ляховского – Давид; он слишком рано познакомился с обществом Виктора Васильича, Ивана Яковлича и Лепешкина, и отец давно махнул на него рукой.
– Илья, короче держи корду! – командовала Ляховская.
Посреди двора на длинной веревке описывал правильные круги великолепный текинский иноходец светло-желтой масти. Илья занимал центр двора. Его монументальные руки, какие можно встретить только на памятниках разных исторических героев, были теперь открыты выше локтей, чтобы удобнее держать в руках корду; лошадь иногда забирала веревку и старалась сдвинуть Илью с места, но он только приседал, и тогда сорвать его с места было так же трудно, как тумбу.
– Обратите внимание на лошадь, – говорил Ляховский Привалову. – Это настоящий текинский иноходец, который стоит на месте, в Хиве, шестьсот рублей, да столько же стоило привести его на Урал.
– Действительно отличная лошадь, – согласился Привалов, знавший толк в лошадях.
– Да это что… вы посмотрите Тэке, когда он идет под дамским седлом.
– Ну-с, Тэке, подойди ко мне, – проговорила Ляховская, останавливая лошадь.
Тэке, мотнув несколько раз головой и звонко ударив передними ногами в землю, кокетливо подошел к девушке, вытянув свою атласную шею, и доверчиво положил небольшую умную голову прямо на плечо хозяйки.
– Напрасно вы, барышня, лошадь балуете, – проговорил Илья, почесывая за ухом концом веревки. – Это такая лошадь, такая… Ты ей корму несешь, а она ладит тебя ногой заразить или зубищами ухватить за шиворот.
– Отчего же Тэке не заразил ногой берейтора? – спрашивала Ляховская, гладя лошадь своей маленькой крепкой рукой, затянутой в шведскую серую перчатку.
– Берейтор, известно… он, конечно, Софья Игнатьевна, жалованье большое получал… это точно, а проехать-то и я не хуже его проеду.
Тэке наконец был отпущен с миром в свою конюшню, и вся компания с говором и смехом повалила за хозяйкой в комнаты. Один Лепешкин на минуту задумался и начал прощаться.
– Что же это вы, Аника Панкратыч? – удивилась Ляховская.
– Да уж так-с, Софья Игнатьевна. Никак не могу-с… Как-нибудь в другой раз, ежели милость будет.
– Отчего же не теперь? Может быть, у вас дела?
– Нет, делов особенных нет…
– Аника Панкратыч боится Игнатия Львовича, – объяснил Половодов, показывая глазами на террасу.
– Ах, вот в чем дело… – засмеялась Ляховская. – А слыхали пословицу, Аника Панкратыч: «в гостях воля хозяйская…»
– Как не слыхать, Софья Игнатьевна, – отвечал Лепешкин, щуря глаза. – Другая еще есть пословица-то…
– Какая?
– Гм… Старые люди так говорили: «гости – люди подневольные, – где посадили, там и сидят, а хозяин, что чирей: где захочет, там и сядет».
Ляховская хохотала над этой пословицей до слез, и ее смех напоминал почему-то Привалову рассказ Виктора Васильича о том, как он выучил Зосю ловить мух. Виктор Васильич и Давид успели подхватить Лепешкина «под крыльца» и без церемонии поволокли на лестницу.
– Ох, поясницу мне изведете, ежовые головы, – хрипел Лепешкин, напрасно стараясь освободиться. – И чего тащат… Тятенька придет и всю артель разорит.
XIV
– Идемте завтракать, Сергей Александрыч, – предлагал Ляховский и сейчас же прибавил: – Я сам не завтракаю никогда, а передам вас на руки дочери…
Они вошли в столовую в то время, когда из других дверей ввалилась компания со двора. Ляховская с улыбкой протянула свою маленькую руку Привалову и указала ему место за длинным столом около себя.
– А у меня дела, Сергей Александрыч, извините, пожалуйста, – говорил Ляховский, трусцой выбегая из комнаты.
– Вы извините papa, у него действительно столько дела, – жеманно проговорила Зося. – Вы что там смеетесь, Аника Панкратыч?
– Он радуется, что Игнатий Львович вышел, – объяснил Половодов, пристально наблюдавший Привалова все время.
– А оно точно… – ухмылялся Лепешкин, жмуря глаза, – всю обедню бы извели… Уж вы, Софья Игнатьевна, извините меня, старика; тятенька ваш, обнаковенно, умственный человек, а компанию вести не могут.
– У вас хорошая привычка, Аника Панкратыч, – заметила Ляховская, гремя ножом, – вы говорите то, что думаете…
– Значит, «люблю молодца за обычай»? Ох-хо-хо! – захрипел Лепешкин, отмахиваясь рукой.
Это странное общество и сама молодая хозяйка заинтересовали Привалова. И в тоне разговора, и в обращении друг к другу, и в манере хозяйки держать себя – все было новостью для Привалова. Ляховская обращалась со всеми с аристократической простотой, не делая разницы между своими гостями. Привалова она расспрашивала как старого знакомого, который только что вернулся из путешествия. Половодов выбивался из сил, чтобы вставить несколько остроумных фраз в этот беглый разговор, но Ляховская делала вид, что не замечает ни этих остроумных фраз, ни самого автора. Сначала Половодов относился к этому равнодушно, а потом обиделся и замолчал. Ему казалось, что Зося приносила его в жертву приваловским миллионам; против этого он, собственно, ничего не имел, если бы тут же не сидели этот сыромятина Лепешкин и Виктор Васильич.








