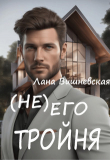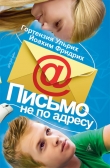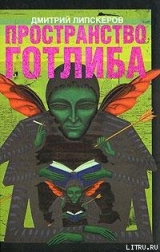
Текст книги "Пространство Готлиба"
Автор книги: Дмитрий Липскеров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
ПИСЬМО СЕДЬМОЕ
Отправлено 30-го ноября
по адресу: Москва, Старый Арбат, 4.
Евгению Молокану.
Дорогой Евгений!
Если еще недавно я была уверена, что вы меня в силу каких-то причин мистифицируете, то сейчас всеполностью убеждена в достоверности происходящих с вами событий!
Прочтя ваше письмо, я тотчас натянула на руки резиновые перчатки, которыми пользуются во всем мире уборщицы, а также посудомойки, и выкатилась на своей коляске на улицу. Погода сейчас стоит промозглая, самая что ни на есть осенняя, а перчатки оберегают руки от грязи, от мерзкого проникновения ее под самую кожу… Честно сказать, я направилась в шавыринскую библиотеку, где заказала себе медицинскую энциклопедию. Пролистав ее в нужном месте, я так и не нашла Hiprotomus'a Viktotolamus'a, а потому, собравшись с силами, доехала до местной клиники.
Откровенно говоря, делать мне это вовсе не хотелось, так как мой врач, Ангелина Войцеховна, женщина лет сорока пяти, отличается суровостью характера, переизбытком мужских гормонов в мыслях, а вследствие этого некими нетрадиционными пристрастиями к особям женского пола, с каковыми частенько приходится бороться, дабы не стать их жертвой. К этой характеристике можно еще присовокупить, что она на досуге исполняет обязанности медэксперта в уголовной полиции нашего поселка.
– Ах, милочка моя! – Ангелина Войцеховна наполняет свой взгляд безмерным состраданием. – Сколь несправедливо бытие! Как зачастую сурово обходится с нами жизнь! Сколь часто я вас вижу, столь мне хочется приласкать вас, обнять крепенько! Как вам, вероятно, трудно приходится, когда нет рядом сильного друга, способного облегчить ваши страдания и утолить жажду чувственного наслаждения!
– Ангелина Войцеховна! – отвечаю я в таких случаях. – Я девушка сильная и справлюсь с трудностями. Да и тело мое в том месте, которое вас интересует, ничего не чувствует вовсе, поэтому я в такие минуты представляю из себя хоть и красивый, но все же труп! Я же вам об этом говорила!
– Это правда? – всякий раз спрашивает врачиха.
– Абсолютная, – подтверждаю.
– Ах, несчастная! Неужели – труп! – вздыхает она, и на этом обычно заканчиваются ее маленькие странности.
Дорогой Евгений!
Сейчас я вам косвенно призналась, что мне, к несчастью, недоступны некоторые женские радости, но я вовсе не стесняюсь этого перед вами, так как знаю, что и вы спинальный больной, что и ваши бедра холодны и нечувствительны, как мрамор… Однако мы с вами люди сильные и на своем опыте знаем, что чувствительность нервных окончаний не есть самое главное в природе ощущений. Есть еще и душевные окончания, способные ощущать более тонкие материи… Однако в сторону отступления!
Я поинтересовалась у Ангелины Войцеховны Hiprotomus'oм Viktotolamus'oм, и она подтвердила существование такого насекомого, крайне редко встречающегося в природе.
– А что такое? – спросила она вяло. – Откуда вы знаете про него?
– Да ничего, собственно. В научно-популярной периодике встретился.
– Ага, – поняла врачиха и потеряла ко мне всяческий интерес.
Не знаю, Евгений, жалеть мне вас или, наоборот, завидовать. Если верить столь небольшой статистике об этом насекомом и применить ее к вам, то следует, что в вашем организме могут происходить и, вполне вероятно, уже происходят изменения, способные развеять скуку. Пример тому – случай с мальчишкой!.. Поэтому советую вам не вешать носа, а наоборот, настраиваться на самое интересное будущее, о котором мне важно знать все!
На этот раз не собираюсь жаловаться на свою скуку, так как и следа от нее не осталось. Во-первых, мне очень помогают ваши письма, без которых я уже вряд ли представляю свое существование. Нет, правда! Особенно меня вдохновила описанная вами эротическая сцена. Вы подали ее так тонко и неплотоядно, а вместе с тем чувственно, что я удостоверилась в вашей мужской сущности и в том, что, несмотря на несчастие, происшедшее с вами, мужское сохранилось в вас, не претерпев роковых изменений.
Очень болела за вас, когда читала те строки, в которых вы говорите врачу, что причина вашей неподвижности – стрела!
Я знаю об этом, вернее, я читала и смотрела различные кинофильмы о том, как японцы стреляют из своих национальных луков в русских. Еще я знаю, что делают они это в исключительных случаях, когда хотят выказать особое уважение к врагу, к его будущей смерти. Если я правильно информирована, самураи практикуют два вида стрел – серебряные и золотые. Золотые берегутся для особо выдающегося солдата. Если это не секрет, то напишите мне, пожалуйста, какой стрелой вам повредили позвоночник…
Третьего дня мне пришел телевизор. Ах, да!.. Я же вам еще не сказала, что выписала телевизор по почте. И представьте себе, раздается утром звонок, и рабочие вносят его, черный и большой, в мой дом. Руководила рабочими почтальонша Соня, очень тактичная к моему недугу, а оттого желающая быть мне другом. Люди маленького роста почему-то всегда хотят дружить, и Соня тоже не исключение. А я вовсе не против переброситься словечком-другим с кем-нибудь на досуге.
– Я очень рада за вас, Анна! – сказала Соня, когда мы выбрали для телевизора место около зеркала и, включив его, уселись за столом выпить по рюмочке. – Я, честно говоря, боялась, что вы окончательно затоскуете. А так хоть будете следить за событиями, происходящими в мире.
– Вот что, Соня! – сказала я почтальонше, щелкая пультом. – Тут я как-то нашла на пороге дома ящик или футляр. Не знаю, что с ним делать.
– Какой ящик? – удивилась Соня.
– Да вот он стоит, у дверей! Странный какой-то!..
Соня приблизилась к футляру и принялась рассматривать его, впрочем не приближаясь вплотную.
– Бархатом обит черным! – констатировала почтальонша. – Чего в нем странного?
– Есть ли у нас в Шавыринском стол находок?
– Нету, – уверенно ответила Соня. – У нас в Шавыринском никогда не было стола находок. Открывали?
– Нет, – ответила я, снова щелкнув пультом.
– Зря.
– Вещь чужая.
– Но ведь хозяина нет, – возразила Соня, присев на корточки и поглаживая бархат футляра ладонью. – А что, если в ящике взрывное устройство?!.
– Какие глупости, Соня! – рассмеялась я.
– Зря смеетесь! – обиделась почтальонша. – Японцы во время войны такие штучки выделывали! Вот мой брат Владимир Викторович был сапером во время войны…
– Война пять лет назад закончилась! – прервала я. – И потом, если в ящике бомба, зачем его открывать? Ведь взорвется же! В ваших словах нет логики!
– Это верно, – согласилась Соня, убирая от ящика руки. – Логики мало… Может быть, брата позвать?.. И потом, что будете делать с футляром?
– Не знаю, подожду несколько дней, вдруг хозяин объявится. А брата звать нет необходимости.
– Может, и объявится, – согласилась почтальонша, раскланиваясь в дверях. – Вы бы хоть газетку какую выписали или журнальчик иллюстрированный!
– Так у меня же теперь телевизор!
– Телевизор телевизором, а пресса прессой! Ну да дело ваше!
Соня ушла, а я четыре часа кряду просидела перед телевизором, смотря наперебой все каналы, отрывая по пять минут от каждого, словно боясь пропустить что-нибудь интересное, чего уже никогда не увижу.
Поздним вечером, лежа в своей кровати, я прислушивалась к звукам осеннего дождя. Люблю осенний дождь. Есть в нем какой-то драматизм, какое-то бесконечное уныние, тоска по потерянному цветению. Тихое "ш-ш-ш-ш" за окном убаюкивает, и кажется, что все цветные минуты жизни уже позади, что осталось время лишь для того, чтобы осмыслить красочные мгновения и признаться – принесли ли они тебе удовлетворение или оставили даже воспоминания обездоленными… Ах, далее я заставляю себя не думать, так как очень боюсь неутешительных для себя признаний. В такие минуты хочется безудержно рыдать, ища мокрым носом руки матери, тыкаться ей в грудь, чтобы она защитила тебя, приласкала, отогнав лишь одной улыбкой твои проблемы и посмеявшись над ними, как над несуществующими мифами, успокоила бы, что жизнь твоя только начинается, что все еще впереди, и радости еще придут, и настоящие невзгоды…
Моя грусть по матери постепенно прошла, растворилась в тихом шорохе дождя, оставив лишь сладкое, щемящее чувство жалости к себе. Так жалеет себя ребенок, которого несправедливо обидели, и он обещает еще всем доказать свою исключительность.
Ах, мамочка моя, мамочка!
Неожиданно странный звук привлек мое внимание. Как будто что-то треснуло или надломилось.
Может быть, кто-то ходит под окнами? – предположила я и замерла, вслушиваясь в улицу. – Какая-нибудь веточка хрустнула под ногой незнакомца?..
Но все было тихо в природе, лишь стекала с неба вода, унося в недра земли следы осеннего тления.
Вероятно, мне показалось, успокоилась я и почти уже заснула, как вдруг звук повторился, и на сей раз я поняла, что рожден он вовсе не за окном, а происходит как раз в моей комнате.
Бывают такие моменты, когда пугаешься совершенно жутким образом, когда захватывает все твое существо волна ужаса и никакие вмешательства рассудка не способны удержать тебя от животного страха. Ты находишься во власти химических процессов и цепенеешь до тех пор, пока организм не привыкнет к адреналину.
Именно таким образом испугалась я. Сжав простыни, приподнялась на руках в кровати и с раскрытым ртом ждала то ли повторения звука, то ли появления в своей комнате чего-то ужасного. Шея моя вспотела, живот окаменел, а глаза вглядывались в темноту, напрягаясь до лопающихся сосудов, стараясь вычислить в ночи место, где прячется это "что-то" и откуда последует нападение.
Надо включить свет! – вертелось у меня в мозгу. – Включить свет!
Но вместе с этим я боялась даже шевельнуться, словно надеялась, что, если замру, меня не смогут обнаружить, как будто моя неподвижность станет лучшим камуфляжем и спасет меня.
Щелк, щелк! – раздалось в комнате отчетливо.
Такой звук получается, когда щелкают пальцем о палец, подзывая кого-нибудь. Глаза у меня были на мокром месте, сердце трепыхалось, я хотела закричать, но горловой спазм помешал это сделать, я лишь зашипела отчаянно, зажмурилась и приготовилась к самому ужасному.
Щелк, щелк!
– Мамочка, мамочка! – зашептала я.
Щелк, щелк! – казалось, раздавалось над самым ухом.
Да что же это в самом деле! – внезапно разозлилась я. – Какого черта я испугалась! Да и кого, в конце концов!
Я открыла глаза, нащупала рукой выключатель и с силой нажала на кнопку, впуская в комнату свет. Второй рукой я инстинктивно прикрыла лицо, как бы защищаясь от предполагаемого удара, но, когда стоваттная лампочка осветила все углы, обнаруживая в каждом привычную пустоту безо всяких угроз и посторонних, я внезапно засмеялась тихонько, чувствуя, как сердце постепенно замедляет свой ход, а плечи остывают от жаркого пота.
Какая все-таки глупость – ночные страхи! – подумала я с удовольствием и радостно посмотрела на большой черный телевизор, сейчас молчащий и с нетерпением ожидающий следующего утра.
Щелк, щелк! – раздалось снова.
Сердце мое забилось с удвоенной силой, но теперь было светло, и я держала себя в руках, вершок за вершком оглядывая комнату. Стол стоит как обычно, шкаф с одеждой на месте, зеркало, отцовская гитара на стене, черный футляр…
Щелк, щелк!
И я поняла!.. Я наконец поняла – звуки исходят из этого ящика, из этого футляра, так скромно стоящего возле двери. Это из него что-то щелкает, как будто призывая к чему-то.
Что же это может быть? – спрашивала я себя. – Какое-нибудь животное? Птица какая-нибудь щелкает клювом, призывая на помощь? Попугай, например… Или часы… Господи! – внезапно осенило меня. – Что, если Соня права, и в ящике мина, которая по какой-то причине заработала и вот-вот взорвется! Не зря ли я отказалась от помощи Владимира Викторовича?..
Щелк, щелк!
Нет, – решила я, отметая версию с миной. – Так часовой механизм не работает. Да и кому надо меня взрывать! Обойдемся без Владимира Викторовича! Нечего сидеть, надо набраться смелости и проверить в конце концов, что в этом ящике!
Я перебралась с кровати на коляску и подкатилась к футляру. Он стоял на том же месте, что и накануне, но сейчас от него исходило что-то зловещее, пугающее, или мне так только показалось после пережитых страхов.
Я обернулась на окно, штора была распахнута, давая возможность свежему воздуху спокойно проникать в комнату, и я подумала, что если кто-то сейчас смотрит в мое освещенное окно, то, вероятно, перед ним открывается странное зрелище – абсолютно голая женщина с нечесаными волосами в кресле-каталке раскатывает среди ночи по дому… Я похожа сейчас на ведьму…
Щелк, щелк!
Я смотрела на бархатный футляр, словно хотела проникнуть сквозь его стенки, осветить рентгеновскими лучами своих глаз таинственные внутренности, щелкающие непонятно чем, и тут мне стало ясно, почему он показался вначале странным.
На нем же нет никаких запоров! – удивилась я. – Ни одного замочка или щеколдочки! Как же он тогда открывается?!
Я провела по верху футляра ладонью, но ни выпуклостей, ни каких-нибудь скрытых кнопочек или крючочков не обнаружила. Ничего подобного не было ни с боков, ни даже на дне. Я попыталась отыскать хотя бы щель между крышкой и футляром, но и ее не существовало. Только ноготь с треском обломила.
Щелк, щелк! – донеслось из футляра вновь.
Да и черт с тобой! – разозлилась я. – Хочешь щелкать – делай это во дворе! Буду я с тобой церемониться!
Я вытолкнула ящик в коридор, затем, открыв входную дверь, столкнула его с крыльца в темноту. Он прокатился по ступеням и скрылся в крыжовенных кустах.
– Вот так! – сказала я с удовлетворением.
А засыпая, подумала, что если в ящике какой-нибудь ценный музыкальный инструмент, то он непременно погибнет под дождем.
Должна сказать вам, Евгений, что у меня особое отношение к музыкальным инструментам. Мой отец, Фридрих Веллер, был гитарных дел мастером, известным во всей Европе, и после него в моей собственности сохранился один инструмент, который я решила никогда не продавать, какие бы жизненные невзгоды ни преследовали меня.
Знаете, Евгений, в чем заключался гений моего отца? Он был самоучкой. Ни его отец, ни дед даже не обладали музыкальным слухом, а уж о том, чтобы смастерить какую-нибудь скрипочку или на худой конец вырезать из орешника дудочку для ребенка, – об этом и речи быть не могло. И дед и прадед мои были обыкновенными немецкими столярами, проживая жизнь на свое нехитрое рукоделие в местечке Менцель, что находилось в русской стороне в двадцати верстах от города Морковина. Их руки были приспособлены для примитивного столярного дела. Казалось, что красные толстые пальцы могут только сжиматься и разжиматься на ручках рубанка, выстругивая кондовые столы и табуреты к ним. Похожие на ветки деревьев, узловатые и распухшие, эти персты вряд ли могли ласкать или даже щекотать, так они были примитивно устроены.
Помимо отца в семье жили еще четверо детей, и все они были младше Фридриха, к тому же произошли девочками, что не предвещало повышения материального благополучия в семье. За девочками нужно будет давать приданое, а где его взять в достатке, когда за любую работу в Менцеле платят сущие гроши.
Когда отцу исполнилось девять лет, город Морковин посетила труппа бродячих гитаристов-венгров, и вечером в балаганном концерте маленький Фридрих впервые услышал музыку. Также он увидел, с помощью чего эта музыка возникает. Мальчика до глубины души поразило, что из обыкновенных деревяшек, хоть и умело составленных, получаются столь божественные, столь созвучные его душе песни. После концерта, которым руководил маленький лысый человек, он долго не мог прийти в себя – слабел на обратном пути, бледнел за ужином, затем раскалялся весь вечер и чуть было даже не заболел нервно, продрожав всю следующую ночь под одеялом и бредя пальцами музыкантов, рождающими музыку. Тряска продолжилась и утром, охватив все тело мальчика, а также челюсти, жутко клацающие зубами и угрожающие перекусить язык.
Дабы не потерять единственного ребенка мужеского пола, мой дед еще засветло решил отвести Фридриха к музыкантам, чтобы те объяснили происхождение нервной трясучки и немедленно предоставили рецепт избавления от нее. На всякий случай дед прихватил с собою ружье, заряженное картечью, – пригодится, если венгерское отребье не вылечит сына от трясуна, – взвалил мальчика на плечи и отправился в Морковин.
Каково же было удивление главы семьи, когда в месте расположения венгерского оркестра в предрассветном тумане он увидел вповалку лежащих музыкантов. Их синюшные лица были в запекшейся крови, а рядом валялись изломанные в щепки гитары.
– Что здесь произошло? – поинтересовался дед у кассирши Гретхен, зевающей в билетной будке.
– Перепились и передрались, – ответила кассирша. – Теперь трое суток будут спать. А, может, кто и того!.. – Гретхен ткнула пальцем в небо. – На том свете уже спит!..
– Мальчика у меня от них трясет, – пожаловался дед.
– От них всех трясет! Стольких девок ночью перемяли! Если бы не лейтенант Штеллер со своими солдатами, то не знаю, чем бы все кончилось.
– Мальчика у меня трясет, – повторил дед. – После их концерта и затрясло. Не знаю, что и делать… Думал, они помогут.
Он указал на пьяных и избитых музыкантов и, расстроившись от этой картины окончательно, просто махнул рукой, поднял сына на плечи и хотел было идти обратно в свой Менцель.
– Эй! – позвала Гретхен. – Подожди!.. Есть тут один… Живой и не пьяный.
Из-за спины кассирши, потупив глаза, выскользнул маленький лысый венгр и, виновато улыбаясь, спросил деда на русском языке, что тому надо.
– Ты вот что!.. – начал дед, опять опуская Фридриха на землю. – После вашей музыки сын у меня заболел. Не вылечишь – застрелю!
Лысый венгр побледнел после таких неожиданных слов, сам затрясся всем телом и залепетал отчаянно, что вовсе не лекарь он, что предназначения он другого – руководитель он оркестра, а лечить не умеет, и в доказательство тому вытащил из-под пиджака малюсенькую гитару и ловко перебрал ее струны пальцами, отчего получилась музыка.
– А верхнюю деку сломали! – пояснил он жалобно и показал на трещину возле грифа.
– Ты мне зубы не заговаривай! – сказал дед властно и снял с плеча ружье. – Будешь лечить мальчика? Последний раз спрашиваю! После вашего концерта заболел он!
– Лечить не умею! – возопил музыкант. – Поговорить попробую!
– Делай что хочешь, но чтобы мальчишку не трясло! – решил дед и поводил для острастки ружейными стволами. – Полчаса даю!
Сопроводив венгра и сына в балаган, в котором проходил накануне концерт, он оставил их наедине в еще наполненном терпким запахом пота помещении.
Музыкант усадил трясущегося Фридриха на лавку и некоторое время смотрел, как стучатся локти о ее спинку, вторя барабанной дроби клацающих зубов.
– Что же с тобой такое приключилось? – с недоумением спросил венгр. – Музыка на тебя так подействовала?
– М-м-му-зыка, – подтвердил мальчик.
– И что, не можешь остановиться?
– Не м-м-могу.
– Тебя как зовут?
– Фрид-д-дрих.
– А меня Геза. – Венгр протянул руку и крепко сжал ею трясущуюся ладонь мальчика. – Будем знакомы. Тебе сколько лет?
– Дев-вять.
– А мне пятьдесят, – грустно сказал венгр и покачал лысой головой. – Все проходит… И оркестра у меня больше нет! – Он протяжно вздохнул. – Ты что же, хочешь музыкантом стать?
– Не-а, – ответил Фридрих.
– Как нет?! – удивился Геза. – А что же тогда?
– Х-х-хочу эти штуки делать, – сказал Фридрих.
– Какие штуки? – не понял Геза.
– Из к-к-которых м-м-музыка происх-х-ходит.
– Гитары, что ли?
– Ага.
– Вот невидаль! – удивился музыкант. – Какое странное желание! – Он почесал в затылке, и неожиданно в глазах у него просветлело. – Если хочешь делать, так делай! – Венгр состроил серьезное лицо, перекрестил мальчика трижды и торжественно произнес:
– Сегодня, третьего числа восьмого месяца, Фридрих… э-э-э… как фамилия твоя?..
– В-в-веллер, – ответил мальчик, разглядывая со вниманием музыканта.
– Итак, третьего числа, восьмого месяца, – продолжил Геза, – Фридрих Веллер, рожденный в…
– В Мен-нцеле.
– Рожденный в Менцеле, производится в гитарных дел мастера! И коим быть ему суждено до гроба!
В тот самый миг, когда лысый венгр закончил произносить свою торжественную речь, произошло великолепное психологическое чудо. Поняв свое предназначение, уверившись в нем, как будто желание зрело долгие годы, а музыкант его лишь озвучил, Фридрих неожиданно перестал трястись и клацать зубами. Он сдержанно поблагодарил своего крестного и предложил отремонтировать его поврежденную гитару.
Геза чуть было не поперхнулся от неожиданности, но удержал себя, счастливый тем, что произошло чудесное исцеление и ему не грозит сегодня пасть от картечного заряда.
Пусть мальчишка чинит гитару, решил он. Все равно инструмент испорчен и придется покупать новый.
– Держи! – опять торжественно произнес лысый венгр и протянул инструмент. – Очень дорогой работы, редкого таланта мастер делал! – соврал он и, подыгрывая себе, поинтересовался: долго ли продлится ремонт?
– Да дня два продлится, – ответил Фридрих. – А может, и все три. Как готово будет, сам принесу.
– Ну-ну, – ответствовал Геза, почувствовав, как от предыдущих переживаний немного ослабели все его члены, как размякли ляжки и холодные ягодицы, и, дабы взять себя в руки и взбодриться, он запредставлял себе, как вернется в билетную будку к Гретхен и помнет ее худосочные телеса, начиная с откляченного зада и кончая впалым передом. – Ну-ну, – повторил он мечтательно. – Так до пятницы, значит…
Последующие два дня Фридрих не выбирался из мастерской. Он укрепил поврежденную гитару в столярные тиски, предварительно обвязав их губы пуховыми подушками, дабы не царапали лакировку, снял металлические струны и осторожно, с помощью острейшей стамески, срезал верхнюю деку. Затем зачистил шкуркой музыкальную фанеру, продвигаясь по конфигурации трещины, отполировал специальной щеточкой края и, совместив дерево в месте поломки, отправился в кухню варить клей.
Откуда он знал, как это делать, – одному Богу известно. Какое-то могучее влечение руководило им! Как будто губы самого Всевышнего нашептывали ему на ухо рецепты, но Фридрих добавлял в обычный столярный клей какие-то травы, найденные им по запаху тут же, на сеновале, плавил пчелиный воск, кроша в него куриный помет, а затем все смешивал, доводя до кипения на медленном огне, и пробовал с помощью маленькой ложечки на вкус…
Когда подошел к концу второй день, когда сваренный лак остыл до температуры осеннего дня, Фридрих смазал янтарной жидкостью края, а также трещину верхней деки и, уложив ее на прежнее место, стал поджидать, пока отремонтированная гитара просохнет.
К концу третьего дня мальчик в сопровождении своего отца появился в Морковине и протянул ошеломленному венгру починенный инструмент.
– Только вот струны я не умею натягивать, – пожаловался он.
– Так это ничего! Это я сам! – затараторил Геза, бросая на Фридриха испуганные взгляды и натягивая на костяные колки извивающиеся струны. – Что ж я, помочь не могу!.. Совсем без рук, что ли!
Через некоторое время, когда все было отлажено по строгим музыкальным законам, когда установилась тишина, лысый венгр откашлялся, зачем-то посмотрел в небо, вдарил затем отчаянно по струнам и превратился в музыканта-виртуоза.
Фридрих восторженно слушал испанские переливы, роняя слезы на черную землю, а Геза, закатив в экстазе глаза, улыбался во весь рот, выделывая тонкими пальцами немыслимые пассажи и отправляя чистейшие созвучия жаркого танго напрямик к своему венгерскому Богу.
Когда он напоследок хлопнул по струнам, прижимая их в окончание, худая Гретхен захлопала восторженно в ладоши, а отец Фридриха, застеснявшись, хмыкнул в кулак.
– Этот мальчик – гений! – прошептал Геза. – Он обладает великим талантом! Моя гитара никогда не звучала так, даже когда ее новенькую, двадцать лет назад, вложили в мои руки! Это поистине чудо! Сейчас мы стали свидетелями рождения великого мастера!
Геза встал во весь рост, поднял над головой гитару и закричал громогласное "ура".
– Ура-а-а! – подхватили остальные.
Таким образом, дорогой Евгений, и произошел из моего отца гитарных дел мастер.
К двадцати пяти годам Фридрих произвел на свет тридцать шесть чудесных инструментов, и два из них даже приобрел наследный принц Иордании, известный в мире гитарист. У меня сохранилось письмо Его Королевского Высочества, в котором тот по-детски восторженно хвалит отца и Бога за то, что они совместно потрудились, создав столь великолепные инструменты.
Благодаря своей трудной работе отец сумел скопить несколько денег, перевезти семью в Петербург и выдать четырех сестер замуж, дав за ними приличное приданое. Сам Фридрих женился намного позже, когда ему было почти тридцать. Его женой и моей матерью стала великолепная красавица Кэтрин, герцогиня Мравская, к которой сватались первые мужчины Европы, а она, ко всеобщему разочарованию, пожертвовала свое сердце простому, хоть и гениальному, гитарных дел мастеру. Через девять месяцев после скромной свадьбы Кэтрин скончалась при родах, оставив в воспоминание отцу лишь новорожденную меня, которая обещала через полтора десятка лет своею красотою возродить облик безвременно ушедшей жены.
Как-то, в один из летних дней, когда мне уже исполнилось семнадцать и я закончила первый курс медицинского института, в наш дом постучался огромного роста незнакомец с черной как смоль шевелюрой, с мускулистыми руками робота и попросил моего отца сконструировать ему гитару.
– Кто вы такой? – поинтересовался отец.
– Я – музыкант, – ответил незнакомец, косясь своими черными глазами на меня.
– Как ваше имя?
– Бутиеро Аполлосис.
– Редкое для наших мест имя. Откуда вы родом?
– Я – грек. Но мать моя испанка.
– Что вы делаете в Петербурге?
– Учусь в консерватории.
– Понятно, – кивнул головой отец. – А вы знаете, что мои инструменты чрезвычайно дороги?
– Мой отец – апельсиновый король Греции, Димас Аполлосис, – с гордостью произнес гость, блеснув с пальца бриллиантовым перстнем, и опять с любопытством посмотрел на меня. – Я его единственный наследник!
– Понятно.
Отец на несколько минут вышел и вернулся в гостиную, неся в руках гитару, исполненную в манере испанских мастеров – со слегка удлиненным грифом.
– Покажите, что умеете! – предложил он, протягивая инструмент Бутиеро.
– Что, прямо сейчас?
– Вы стесняетесь? Вам должны были рассказывать, что я конструирую инструменты только для виртуозов. Причем меня мало интересует чистая техника. Нужна душа! Виртуозность в сочетании с чувством. Это редкость.
– Я вовсе не стесняюсь!
Бутиеро взял из рук отца гитару, на несколько секунд закрыл глаза, настраиваясь, а потом заиграл что-то очень нежное и бережное, так что сладкая волна накатила на мое сердце и я ласково посмотрела на грека.
У него были очень сильные пальцы с крупными костяшками, поросшими черными волосами, и я была крайне удивлена, как такие сильные, вовсе не музыкальные руки, созданные скорее для борьбы, управляются с деликатным инструментом отца, заставляя нейлоновые струны плакать и страдать.
В игре Аполлосиса было все – и солнечная Греция с лазурным морем, в синеве которого плывут оранжевые апельсины, и полуденное спокойствие испанской сиесты с ее жарким любовным шепотом; бесчисленное множество оттенков страсти, неги и спокойствия – в общем, все то, что отличает истинный талант от механического виртуоза.
Когда Бутиеро закончил играть, я увидела, как по щекам отца текут слезы. Я и сама была растрогана, а оттого смотрела на Бутиеро, широко раскрыв глаза, в которых совсем не трудно было прочитать зарождающееся чувство. И Аполлосис его разглядел.
– Я построю вам гитару! – пообещал отец.
Они договорились о сроках и вознаграждении, и грек ушел, подарив мне на прощание апельсиновую улыбку.
Нетрудно догадаться, что я влюбилась в Бутиеро. В свою очередь, он так же страстно ответил на мое чувство.
Мы стали встречаться, используя для свиданий каждую свободную минуту. Но наши отношения были на редкость невинны, какими не бывают уже в сегодняшние раскрепощенные времена. Ни одним движением, ни одним словом Бутиеро не пугал моей девичьей души, не торопил главного события, а терпеливо ждал, пока все произойдет естественно, когда Бог даст на это свое согласие.
Мы на целые дни уезжали за город, благо стояло превосходное лето с бурным цветением, с птичьими песнями, с парным молоком прямо из-под коровы, с купаниями в быстрых речках и взаимными шептаниями на ухо всяких нежных словечек.
В середине июля Бутиеро предложил мне стать его женой. Мы лежали на крыше нашего десятиэтажного дома, загорали, пили квас, разглядывая в небесах пролетающие самолеты, а потом мой возлюбленный грек, щекоча мои губы своими, тихо сказал:
– Я хочу, чтобы ты стала моей женой! Я хочу, чтобы ты родила мне дочь и чтобы она была похожа на тебя!
– А если она будет похожа на тебя? – спросила я.
– Это будет трагедия, – ответил Бутиеро. – Ее никто не возьмет замуж.
– Тогда я рожу мальчика. Он вырастет до шести с половиной футов и будет такой же сильный, как ты.
– Я люблю тебя! – произнес Бутиеро так страстно и нежно, как был на это способен грек, половина крови которого была замешена на жарком испанском вине.
– Я тебя тоже люблю! – ответила я и поняла, что именно сейчас произойдет то, чего так боятся или так ждут невинные девушки.
Он целовал мои плечи и грудь и все время повторял:
– Какая ты белая!.. Мой Бог, какая белая кожа!..
Он расстегивал пуговки на моей юбке, тыкаясь носом в живот и жадно втягивая ноздрями воздух.
– Какая ты сладкая! – шептал Бутиеро и, слегка пугая меня, негромко рычал. – Какая ты…
Он не закончил фразы, так как ласки подошли к самому ответственному моменту. Мой белый живот открылся солнцу, и на него властно и нежно легла огромная рука, поглаживая и одновременно скользя к бедрам. Бутиеро навалился на меня, и волосы его груди щекотали мою грудь.
– Не бойся! – шептал грек, хотя я и не думала бояться. – Не бойся!..
Он целовал мою шею, слегка покусывая кожу, надавливая своими бедрами на мои.
– Не бойся…
Инстинктивно я пыталась сжимать колени, но под тяжестью тела Бутиеро ноги разошлись, и тут я испугалась. Что-то вспыхнуло у меня в глазах, чем-то обожгло в животе, и я закричала…
Таким образом Бутиеро стал моим первым мужчиной, и все шло к тому, чтобы я вышла за него замуж. Отец с упоением трудился над новой гитарой, впрочем не оставаясь при этом слепым. Он отлично видел, что между мною и греком происходят недвусмысленные отношения, и боялся того мгновения, когда выросшая дочь покинет дом отца, следуя за мужем по неизвестным дорогам жизни.
– Ты поедешь в Грецию? – спрашивал меня отец.
– Поеду, если он захочет.