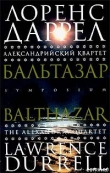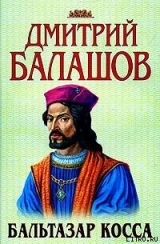
Текст книги "Бальтазар Косса"
Автор книги: Дмитрий Балашов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Косса вздохнул, и с легким недоверием открыл трактат, поданный ему Медичи (хозяину надо было отлучиться, и он придумал, чем на этот срок занять гостя), вчитался в заглавие, солидно-многоречивое, как и полагалось в поколении дедов и прадедов нынешней молодежи: «Книга о различных странах и о мерах товаров и о других вещах, которые надлежит знать купцу в различных частях света, а именно о торговых обычаях, о денежных курсах, о том, как соответствуют товары одной страны товарам другой, и сведения о том, чем один товар лучше другого и откуда он получается, и как его следует хранить возможно большее время».
Улыбаясь, проглядел он и стихи: «Что должен иметь в себе истинный и честный купец»:
Быть честным и вести себя степенно,
Предвидеть все он должен непременно.
Все исполнять, что обещал, пусть тщится,
Изящным и красивым быть стремится.
Как требует торговля мировая,
Дешевле покупать, дороже продавая.
Любезным быть, не гневаться напрасно,
Ходить во храм, на бедных не скупиться,
Что дорожает, продавать немедля,
Игры и роста всюду сторониться,
Совсем их избегая, сколько можно.
Счета писать так, чтоб не ошибиться.
Аминь.
Но далее чтение захватило его. Он узнавал знакомые страны, знакомые города, которые он некогда грабил, мало не задумываясь, что почем стоит и как достается купцу его товар. Прочел о пути в Китай, и о том, что, отправляясь на Восток, надо обязательно отрастить пышную бороду, ибо без нее тебя не станут уважать…
Он читал, понимая впервые, как бросово и задешево продавал порою захваченные им товары, где и что следовало продавать, дабы получить наибольшую прибыль, даже покраснел от стыда, когда увидал стоимость квасцов, которые зачастую попросту выкидывал за борт. Читал о способах измерения сукон, о пробах золота и серебра, о сортах шелка и мехов. С удивлением узрел таблицу для скорого подсчета процентов с разных сумм, рецепты оценки жемчуга и драгоценных камней, правила при фрахтовании кораблей, вплоть до таблицы дней, на которые падает Пасха с 1340 по 1465-е годы.
Когда Джованни в своих мягких пулэнах неслышно вступил в покой, Косса поднял на него ослепленный взор, произнеся:
– Ежели бы я не был… – Он поперхнулся, едва не произнеся «пиратом». – Ежели бы я не был духовным лицом, то обязательно сделался купцом!
Джованни улыбнулся с пониманием. Кутая руки в рукава, присел к столу, заговорил о прибылях на капитал, о доходах разных фирм, причем говорил, совсем не заглядывая в справочные книги – цифры помнил наизусть.
– Норма ростовщической прибыли еще в середине века была от 20 до 40 процентов в год. Хотя церковь считала допустимым взимание лихвы от 5 до 15 процентов. Ныне крупные компании выплачивают обычно от 6 до 10 процентов годовых. И когда флорентийская коммуна в 1358-м году выпустила заем на 15 процентов годовых, граждане охотно и сами изымали капиталы из торговли и ростовщичества и помещали в заем.
– Значит, ни то, ни другое не давало прибыли много большей? – спросил Косса.
– Именно так! – подтвердил Джованни. – От 10 до 40 процентов и последнее далеко не так часто, как думают! Это только Барди, да и то в начале своей карьеры, умудрялись получать свыше 30 процентов прибыли на капитал! Обычно – б—10 процентов, и я бы даже сказал зачастую и меньше, ежели учесть банкротства, разорения во время войн, нападения пиратов и просто довольно частое невозвращение сумм, взятых владетельными особами, герцогами и королями.
Нас спасает то, что нынче очень снизились транспортные расходы. Даже при сухопутных перевозках это от 10 до 20 процентов, а морских – 5 процентов и ниже!
– Поэтому республике нужны морские выходы! – вторично подсказал Косса.
– Именно поэтому! – подтвердил Джованни, ясно глядя в глаза Бальтазару. – И потому прибыль, которую мы твердо можем обещать нашим клиентам, ограничена. Ограничена еще и законом о маркировке – «таккаменто», по которому к каждому куску шерсти, продаваемой цехами Калимала или Лана, должна быть привешена бирка, исчисляющая все элементы, составляющие цену куска, и все накладные расходы. И данные эти проверяются уполномоченными цехов, согласно бухгалтерским книгам контор.
– Да, ежели все эти правила и законы отменить… – начал Косса, а Джованни договорил тотчас:
– Ежели эти законы отменить, наша фирма способна была бы за год утроить свой основной капитал! – Тут он помедлил и улыбнулся мудрой улыбкой провидца: – Но это при том, ежели бы правила исчезли только для одних нас! А ежели подобную волю получат все, Флоренция съест саму себя!
– Как ваша семья перенесла все это? – спросил Бальтазар хозяина, теперь уже почти как своего сотоварища, подразумевая восстание чомпи.
– Так и перенесла! Многие погибли! Наш Сальвестро Медичи вовремя успел умереть! Мы и сейчас еще под подозрением Мазо Альбицци, и участь Вьери далеко не ясна!
Конечно, хорошо, когда ты наверху, произносить речи, де: «Молодость бездельничает, старцы развратничают и женщины в любом возрасте предаются порокам!» В самом деле жадность, стремление к славе и почестям портят многих. Безнаказанность зла порождает зло, заставляет разделяться на партии, тогда как необходимо общенародное единство…
Пойдемте ужинать, мессер Косса! А затем, уже конкретно, поговорим о делах. Я, кажется, смогу открыть вам счет, то есть вы будете кем-то вроде владельца банка, а я – вашим бессменным управляющим. А о норме прибылей сговоримся за ужином!
У меня не так давно родился сын, которого мы с женой очень долго ждали. Мы его назвали по прадеду, Козимо. Прадед был у нас совсем из простых! Покажу вам своего наследника и познакомлю с супругой, а кроме того, угощу редким флорентийским блюдом, которое моя жена готовит божественно!
В доме своем Джованни был примерным семьянином, в уютное гнездо которого не залетала беда и почти не проникали бури и страсти внешнего мира.
«Он и умрет во своем дому, на своей постели, – думал Косса, переходя по внутренней лестнице в столовый покой, – окруженный любящими детьми и скорбящими родичами, одаривши церковь богатыми вкладами, чем заслужит уважение римской курии, и будет поминаем, как примерный гражданин и супруг… А я?»
XXIV
И вот тут мы подходим к главному, что сумел совершить Косса на своем посту и что трактовалось впоследствии как одна из крупнейших язв католицизма – речь идет об индульгенциях.
Может быть, именно потому, что Косса был сверх загружен работой на Томачелли-Бонифация IX (друг-приятель зачастую раздражал Бальтазара, который понимал, что волочит этот воз один, без всякой помощи Томачелли, тот лишь мешал ему своей неуклюжею вознёю с «акциями воздуха», продажею обещаний и проч.), может, и по чему иному, но конструктивные мысли приходили Бальтазару в голову в минуты отдыха – в пути, в постели, во время еды.
Косса понимал, что, прежде всего, надобно было объединить Италию. Но если бы это понимали и другие! Флоренция, Пиза, Милан, Лукка, Урбино, Римини, Анкона… Что ни город, то свой правитель! Римляне умели держать в кулаке, одолев этрусков, галлов и самнитов, все это разноплеменное множество. Земля Италии дышала их древним величием, тем величием, которого так не хватало современным итальянцам, разделенным и разорванным на враждующие земли и города…
Бальтазар через голову сволок с себя сутану, с отвращением бросил в руки слуге. Оставшись в рубахе с широким воротом и чулках-штанах поплескал себе на лицо и шею воду из рукомоя, обтер влажное лицо полотном, и только после того, отходя, взглянул на Яндру, остановившуюся в дверях.
– Ты ел? – спросила она с тою женской многозначительностью, которая зачастую повергает в трепет супругов, ибо это значило и – где ел? У какой женщины? Что делал и где был, когда я ждала тебя?! И прочее, и прочее…
Косса рассеянно кивнул, думая о своем. Потом крепко провел руками по лицу:
– Да! Да! Вели подавать на стол!
Яндра резко повернулась, и не то даже было обидно, что ей опять придется в постели обонять аромат чьего-то чужого тела и незнакомых духов, но то, что Бальтазар даже не заметил скрытой издевки в ее голосе, что ему, по-видимому, совсем наплевать на все ее переживания, на тоску ожиданий, на рассеянное молчание… Косса как-то, неведомо как, выкидывал ее из своей деловой жизни.
Яндра прошла, подрагивая бедрами. Даже остановилась – приступ вожделения и ненависти едва не вызвал у нее обморока. (И он еще смеет советоваться со мной! А с теми, другими, он тоже, меж ласк, говорит о трудностях папского престола?!)
Если бы она была девушкой, повстречавши Коссу, как ее старая подруга, Има Давероне! Ежели бы не отдалась в свое время, ради спасения жизни, старику-кардиналу! Возможно, ей не хотелось бы так изменять Коссе, мстить ему за каждую измену, за каждую любовницу… Возможно! И ежели бы еще не эти четыре года, проведенные на пиратском корабле…
Как он умеет забыть обо всем, что было? О трупах, резне, крови и – да! – берберийских любовницах своих! Забывает, хотя Гуиндаччо Буонаккорсо, которого он сделал своим не то телохранителем, не то камердинером, – одноглазый пират со страшною, перерубленной рожей, в священническом облачении, под коим у Гуиндаччо постоянно вздета кольчатая рубаха и спрятан широкий пиратский нож… Чем не напоминание о тех, прежних временах!
Впервые подумав о Гуиндаччо как о мужчине, о самце, Яндра вздрогнула, мурашки пробежали у нее по коже. Какой дешевой портовой шлюхой надобно быть, чтобы отдаваться такому!
Косса, по-прежнему ничего не замечая, ел «фрутти ди маре», запивая белым вином, откусывал хлеб своими белыми волчьими зубами.
– Томачелли постоянно не хватает денег! – высказал в пространство, глядя мимо ее лица и протягивая руку к жаркому.
Яндра глядела на него, по-прежнему вожделея и ненавидя, и лишь волнисто передернула плечами, уронив:
– До юбилея еще далеко!
Бальтазар впервые пристально взглянул в лицо Яндре.
– Юбилей?
Еще Бонифаций VIII, почти столетие назад, в 1300 году, объявил юбилейный год под названием «сбор христиан», и Рим был затоплен нескончаемыми толпами паломников, жаждущих помолиться в соборе Святого Петра и получить отпущение грехов у самого папы.
Юбилейный год намеривалось проводить раз в столетие. Но уже Климент VI в 1350-м году решил повторять юбилей через пятьдесят лет. Урбан VI сократил этот срок до 33 лет (возраст Христа), а впоследствии папа Пий II, уже в середине XV века, сократил срок до 25 лет, да еще стали проводиться внеочередные юбилеи по тем или иным случаям (по случаю крестового похода, например). Почему Томачелли-Бонифаций и сумел дважды справить юбилей, один по счету лет Христа, другой – в конце столетия.
Косса продолжал глядеть на Яндру круглыми глазами, словно увидя ее впервые, и даже перестал есть, забывши нож в руке. Мысль, которая пришла ему сейчас в голову, прошла столь извилистый путь, что конечный результат ее был неожиданен даже для самого Бальтазара.
Во-первых, помыслилось, что Бонифаций IX ни у кого (даже у него, Коссы!) не вызывает уважения. Что государи разных стран, даже и не самые могущественные, давно уже начали запрещать паломничество своих подданных в Рим, такое количество драгоценного металла уплывало в бездонные карманы римской курии. И объяви, скажем, Бонифаций IX вскоре новый съезд христиан, вряд ли что и получится. Тут Яндра полностью не права! Да бабы и вообще-то редко способны к логическому мышлению…
С другой же стороны, власть папы, наместника Святого Петра (и плевать, что Петра, по-видимому, в Риме, вообще не было. Люди верят и не верят во что-либо по двум причинам: ежели это им выгодно, и ежели им хочется в это верить!), – это, по существу, власть самого Христа на земле. И с этой стороны Томачелли, не он лично, а он – как знак, как символ, имеет божественную власть. Власть на что? Вот отсюда и следовало начинать!
Бальтазар отшвырнул салфетку, резко встал, едва не опрокинув кресло. Отсюда и следовало… Отпускал же папа участникам крестовых походов все их, и прошлые и будущие, грехи!
Он уже забыл о Яндре, которая продолжала сидеть за столом, вздрагивая и роняя редкие слезы в тарелку.
Теперь надобно только лишь убедить самого Томачелли! Только лишь убедить!
Разговор меж ними состоялся в этот же вечер. Косса не мог ждать лишнюю ночь.
Томачелли, действительно, струсил: «Как это я буду продавать еще и отпущение грехов? Да меня совсем сожрут, обвинят в нечестии, снимут, наконец…»
Косса большими шагами мерил укромную папскую приемную, предназначенную для интимных, тайных и секретных дипломатических встреч.
– Пойми! – говорил он. – Ты – папа, наместник самого Бога на Земле! На тебе благодать! Ты имеешь право отпускать любые грехи! Так воспользуйся же, ради Дьявола, этим своим правом! Пусть грешник сперва исповедуется своему священнику, а затем купит индульгенцию, получит то самое отпущение, ради которого ему прежде надобно было ехать в Рим, тратить деньги, губить здоровье, трепетать перед разбойниками, перед пограничной стражей, перед солдатней, перед всеми решительно! И стоить это будет ему много дешевле! И местные владетели будут ублаготворены уже тем, что их граждане перестанут тратиться на разорительные поездки в Рим! И забудь ты про эти свои акции, про торговлю воздухом, про симонию, которая уже всем дошла, как говорится, до ноздрей и выше! Будь папой! Будь наместником Бога! Торгуй тем, что тебе принадлежит по праву, и что принадлежит только тебе! Ты можешь легко опереться на учение о сверхдолжной благодати, накопленной святыми нашей церкви. В твоей власти дарить эту святость тем, у кого ее явно не хватает, но зато хватает денег, чтобы ее закупить!
Да и не ты первый! Папы и до тебя продавали и выдавали отпущение грехов и прежних, и даже будущих! Вспомни Иоанна XXII и его подвиги! Дело лишь в том, чтобы поставить эту торговлю на твердую основу нормальной финансовой операции. Уверяю тебя, ежели ты начнешь торговать отпущением грехов, казна римских пап после этого будет всегда полна, ибо люди не могут не грешить, это их коренное свойство! Торгуй благодатью! И деньги потекут к тебе рекой!
Глаза Томачелли сверкнули. Он наконец-то начал понимать.
– Бальтазар! – воскликнул он. – Ты сам поедешь в Милан, заключишь, от моего имени, соглашение с Висконти, который не пускает моих паломников в Рим! Со всеми этими бандитами и самозванцами, правителями этих мест, которые не дают людям освободиться от грехов!
Томачелли, суетясь, отпирал секретный стенной шкаф, где у него хранились напитки. Потом они сидели вдвоем и пили старое бургундское, пили испанское белое вино, пили пурпурное кьянти, пили, как будто вернулась молодость, и Пьетро Томачелли, трясущимися пальцами доставая из тайника очередную бутыль и кося глазом, вопрошал Коссу:
– Может… Позвать? – разумея настоятельницу женского монастыря, старую любовницу Томачелли, поставлявшую папе своих юных послушниц и инокинь, именно для таких вот интимных пирушек.
– Ты не поверишь, голые! Голые будут плясать! – бормотал Томачелли, цепляясь за рукав Коссы. – Ты не поверишь, Бальтазар!
– Потом, потом, после! – отговаривался Косса. – Я суеверен! Сперва сделаем дело, да и ты возможешь ли теперь осчастливить какую из них?
Томачелли, действительно, засыпал. Голова его безвольно склонилась, и Косса, выходя из покоя, только кивнул молчаливому служке:
– Помоги господину раздеться и уложи в постель!
У самого Коссы, несмотря на железное здоровье, в этот вечер сильно шумело в голове. Он скидывал одежду прямо на пол, порвал Яндре ворот, пытаясь помочь ей поскорей раздеться, и едва ли не при служанке швырнул на постель. (Знал, знал, что Яндра изменяет ему, знал!)
– Ты шла… Словно плыла по воздуху… – пробормотал, утолив первую страсть. – Теперь ты отяжелела, ты уже не плывешь, ходишь!
– Ты тоже отяжелел, Бальтазар! – возразила она, отодвигаясь от своего мужа-любовника. – И напиваешься не так, как прежде…
Он молча взял ее за предплечье своею железной пястью, встряхнул, повернул к себе, намерясь задать роковой вопрос… Она жарко и тяжело дышала, смежив глаза. Ждала пощечины, или нового прилива страсти. Бальтазар сильнее сжал пальцы, женщина закусила губу и тихо охнула, не сдержав стона.
Косса молча приподнял замершую Яндру, подержал почти в воздухе, но ни о чем так и не спросил. Бросил обезволившее тело на постель, приказал:
– Спи!
Много позже – слышала она или нет, или уже спала? – повторил:
– Спи! Завтра у нас с Томачелли великий день!
Он заснул, кинув ей на грудь тяжелую руку, а Яндра лежала, боясь пошевелиться, и тихо вздрагивала. Слезы текли у нее из глаз по вискам, щекоча кожу, и она не смела поднять руку, чтобы вытереть их.
XXV
Бальтазар Косса в душе не любил Рима. «Стобашенная» (на деле их было больше трехсот) Болонья, возможно, по воспоминаниям молодости, и поразившая его на всю жизнь Флоренция, больше нравились ему. Но отказать огромному, полуразрушенному, воняющему отбросами, нелепо раскиданному по холмам Риму, отказать в его древнем величии, выглядывающем из каждой развалины, из каждой обрушенной базилики, из каждого осколка древних колонн, арок, и гордо высящих доселе триумфальных ворот, воздвигнутых римскими императорами, отказать в мощи и древности этому городу, где все еще высили циклопические громады Колизея, Терм Каракаллы, замка Ангела и Пантеона, было нельзя. И все-таки, когда Томачелли, рассорясь с римской толпой, переехал в горную Перуджу, Косса был почти рад. Этот второй папский город как-то больше лежал к душе, а Томачелли замысливал, к тому же, перебраться в крохотное, после Рима, Ассизи, чтобы быть полностью свободным от всех этих Савелли, Колонна, Орсини и других. Коссе он сказал, перефразируя слова Цезаря:
– Лучше быть первым в Ассизи, чем вторым… Да что, вторым! Чем быть последним в Риме!
Здесь, в Перудже, и был решен окончательно отъезд Коссы в Милан, с предложением о продаже индульгенций на территории миланского герцогства. (Герцогом Джан Галеаццо, некоронованный глава Милана и Павии, к тому времени еще не стал.)
Лошади весело бежали мимо одетых лесом холмов и виноградников, мимо полей и пасущихся стад. Земля, великая и многострадальная земля Италии, казалась издали совсем не разоренной и не больной, хотя кому, как не Коссе, было на деле знать, как живется «освобожденному» кормильцу на итальянской земле! Недаром правитель Милана, Джан Галеаццо Висконти, начал с того, что, захвативши власть, издал четыре года назад указ, запрещающий конфисковать у крестьян любых юридических категорий за долги скот и сельскохозяйственный инвентарь. А еще прежде, своим указом 1386-го года, распорядился уничтожить все феодальные замки, не надобные для обороны страны.
В Умбрии и папской области такого указа не было. Там и сям белели виллы местной знати. Иногда над холмом вздымались башни и зубчатая преграда стен очередной твердыни какого-нибудь графа или барона. Земля Умбрии, древняя и прекрасная земля расстилалась окрест. Голубели, в отдалении, горы, и так спокойно, так легко было на душе!
Однако, почему Коссе, прежде всего, понадобилось отправиться именно в Милан, это следует объяснить.
Столица Ломбардии, Милан, была северными воротами Италии, той части ее, которая пограничьем своим упиралась в громады Альпийских гор. К западу от Ломбардии располагались уже земли Франции – Прованс и Савойя, к северу – швейцарские кантоны, а за ними Германская империя, Австрия, Бавария… На западе, узкой полосою вдоль моря лежали земли Генуэзской республики, на востоке, за чередой городков-государств – Венеция, а на юге… На юге находилась вся остальная Италия, и прежде всего, костью в горле, флорентийская республика и Болонья, а далее – патримоний Святого Петра, закрывающие властителям Милана путь к овладению всей страной.
По землям Милана ведут, сквозь перевалы Альп, торговые пути в северную Европу. (И паломники в Рим идут по этим путям!)
В XI—XII веках Милан возглавляет борьбу с Гогенштауфенами и побеждает в этой борьбе!
Со второй половины XIII века Милан все более уступает Флоренции, но все же это крупнейший из итальянских городов[15]15
В 1288-м году – 200 тысяч жителей, из них 40 тысяч способных носить оружие мужчин, 200 церквей, 1000 лавок, 150 гостиниц, 120 юристов, 1500 нотариусов, 28 врачей.
[Закрыть].
Это цветущий город. Он стоит на узле стратегических дорог и, быть может, потому сохраняет в значительной степени феодальную структуру.
В Милане изготовляют лучшее в Европе оружие, лучшую сталь.
В 1262-м году папа Урбан IV назначает Оттона Висконти архиепископом Милана, и с этого времени род Висконти начинает пробиваться к высшей власти. Милан при них постепенно подчиняет окрестные города. Маттео Висконти (1287—1322 гг.) ведет ожесточенную борьбу с Авиньонским папским престолом и с Робертом Неаполитанским. Сын Маттео, Галеаццо (1322—1327 гг.) продолжает политику отца. Следуют падения и подъемы. Архиепископ Джованни Висконти сумел посадить сына в Болонье (1350 г.), а в 1353-м году подчинить Геную. Но возмутились папский престол и Флоренция, началась война.
Джованни умер в 1354-м году. Ему наследовали три его племянника, сыновья его брата Стефано: Маттео II, Галеаццо II и Бернабо. Маттео II вскоре умер, а Галеаццо II и Бернабо поделили власть. Галеаццо сел в Павии, Бернабо – в Милане.
Галеаццо II и Бернабо, оба были тиранами и даже садистами. Так, Бернабо приказывал ловить и подковывать босоногих францисканцев, «дабы они не сбивали ног, шмыгая в его владениях». Бернабо, к тому же, прославился любовью к охоте и охотничьим собакам. Он выстроил дворец для пятисот своих псов, а сверх того несколько сотен собак были розданы жителям Милана, и ежели собака умирала, держателя ее казнили. Разумеется, популярности это им не прибавило. Понимая это, оба брата выстроили себе цитадели (в Милане и Павии). С 1375-го года Галеаццо II начинает привлекать к власти своего сына Джан Галеаццо[16]16
Джан Галеаццо с 1360-го года женат на дочери французского короля Карла V, получив за нею графство Вертю в Шампани. Вертю, по-итальянски Вирту, что значит – доблесть, и Джан Галеаццо присвоил себе титул «Графа доблести» – конте ди вирту!
[Закрыть].
Галеаццо II умирает в 1378-м году, и Джан Галеаццо становится соправителем Бернабо.
Джан Галеаццо отличался от отца и дяди умеренностью, вкрадчивой осторожностью и громадным политическим чутьем. Бернабо выдает за него свою дочь (первая жена Джан Галеаццо умерла). Кстати, своих дочерей Бернабо ухитрился выдать чуть ли не за всех владетельных государей Европы.
С Джан Галеаццо у Бернабо идет игра в кошки-мышки. В отличие от дяди-атеиста, Джан Галеаццо разыгрывает дурачка, целиком увлеченного молитвами и монахами, помощью церквам и т.д. В мае 1385 года он извещает дядю, что едет на богомолье мимо Милана и хотел бы приветствовать тестя и дядюшку. Бернабо выезжает за ворота Милана с двумя старшими сыновьями, без охраны и оружия, и тут же, у Верчеллийских ворот, схвачен, с триумфом привезен в Милан и заключен в крепость. Население восторженно приветствует Джан Галеаццо (ему уже 33 года), ожидая от него прекращения произвола и прочих благ.
При Джан Галеаццо Милан достигает апогея своего могущества.
Джан Галеаццо сразу же устраивает процесс над дядюшкой. Бернабо переведен в крепость Троццо, где и умирает в декабре того же года. Сыновья Бернабо тщетно ищут (и не получают) помощи, а Джан Галеаццо начинает с успехом управлять Миланом, сосредоточивая всвоих руках политическую и экономическую власть, присвоив себе, как уже сказано, титул «графа доблести». Самозванно он называл себя также миланским герцогом.
Он издает ряд законов, обуздывающих феодалов, централизует сбор налогов, завязывает сложные брачные отношения с французским двором (Валентина Висконти выходит замуж за Луи Орлеанского, брата французского короля). Дело тянется с 1385 до 1389 год, и в брачный договор включается статья, позволившая французам через столетье начать оккупацию Италии. Однако этим актом Джан Галеаццо обеспечил себе западные рубежи и начинает, опять же с 1385-го года, движение на Восток, против Антонио делла Скала, властителя Вероны. (Вместе с Франческо Новелло Каррара, правителем Падуи.)
В 1387-м году Антонио делла Скала бежит, Джан Галеаццо в результате приобретает Виченцу и Верону, после чего наступает черед Падуи (1388 г.).
А затем Джан Галеаццо затевает интриги против Флоренции, подбираясь к Болонье и исподволь разрушая союз государств, старающихся помешать наступлению Милана на центральную Италию.
В 1389 году идут упорные, но бесплодные переговоры по этому поводу, в которых участвуют, кроме Флоренции, Болоньи и Милана, послы Сиены, Перуджи, Лукки, Римини, Урбино, Феррары и Мантуи. Предложения Джан Галеаццо принимают все, кроме самых могущественных – Болоньи и Флоренции.
В октябре 1389-го года Джан Галеаццо изгоняет всех флорентийских и болонских граждан из своих владений, а в конце апреля 1390-го года, уверенный как в нейтралитете Франции, так и в превосходстве своих сил, объявляет войну Флоренции с Болоньей.
Война начинается сперва успешно для него. Ему помогают его верные сателлиты: Альберто д’Эсте (Феррара) и Франческо Гонзага (правитель Мантуи). Но тут на помощь флорентийцам нежданно приходит из-за Альп враг Джан Галеаццо, герцог Стефан Баварский. К тому же Франческо Новелло Каррара с собранным наспех войском захватывает в ночь на 19 июня Падую, а в Вероне происходит восстание, с трудом подавленное миланским кондотьером Якопо даль Верме. Франческо Каррара бросается к Ферраре, принуждая Альберто д’Эсте заключить мир.
Джан Галеаццо изворачивается, как может. Подкупает Стефана Баварского, но на него движутся французские отряды Жана д’Арманьяка (родича, по жене, покойного Бернабо). Завязывается долгая и уже бесперспективная борьба, и, в конце концов, в январе 1392 года заключен мир.
Эта война обошлась Джан Галеаццо в два миллиона флоринов. Растут налоги. Именно тут ему приходит идея не пропускать паломников, дабы столь нужное золото не уплывало из Милана в Рим.
Но от планов своих Джан Галеаццо не отступает отнюдь, вмешиваясь в дела Пизы и Сиены, всюду засылая своих соглядатаев и подкупая местных оппозиционеров (даже в самой Флоренции!).
Вот к такому-то человеку и прибыл Бальтазар Косса (или Бальдассаре Косса) послом от Бонифация IX.
Дорога, занявшая около трех недель, была трудна. Его не раз останавливали и задерживали военные отряды кондотьеров Джона Гауквуда и Якопо даль Верме. И только папская грамота, да и то не сразу, помогала окончить бесконечный спор и вновь устремиться в путь.
На полях, невзирая на войну, работали. Поспевал виноград. Уже первые фуры, полные спелыми гроздьями, устремлялись к давильням, и терпкий запах истекающих соком ягод струился над дорогой, щекоча обоняние. Мир еще не был заключен, но военные действия, после ряда мелких и безрезультатных стычек, почти прекратились.
К Милану подъезжали в сумерках, чему Косса был весьма рад, ибо до встречи с Висконти следовало отдохнуть и выспаться. Поэтому он предпочел, на первую ночь, по крайней мере, остановиться в гостинице монастыря, где посланца папы и встретили, и накормили должным образом. Принявши ванну, он с наслаждением вытянулся на мягкой постели, застланной чистыми простынями, и мельком, уже засыпая, подумал о том, что с возрастом, по-видимому, телесные блага приобретают для человека все большее значение, но, не успев додумать сию мысль до конца, уснул.
Но вот замок, вот сводчатый вход. Сводчатые каменные входы всегда вызывали у Коссы смутную тревогу, желание схватиться за кинжал, как-будто там, впереди, его поджидает засада. Внутренний двор, и… Любезный секретарь? Мажордом? С улыбкою проводящий папского посланца по широкой каменной лестнице, мимо обширного зала для приемов, куда-то выше, еще выше, еще… И, наконец – раздается лай собак!
Открывается дверь, и Косса поневоле замирает перед дюжиной огромных, с теленка, псов, встречающих его у дверей достаточно недружелюбным рычанием.
– Они вас не тронут! Проходите! – слышится тягучий низкий голос хозяина.
«Графу доблести» едва за сорок, но он выглядит старше своих лет. Толстый, бледный и неподвижный человек (почти не покидающий своей Павии, и то, что он нынче в Милане, – редкая удача для Коссы) едва приподымается в кресле. Он ждет, устремив глаза на подходящего Бальтазара, который кланяется и приветствует хозяина Милана со всей приличествующей вежливостью и знаками почтения, полагающимися владетельному государю (хотя официально Висконти – никто. Он французский граф, а разговоры о получении герцогского достоинства от императора Венцеслава только еще ведутся).
Удовлетворенный Джан Галеаццо молчит и смотрит выжидательно, и Коссе приходится самому начинать не очень приятный, как он понимает сразу, и очень нелегкий разговор.
«Граф доблести» смотрит исподлобья, склонив голову, отчего жирный ожерелок складывается тугими складками на этом почти поросячьем лице, ежели бы не чрезвычайно острый, прямо-таки въедливый взгляд умных глаз.
Косса, надумавший было, еще до встречи, «взять быка за рога», на ходу меняет тактику, говорит мягко и как бы не о самом главном, о паломниках, которым трудно… В условиях войны… И совсем уже скользом о замысле выпустить индульгенции. Джан Галеаццо смотрит на него глазами несвежей рыбы и вдруг спрашивает, без связи со сказанным:
– Как папа относится к затеянной мною войне?
И во взгляде его, внезапно вновь сделавшимся острым и пронзающим, словно бы проскочили опасные огоньки.
Косса, откидываясь в кресле, которое, помедлив, предложил ему занять Джан Галеаццо (все-таки папский посланец!), смотрит на миланского деспота открытым доброжелательным взглядом и отвечает:
– Никак! Вы все – духовные подданные его святейшества. Престолу Святого Петра необходимо единство Италии, и ежели его добьется герцог Милана, города, сокрушившего некогда германского императора, – исполать ему!
Джан Галеаццо отвечает бледною улыбкою. Оба знают, что положение самозванного герцога необычайно тяжелое, что потеряна недавно завоеванная Падуя, что вчерашние союзники, тот же властитель Мантуи, Франческо Гонзага, отвернулись от него, что Флоренция заключила союз с Болоньей, так называемую «Болонскую лигу», к которой готовы присоединиться – или уже присоединились? – Феррара, Падуя, Имола, Фаэнца и Равенна, и, – что серьезнее всего, – нейтальная Венеция тоже готова поддержать Болонскую лигу!
И оба знают, что все, сказанное меж ними, пока оно не облечено в плоть грамот, а грамоты не поддержаны военной силою, просто слова («Слова, слова, слова!» – как скажет принц Гамлет).
И оба знают, к тому же, что Перуджа ныне во власти папы, и он ее миланскому герцогу добром не отдаст. И только недавний переворот в Пизе, оторвавший этот город от Флоренции, можно почесть очередной удачей миланской политики, хотя Джан Галеаццо по-прежнему протягивает руки к Сиене и к Перудже, да и ко всей Умбрии, не говоря о Болонье.
В это время пес, лежащий у самого кресла Висконти, начинает рычать, и Джан Галеаццо кладет ему руку на голову, успокаивая.
– Любите собак, монсеньор Косса? – спрашивает он.