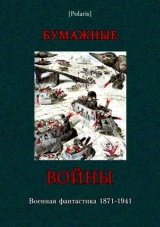
Текст книги "Бумажные войны
Военная фантастика 1871-1941 (Фантастическая литература: Исследования и материалы. Том I)."
Автор книги: Дмитрий Быков
Соавторы: Евгений Харитонов,Михаил Водопьянов,Михаил Фоменко,И. Щербина,Зинаида Чалая,С. Рапопорт,Мария Шарова,Борис Фрезинский,Василий Токарев,Арвид Энгхольм
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Зинаида Чалая. Будущая война
Еще в 1931 году Горький писал:
«Мы окружены врагами, да! Но капиталисты – тоже. Количество и качество наших друзей неизбежно растет и будет расти, – это значит, что возрастает количество и качество врагов капитализма»[290].290
М. Горький. Ураган, старый мир разрушающий. «Будем на страже». ОГИЗ, 1931, стр. 113.
[Закрыть]
Война, которую готовит против нас мировой фашизм, неизбежно мобилизует на яростную борьбу с фашизмом широкие массы трудящихся всех стран.
«Едва ли можно сомневаться, – говорит товарищ Сталин, – что эта война будет самой опасной для буржуазии войной. Она будет самой опасной не только потому, что народы СССР будут драться насмерть за завоевания революции. Она будет самой опасной для буржуазии еще потому, что война будет происходить не только на фронтах, но и в тылу у противника. Буржуазия может не сомневаться, что многочисленные друзья рабочего класса СССР в Европе и Азии постараются ударить в тыл своим угнетателям, которые затеяли преступную войну против отечества рабочего класса всех стран. И пусть не пеняют на нас господа буржуа, если они на другой день после такой войны не досчитаются некоторых близких им правительств, ныне благополучно царствующих „милостью божией“»[291]291
Отчетный доклад XVII съезду партии. Партиздат, 1934, стр. 16.
[Закрыть].
Автор пьесы о будущей войне не может и не должен пройти мимо этих важнейших обстоятельств: восстания рабочих и крестьян в тылу нападающей на нас фашистской страны, неизбежной социальной революции и краха капиталистического строя в ряде стран.
Антихудожественная, гнусно приспособленческая фальшивка Киршона «Большой день» была уже разоблачена советской критикой. Пользуясь весьма поверхностным знакомством с советской авиацией и плагиаторски «позаимствовав» у некоторых советских драматургов ряд сцен и положений, Киршон состряпал внешне эффектное блюдо, соблазнившее неприхотливый вкус нескольких руководителей театров. Правда, при этом действовала киршоно-ягодо-авербаховская система очковтирательства насчет «мнения сверху», запугивания, шантажа, нажима. «Блюдо» не пошло впрок театральному организму и вскоре было выброшено с проклятиями. Говорить о нем следует не как о художественном произведении, а только и исключительно как о приемах вражеской маскировки и приспособленчества[292]292
Текст 3. Чалой вышел в свет уже после падения и ареста наркома внутренних дел Г. Г. Ягоды (1891–1938), его шурина, критика Л. Л. Авербаха (1903–1937) и протеже, драматурга В. М. Киршона (1902–1938), чем и объясняется этот пассаж. Отметим, что Чалая преуменьшает не только количество постановок пьесы Киршона, но и масштаб поддержки «сверху» (подробнее см. в приведенной в данном сборнике статье В. Токарева) (Прим. сост.).
[Закрыть].
Возвращаясь к советскому репертуару на темы будущей войны, надо сказать, что в этом отношении у нас дело обстоит далеко не блестяще.
В пьесе Рудермана и Вершинина «Победа» действие происходит на территории противника и демонстрирует победу военную и победу идейную нашей Красной Армии в будущей войне. Два красноармейца охраняют семерку пленных, среди которых находится неразоблаченный офицер-фашист. В неблагоприятной обстановке (изолированные в подземелье, выход из которого закрыт обвалившимся домом) красноармейцы проявляют высокую культуру, спокойствие и бдительность. Среди пленных происходит классовое размежевание. Рабочий, крестьянин, старый солдат, учитель, в солдатских шинелях, нивелированные и обезличенные фашистской муштрой, начинают сознавать себя людьми. Наконец, при попытке фашиста-офицера убить сонного красноармейца пленные расправляются с фашистом.
Красная Армия возвращает пленным оружие, с которым они идут на общего врага – фашизм.
Язык и образы пьесы отличаются правдивостью и простотой, и вместе с тем авторы достигли некоторой индивидуализации характеров не только «по социальному признаку». Доработанной все же пьесу считать нельзя: сценически неблагоприятная обстановка (все три акта происходят в одной, довольно мрачной, декорации подвала) и неоправданная растянутость диалогов и действия – существенные еще «недоделки» этого интересного в общем произведения[293]293
Вариант, изданный на стеклографе. Изд. «Искусство».
[Закрыть].
Пьеса С. Вашенцева «В наши дни» показывает, как может начаться война и как поведут себя советские люди в этих обстоятельствах. Автор выводит на сцену большой состав действующих лиц самых разнообразных профессий и характеров. Обыденная жизнь советских людей полна радостного творческого напряжения. Люди растут и как бы становятся могучими и крылатыми существами, для которых нет грани между обычным и героическим. «Как странно: вот в такой обыкновенный вечер может совершиться подвиг, – говорит Светлана. – Где же черта, которая отделяет обыкновенное от чудесного? Ее не видно». В тихий, безоблачный день начинается война. Дочь профессора музыки летчица Светлана в мужественной схватке с воздушным противником защищает родину и завоевывает себе звание героя Советского Союза. Тихая, скромная сестра ее Варя становится парашютисткой. Совершает боевые подвиги конструктор Румша, ранее не любивший покидать стен своей мастерской.
Эгоизм, шкурничество, трусость (муж Вари – Ласс и его мать) – черты «лица» потенциального врага народа. Обыватель Ласс «приспосабливается» к советским условиям, но он обыватель до мозга костей и как таковой несет в себе потенцию предательства и измены. Эта потенция более явственно прорывается в словах его матери, и те страх и злоба, с какими он просит мать замолчать, свидетельствуют о страхе самому быть разоблаченным.
Общий план и замысел пьесы интересны и значительны. Однако, несмотря на широкий диапазон действия, многие перемены, сцены под открытым небом и т. д., пьеса все же носит характер «комнатности». Кажется, все эти грандиозные события войны, вплоть до начала социальной революции в Германии, автор привел на сцену для одной Светланы и замечательного советского человека – ее отца. Отсюда – интимность пьесы и сужение ее политического плана. Отсюда ходульность сцены с немецким лесником, напоминающей сказку братьев Гримм о людоеде и его доброй жене, – резкое выпадение из реалистического стиля пьесы.
Советские летчики Румша и Стрельцов – это образы героев наших дней и дней будущей войны с фашизмом. Румша – кабинетный работник, инженер. Любовь к родине и любовь к девушке заставляют его преодолеть свою замкнутость и научиться самому водить самолеты, которые он конструирует.
Румша страдает от своей мнимо несчастной любви. Но первый признак войны, первый боевой призыв меняют тон его голоса, походку. Румша выпрямляется, он весь – готовность и энергия. Человек преображается на глазах. Эта сцена сделана очень корректно, сдержанно, но крепко запоминается.
Стрельцов, любитель поэзии, добродушный шутник, посмеивающийся над своими неудачами в любви, в сущности по-настоящему, всем сердцем влюблен «только» в свою родину, в свою эпоху, в свою советскую авиацию.
В обстановке фронта перед получением боевого задания Стрельцов хорошо отвечает нашим литературным искателям проблемы смерти и ее «преодоления»: «А что касается смерти… Э, брат, мы имеем право о ней не думать. Пусть о ней думают те, о которых Горький сказал. Как это у него? Постой… Да… „Как черви слепые живут. И сказок про них не расскажут, и песен про них не споют…“. Если придется умирать, умрем с мыслью, что имели счастье жить… в великую эпоху. Это, брат, не всем дано…».
В целом пятая картина несколько растянута рассуждениям и Румши и Стрельцова, но хорош ее финал, идейно и театрально очень выразительный. Летчики спят на полу в клубе. На сцене клуба появляется командующий и шепотом, чтобы не разбудить спящих, дает приказ Кривошлыку разбомбить через два часа неприятельский аэродром. Кривошлык сообщает, что разбудит летчиков через 20 минут. Но летчики уже встали. «Они неожиданно поднялись, как будто вовсе не спали».
«Командующий (взволновано). Товарищи командиры… Раз уж вы проснулись, я поделюсь с вами своей заботой… Меня только что вызвал по прямому проводу товарищ Сталин… Иосиф Виссарионович. Я его заверил, что победа будет…
Летчики (как эхо). Будет, товарищ командарм».
Командующий сбегает со сцены и обнимает одного за другим летчиков.
Эта сцена имеет свое воспитательное и мобилизующее значение. Но таких счастливых моментов в пьесе немного[294]294
Среди отзывов на пьесу «оборонного» поэта, драматурга и прозаика С. И Вашенцева (1897–1970) обращает на себя внимание заметка А. Платонова (Человеков Ф. Несоленое счастье // Литературное обозрение. 1938 5 сентября), который называет драматурга «маломощным» и заключает, что «подобного рода темы <…> требуют более одаренного и глубокого художника. <…> Нам, советским читателям и зрителям, крайне желателен Шекспир оборонных пьес» (Прим. сост.).
[Закрыть].
* * *
Тема будущей войны еще ждет своего воплощения. Как ни строг закон концентрации действия в драме, его нужно сломать, если он мешает поднять международное значение темы. Однако пьеса «В наши дни» не следует закону концентрации и тем не менее ограничивает сферу идей коллизиями внутренних отношений героев. Дыхания мировой революции в ней не слышно. Между тем эта революция неизбежна, и наша задача – громче, на весь мир, силами своих образов, жизненно убедительными и логически неопровержимыми сценическими положениями показать это.
Другая важная сторона темы о будущей войне – тема революционной бдительности. Враг, шпион, предатель пытается пролезать всюду, пытается производить диверсии в нашей оборонной промышленности, в нашей Красной Армии. Процессы над шайками бухаринцев-троцкистов дают убедительнейший материал мерзкой из мерзких работ предателей родины, готовивших ей поражение, распродажу и капиталистическое рабство. Драматург, который в пьесе о будущей войне обходит эту тему, заранее обрекает свои образы на однобокость и неполноценность художественную и, следовательно, делает пьесу политически пресной и незначительной.
Громадное значение имеет для драматурга военной темы понимание роли партии в Красной Армии, силы и значения парторганизации в воинской части и знание людей.
В своем выступлении на XVII съезде партии товарищ Ворошилов приводил материалы комиссии по чистке партии в Красной Армии. Эти материалы говорят, что «армейские коммунисты – один из самых здоровых отрядов нашей партии; армейские коммунисты – один из самых дисциплинированных отрядов нашей партии; армейские коммунисты – один из самых политически грамотных отрядов нашей партии». Товарищ Ворошилов заверил съезд, партию, народ в том, что партийцы с еще большим напряжением будут работать «над вопросами обеспечения победы РККА над врагами, если они сунутся в наш советский огород».
И еще одна важная сторона этой темы – всеобщая мобилизационная готовность нашего народа. Драматурги должны показать, какую громадную роль имеет своевременная оборонная подготовка каждого дома, каждой улицы, каждого гражданина СССР в помощь Красной Армии и Флоту.
«Мы все должны понять себя как Красную Армию пролетариата всего мира, – писал Горький в статье „Ураган, старый мир разрушающий“. – И если вам придется выйти на поля битв против старого мира с оружием в руках, – на этот последний бой выйдет первая в мире армия, каждый боец которой будет совершенно точно и ясно знать, за что он борется, кто его действительный враг, будет знать, что враг этот обречен историей на гибель и что гибель его – начало счастья трудящихся всей земли».
III
М. В. Водопьянов. Предисловие к книге Н. Шпанова «Первый удар»
Мир никогда еще не был так близок к войне, как в настоящее время. Более того: мы можем говорить о том, что новая империалистическая война уже ведется в Европе, в Африке, в Азии. Свыше пятисот миллионов человек втянуты в ее жестокую орбиту. Зачинщиками войны выступают фашистские государства; во что бы то ни стало хотят они развязать большую войну. В конечном счете все их попытки сводятся к тому, чтобы затеять войну с Советским Союзом.
Всеми способами – провокациями, диверсиями, шпионажем – пытаются фашисты втянуть нас в войну.
Советский Союз не боится войны. Народы, населяющие нашу страну, не только умеют воевать, но и любят воевать. И в грозные дни будущих боев наша необъятная родина выставит на защиту своих границ легионы и легионы сильных духом и телом своих сыновей и дочерей. Великий поток советских патриотов вольется в родную Красную армию. Весь советский народ в едином порыве обрушится и сметет с лица земли всех тех, кто посмеет посягнуть на его радостную, счастливую жизнь…
В последнее время в Западной Европе, особенно в фашистских государствах, а также в Японии вышли в свет литературные произведения, посвященные войне.
Авторы этих книг, каждый по-своему, стремятся дать читателю представление о том, как будет развиваться будущая большая война. Совершенно понятно, что буржуазные авторы, как представители интересов капиталистического мира, вовсе не ставят перед собой задачу дать более или менее правдоподобную картину будущей войны, а стараются прежде всего доказать то, что нужно их хозяевам – капиталистам.
В качестве примера можно назвать книгу немца Гельдерса «Война 1936 года», посвященную разгрому Франции; крикливую, барабанную книгу японца Фукунага о потоплении японцами военного флота Америки; более или менее близкую к действительности книгу англичанина Фаулера-Райта о германской агрессии в Чехо-Словакии.
Основным положением огромного большинства буржуазных фашистских романов о войне является следующее: исход войны решают техника и воля отдельных лиц, допустим – главы фашистского государства, того или иного генерала и т. п.
О народе, о грозной силе вооруженного народа авторы этих романов не говорят ни слова. И это совсем не случайная забывчивость: сказать правду о народе – это значит свести на нет даже кажущуюся видимость победы фашиствующих империалистов.
В произведениях буржуазных военных романистов «народ» упоминается лишь в качестве неразмышляющих, послушных воле своих господ пешек, оболваненных армейской муштрой или обманутых шовинистической фашистской пропагандой. Солдаты у них не мыслят, а покорно выполняют волю своих генералов и готовы драться с кем угодно и где угодно во славу этих генералов и на благо капиталистов своего государства. Это – ложь, которой фашисты сознательно окружают вопрос о грядущем решающем столкновении двух миров – мира труда и мира капитала.
Понятно, что в условиях современной Западной Европы, где литература и пресса состоят на откупе у господствующих классов, не приходится и ожидать правды о предстоящей войне. Отдельные литераторы, которые находят в себе мужество эту правду говорить, или не могут найти для напечатания своих произведений типографии, или подвергаются травле фашиствующей критики. Тем более своевременно и необходимо советским писателям сказать эту правду, сказать ее во всеуслышание и особенно выразительно. Это наш долг перед Советской страной, перед нашим народом.
Тема эта очень трудна, как всякая большая и ответственная тема. Ник. Шпанов, один из первых советских писателей, взявшихся за это дело, не претендует на развернутый показ военных действий предстоящей войны. Он ограничился показом небольшого эпизода.
В ответ на нападение фашистской Германии наша замечательная авиация совершает глубокий рейд в тыл врага и бомбит его военно-промышленный центр. На этом частном событии, совсем не имеющем решающего значения для исхода всей борьбы, автор сосредотачивает внимание читателя. Читатель увидит несокрушимый подъем народного энтузиазма, патриотизм гражданского населения и бойцов Красной армии, замечательное искусство советских летчиков, высокую военную подготовку командиров Красной армии. Автор с большой любовью и теплотой показывает красных бойцов и командиров, их близость к народу, их неразрывную связь с массами.
В этой книге, впервые в военно-фантастическом романе, мы видим то, что известно нам, но на что так старательно закрывают глаза иностранные романисты: мы видим, что рабочие и крестьяне в зарубежных странах – на нашей стороне. Очень осторожно, с большим тактом и достаточной убедительностью показывает нам это Ник. Шпанов. И в этом – большая удача автора.
Книга Ник. Шпанова «Первый удар» – своевременная, полезная и нужная советскому читателю книга. Помимо своих художественных достоинств, она представляет еще особую ценность как книга, дающая большой материал для ознакомления широких масс читателей с боевыми действиями советской авиации в условиях предстоящей войны с фашистами.
Большая правдивость, теплота, с которой автор показывает своих героев – Сафара, Грозу и других, сделают их любимыми героями молодого читателя. Искусство, самоотверженность и воля к победе этих людей во имя великой нашей родины – образец для нашего бойца.
В остальном читатель сам будет судить о достоинствах и недостатках «Первого удара».
Дмитрий Быков. Свежесть. Николай Шпанов и его вера
Про Шпанова современный читатель в лучшем случае знает одну апокрифическую историю, хотя она, в сущности, не про него, а про отважную Александру Бруштейн, автора трилогии «Дорога уходит в даль», на которой росли многие славные дети. На обсуждении какого-то из ксенофобских, густопсово-изоляционистских шпановских романов – то ли «Ураган», то ли «Поджигатели», – Бруштейн рассказала притчу из своего виленского детства. Дети лепят костел из навоза, мимо идет ксендз. «Ах, какие хорошие, набожные ребятишки! А ксендз в этом костеле будет?» – «Если говна хватит, то будет», – отвечают юные наглецы. «Так вот, товарищи, – закончила Бруштейн, – в романе товарища Шпанова говна хватило на все!»
И это очень хорошо и правильно, как говорил Зощенко; и если бы мы обсуждали творчество данного автора на кухне шестидесятых или даже на оттепельном писательском собрании, мы вряд ли отклонились бы от подобного тона. Вспомнили бы еще эпиграмму «Писатель Николай ШпанОв трофейных уважал штанОв и толстых сочинял ромАнов для пополнения кармАнов». Младшие современники Шпанова, вынужденно росшие на его сочинениях, навеки сохранили в памяти перлы его стиля. Друг мой и наставник М. И. Веллер, будучи спрошен о своих детских впечатлениях от беллетристики данного автора, немедленно процитировал: «Сафар был страстно влюблен в свой бомбардировщик, но не был слепым его поклонником».
– Это было так плохо?
– Почему плохо, – раздумчиво проговорил Веллер. – Это было вообще никак.
Но у нас удивительное время, друзья. Оно заставляет переоценить и познать в сравнении даже те вещи, до которых в советские времена у большинства из нас попросту не дошли бы руки. Если недавно проанализированные нами «Бруски» Панферова представляли и этнографический, и психологический интерес, – Шпанов скорее замечателен как лишнее доказательство типологичности российской истории, у него в этом спектакле необходимая и важная роль, которую сегодня с переменным успехом играют так называемые «Воины креатива», неприличная Юденич с золоченой «Нефтью» да еще отчасти Глуховский. Это они поставляют на рынок многологии о том, как коварная закулиса окружает Россию, плетет заговоры, отбирает сырье и растлевает граждан. Правда, раньше упор делался-таки на граждан, а не на сырьё. Граждане считались (и были!) более ценным ресурсом, вот их и вербовали без устали – то стриптизом, то попойками, то – в общении с творческими работниками либо микробиологами – обещанием небывалых свобод. Они сначала поддавались, но всегда успевали опомниться. Как бы то ни было, мобилизационная литература существовала и цвела, как всегда она цветет во время заморозков, – но по крайней мере делалась качественно, на чистом сливочном масле. Именно поэтому я обращаюсь сегодня к опыту Шпанова: он явственно высвечивает причину неудач нынешних продолжателей изоляционистской традиции, старательно ваяющих антиутопии о будущих войнах. «Воинам креатива», кто бы ни скрывался под этим мужественным псевдонимом, до Шпанова – как народному кумиру Малахову до народного кумира Чкалова. Так что прошу рассматривать настоящий текст как добрый совет, посильную попытку поставить на крыло новую русскую агитпрозу.
Оговорюсь сразу: Шпанов никогда и никаким боком не прозаик. Он и не претендовал. Чтение его литературы – занятие исключительно для историка либо филолога: читателей-добровольцев сегодня вряд ли сыщешь, даром что, в отличие от современников-соцреалистов, этот приключенец переиздан в 2006 и 2008 годах, как раз «Первый удар», дебютное и самое нашумевшее его творение[295]295
Здесь, очевидно, описка автора – Первый удар никак не был дебютом Шпанова в литературе. В 2013-14 гг. в России были переизданы многочисленные книги Шпанова, включая наиболее одиозные («Заговорщики», «Поджигатели») и т. д. (Прим. сост.).
[Закрыть]. Однако поскольку Шкловский заметил когда-то, что всех нас научили отлично разбираться во вкусовых градациях ботиночных шнурков, – заметим, что свои градации есть и тут. Агитационная литература бывает первоклассной, как у Маяковского, второсортной, как у Шпанова, или позорной, как у его нынешних наследников. Чтение Шпанова – не самое духоподъемное занятие, особенно если речь идет о его послевоенном политическом романе «Поджигатели». Но от некоторых страниц Шпанова, в особенности от «Первого удара» или «Старой тетради», где он рассказывает о вымышленном знаменитом путешественнике, веет какой-то добротной свежестью, хотя современникам все это могло казаться тухлятиной. Как ни странно, в иных своих сочинениях – преимущественно аполитичных, случались у него и такие, – Шпанов становится похож на Каверина времен «Двух капитанов»: есть у него эта совершенно ныне забытая романтика полярных перелетов, путешествий, отважных покорителей безлюдных пространств и т. д. Мы представляем тридцатые годы царством страха, и так оно и было, – но всякая насыщенная эпоха многокрасочна: наличествовала и эта краска – юные запойные читатели, конструкторы самодельных приемников, отмечавшие по карте маршруты челюскинского и папанинского дрейфа; героями этой эпохи были не только Ворошилов и Вышинский, но и Шмидт, и Кренкель, и Ляпидевский. Шпанов ведь не кремлевский соловей, не бард генштаба: он романтизирует то, что достойно романтизации. И оттого даже в насквозь идеологизированном, шапкозакидательском «Первом ударе» есть прелестные куски – взять хоть сцену, в которой майор Гроза устанавливает рекорд высоты в 16 300 метров. А он слишком туго затянул ремень комбинезона на ноге, и на высоте ногу перехватывает мучительной болью. Попутно мы узнаем, что на больших высотах любой физический дискомфорт воспринимается стократно острей, а также получаем краткую популярную лекцию о том, как максимально облегчить самолет для набора рекордной высоты. Короче, человек знал свое дело – и руководствовался не только жаждой выслужиться, но и вполне искренней любовью к авиации. В лучших своих текстах Шпанов похож на Ефремова – и единственный женский образ в «Первом ударе», статная красавица-сибирячка Олеся Богульная, напоминает женщин из «Лезвия бритвы»: очень сильная, очень здоровая, очень чистая – и стеснительная, разумеется; богатырша, «коваль в юбке».
Шпанов родился в Приморском крае 22 июня 1896 года. Добровольцем пошел на фронт Первой мировой, окончил воздухоплавательную школу, после революции немедленно взял сторону большевиков, добровольцем же вступил в Красную армию, после Гражданской редактировал журналы «Вестник воздушного флота», «Техника воздушного флота» и «Самолет». Написал учебник для летных училищ и монографию об авиационных моторах. Дебютировал в литературе повестью «Лед и фраки»[296]296
В действительности до этой приключенческой повести (1932) Шпанов выпустил ряд книг путевых очерков и сборники рассказов Загадка Арктики (1930) и Песцы (1931) (Прим. сост.).
[Закрыть], сочетавшей крайнюю политизированность с увлекательностью и подлинным исследовательским азартом: материал для нее он собрал, отправившись на «Красине» спасать Нобиле и его дирижабль «Италия» в качестве корреспондента «Известий». «Первый удар», называвшийся вначале «Двенадцать часов войны», был сочинен десять лет спустя, в 1938 году, и отвергнут всеми издательствами по причине литературной беспомощности. Впрочем, мы знаем, что литературная беспомощность никогда не мешала советским классикам, и более того – рассматривалась как преимущество; дело было в политической неопределенности. У Шпанова явно воевали с фашистами, с немцами, а окончательной ссоры с ними не произошло: конечно, в тридцать восьмом допустить договор о ненападении и дружбе мало кто мог, отсюда и почти всеобщий шок, о котором вспоминают многие, от того же Симонова до Эренбурга; однако брать на себя ответственность – публиковать сценарий воздушной войны с наиболее вероятным противником – никто не рвался. Похвальную храбрость проявил один Всеволод Вишневский – он всю вторую половину тридцатых неустанно твердил о близости грандиозной войны, которая сотрет в пыль Польшу и уничтожит десятки европейских городов. Советская победа не вызывала у Вишневского сомнений, но воевать, предсказывал он, придется долго. Желающих проследить историю публикации, согласования и раздувания «Первого удара» отсылаю к информативной и дотошной статье Василия Токарева «Советская военная утопия кануна Второй мировой».
Интересные соображения на эту же тему публиковал в разное время (прежде всего в статьях о Гайдаре) киновед и культуролог Евгений Марголит: всеобщий милитаристский психоз в его трактовке предстает единственной возможностью разрядить невыносимое напряжение, копящееся в воздухе, снять все противоречия, оправдать любой террор. Война была необходима, входила непременной частью во всю советскую мифологию тридцатых, – вопрос заключался лишь в том, кто ее убедительнее вообразит и представит более лестную для Отечества версию. Трагифарс состоит в том, что Сталин обожал фильм «Если завтра война» (тоже 1938-й) и регулярно смотрел его… во время войны! Нет, прикиньте: все уже случилось, причем совершенно не так, как предсказывала картина Дзигана (по сценарию, между прочим, Светлова), – а он мало того что регулярно пересматривает эту квазидокументальную агитационную ленту, а еще и дает ей в 1941 году премию своего имени, второй степени! Понятно, что ход пропагандистский, – значит, и впрямь велика наша мощь, и мы это подтверждаем, не наказывать же теперь тех, кто давал шапкозакидательские прогнозы, – но картину-то он смотрел не принародно, на даче, для себя. Стало быть, она его вдохновляла и успокаивала, что и требовалось. И чего не отнять у советского предвоенного искусства – так это чувства спокойствия и силы; шпановское сочинение – не исключение. У него там советские истребители встречают немецких в воздухе ровно через три минуты после того, как те пересекли нашу границу 18 августа тысяча девятьсот тридцать будущего года, – а потом, обратив их в бегство, стремительно раздалбывают и всю вражескую территорию. Разумеется, вся советская предвоенная мифология строилась на западной провокации – на которую мы отвечаем «малой кровью, могучим ударом»: все точно по Суворову, лишний аргумент в его копилку.
Есть один занятный нюанс во всех этих советских агитках, своеобразная экстраполяция, пока никем не отмеченная. Почти все, начиная с Радека и кончая нашим Шпановым, были убеждены, что простые люди Германии не захотят войны и быстренько начнут разваливать тыл. Степень зомбированности немцев в СССР явно недооценивали, искренне уповая на восстание германского пролетариата, не желающего воевать с первой страной победившей революции; а между тем немецкий пролетариат пер и пер на Россию, даже не думая протестовать. В России между идеологией и убеждениями масс всегда есть значительный зазор, подушка безопасности, здесь никто никогда вполне не верит тому, что официально сообщается. Такого же поведения россияне справедливо ожидают и от немцев, но в Германии процент людей, убежденных в святости нацизма, оказался печально высок, а степень иммунитета к тоталитарным гипнозам – в разы ниже, чем в России.
Россия никогда не была вполне коммунистической, даже в годы большого террора, – но Германия была нацистской, ничего не поделаешь. Шпанов предполагал: «Первые же разрывы советских бомб подтвердили со всей очевидностью тяжелый для германского командования недостаток технических войск. Слишком многое зависело от людей, обладающих умелыми и грубыми руками, слишком многое господа офицеры не умели делать сами. Если в пехоте солдат, попавший в бой, под страхом наведенных на него с тыла пулеметов полевой жандармерии, волей-неволей должен идти вперед, стрелять, колоть и умирать за тех, кому он хотел бы всадить в живот свой штык, то здесь, в авиации, где нужны прежде всего умелые руки ремесленника и сметка мастерового, пулеметом не поможешь. Увы, это было слишком ясно и самим офицерам». Первая составляющая утопии вполне убедительна – русские асы отлично владеют собой, машиной и всей полнотой информации; но вторая – мы победим при мощной поддержке германского пролетариата – наводит на мысль, что уж лучше бы он летал.
Когда Шпанов отвлекается от авиации на личную жизнь героев, пейзажи и громкую идеологию, – видно, как ему все это скучно. Зато когда речь заходит о ТТХ (тактико-технических характеристиках), скорости, высоте полета, – он в своей стихии, и в стиле его, нарочито стертом, появляется даже нечто поэтическое. В описаниях отрицательных героев он явно наследует Жюлю Верну – все они сплошь аристократы и развратники, не умеющие ничего спланировать на сутки вперед. Наши же необыкновенно четки, быстры и деловиты – новый, не являвшийся прежде образ «массового человека», весьма показательная эволюция от рохли и мечтателя к железному, все умеющему конструктивисту. И некие черты этого нового облика были реальны. Скажем, вышеупомянутый азарт, жажда сделать невозможное и явить его миру, а главное – все та же свежесть, восторг первопроходца, зашедшего туда, где никто еще не бывал! Фашизм опирался на архаику, на подвиги дедов, искал идеала в прошлом, – но первопроходчество, в том числе и социальное, бредит только будущим, и в этой модернистской ориентации – главное различие между двумя тоталитарными режимами, различие, которого не чувствуют люди с отбитым обонянием. Они ходят на выставку «Москва – Берлин», любуются тяжеловесными спортивными Брунгильдами и кричат об эстетических сходствах; но стоит им сравнить тевтонскую прозу с романами Шпанова (хотя бы роман Роберта Кнауха под псевдонимом «майор Гельдерс» «Разрушение Парижа», демонстративно переведенный и выпущенный в СССР, – с тем же «Первым ударом»), и все интонационные, фабульные и эмоциональные различия сделаются наглядны. И это уже не градация во вкусовых качествах ботиночных шнурков, а полярность самой ориентации: от фашистской утопии, равно как и от нынешних «суверенных» потуг, несет отборной тухлятиной, а утопии времен советского проекта – от «Иприта» того же Шкловского с Ивановым до «Аэлиты», от «Звезды КЭЦ» Александра Беляева до «Глубинного пути» Николая Трублаини – веют свежестью, ничего не поделаешь. Хорошие люди с правильными ценностями, с верой в разум и в необходимость человеческого отношения к людям, идут, летят, плывут и растут в том направлении, где никто еще не бывал. И этого озона ничем не отобьешь – сколько бы ерунды ни написал Шпанов после войны, когда проект начал выдыхаться. Ведь в «Первом ударе» нет ксенофобии, вот в чем дело: в военном романе – и нет! Потому что это роман о ХОРОШИХ немцах, свергающих собственный режим, и о том, как русские побеждают Германию В СОЮЗЕ С НЕМЦАМИ. Идиотская вера, но трогательная. А вот в поздних сочинениях Шпанова, чуткого к воздуху времени, повеяло как раз архаикой и – более того – сусальностью.
По Шпанову наглядно можно судить об этапах перерождения советского проекта – от его раннего конструктивистского модернизма в поздний квасной пафос, от интернационализма к синдрому осажденной крепости, от оптимизма в отношении человеческой природы (в том числе и германского пролетариата) – к мрачному мироощущению, заполнявшему мир «Заговорщиками», «Поджигателями» и «Ураганами». Отдыхал он душою только на стилизациях в духе «Старой тетради», хотя и там подхалтуривал, ибо многое тырил, скажем, у Эдгара По. Сравните то, что писал Шпанов до и во время войны, с тем, что он ваял после, – и причины советской катастрофы станут вам очевидны. Но и с поздними его сочинениями «Воинов креатива» и «Американское сало» не сравнить: Шпанов вызывает чувство горечи, а его нынешние аналоги – чувство гадливости. Почему бы?








