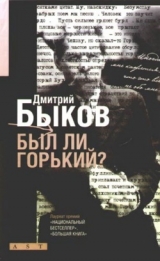
Текст книги "Был ли Горький? Биографический очерк"
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
3
Слабых он не любил, это да. Запомним эту откровенную сентенцию – редкую у него, потому что как раз защите и поддержке слабых он будет уделять много внимания; но, видимо, речь будет идти не о слабых по-настоящему, а об униженных и забитых неправильным, уродливым устройством общества. Собственно, слабых героев у Горького немного, и даже падшие его персонажи достойны более зависти, нежели жалости. Такой же приговор слабости выносится в его знаменитом рассказе «Каин и Артем» – там босяк до поры до времени защищает еврея, а потом вдруг отказывается от этой благородной миссии. Что толку защищать того, кто никогда не сможет постоять за себя?! Горький – писатель в высшей степени гуманный, но альтруизма мы у него не найдем. Погибнуть за всех людей, за обобщенное счастье человечества, как Данко, – это пожалуйста, тут цель великая; но отказаться от своего счастья ради чужого благополучия – это увольте. Рисковать стоит ради сильных, которым почему-либо трудно, – а слабых спасать бессмысленно.
Так они зажили с Каминской в Нижнем, но идиллии не вышло: все, что можно было снять за два рубля в месяц, – банька при доме спившегося попа, который вел с Пешковым беспрерывные теологические дискуссии, одновременно пытаясь споить и его. Чтобы работать – а сочинял Пешков по ночам, – приходилось накручивать на себя всю одежду и сверху еще ковер; так у Горького завелся ревматизм, от которого он до конца жизни не избавился. Вообще «О первой любви» – довольно мстительный рассказ: написан он в 1922 году, когда Горький вообще расплевывался с последними иллюзиями, и понятно, что с тридцатилетней дистанции он весьма резко отзывается о бывшей возлюбленной. То ему кажется, что всю мудрость жизни ей заменил учебник акушерства, то – что она была слишком прожорлива (организовала общество «жадненьких желудочков», наслаждалась сычугом с гречневой кашей), то ему видится в ней цинизм. А между тем именно ее мудрость оказалась в его жизни главной:
«Ты слишком много философствуешь, – поучала она меня. – Жизнь, в сущности, проста и груба; не нужно осложнять ее поисками какого-то особенного смысла в ней, нужно только научиться смягчать ее грубость. Больше этого – не достигнешь ничего».
И в чем ее неправота? Вся горьковская апология культуры, все его мечты об украшении жизни, в сущности, только к этому и сводятся. Коренной-то переделки, о которой он мечтал и на которую так много поставил, не получилось. Поэтому уже в первом десятилетии XX века все его упования – на культуру, на смягчение грубости жизни, на украшение неисправимого. Но женщине, да еще любимой, он такого снижения простить не мог. Заметим, кстати, эту параллель между бунинской «Ликой», в которой он вспоминал о любви к Варваре Пащенко, и горьковским рассказом «О первой любви». Считается, что Бунин был писателем жестоким, сухим, безжалостным, чуждым всякому романтическому флеру, – Горький же до конца дней якобы оставался сентиментальным, романтичным, склонным к украшательству и лакировке; но как убийственна разница между пылкой, отчаянной финальной частью «Жизни Арсеньева» – и горьковским сардоническим рассказом! Тут вообще главная разница, изначальное различие не в амплуа даже, а в психотипах: материал, казалось бы, сходный – юношеская любовь к более зрелой и опытной женщине, любовь несчастная (а первая почти всегда несчастна, иначе она, простите, скучна и плоска). Бунин свою Лику до сих пор боготворит, сходит с ума от ревности, страстно ее жалеет – отлично сознавая всю пошлость ее вкусов, недалекость, полуграмотность даже; Горький всячески расписывает красоту, изящество и ум первой возлюбленной – но говорит о ней с такой обидой и таким высокомерным скепсисом, что и в тогдашнюю его любовь не очень веришь. Что хотел он ее сильно – само собой, что любовался ее весельем, изяществом и некоторым даже шиком – очень видно; но страстью тут не пахнет, не говоря уж о любви. Все-таки он был человек холодный, более всего озабоченный поиском чего-то небывалого – а все человеческое решительно его не удовлетворяло; любить он мог только то, чего не бывает, только то, что стояло бы во всех отношениях выше, чем он. (Вот почему, кстати, его так высоко ценила Гиппиус – сама такая же.) Отсюда его страсть к железным женщинам, тайная тяга к благоговению и подчинению – но, как легко предвидеть, существа сильнее его попадаются редко, оттого и влюблен по-настоящему он был в жизни всего дважды, и не в Каминскую, конечно. С ней он расстался в 1894 году, и, кажется, окончательным переломом в их отношениях был момент, когда она заснула, слушая только что написанную «Старуху Изергиль». Правду сказать, понять ее можно.
4
«Старуха» – одно из самых популярных сочинений раннего Горького, но эта слава как раз доказывает, что у массы почти всегда неважный вкус. Композиция как в «Макаре Чудре»: море, у моря сказывается древняя сказка, – здесь, правда, их две плюс биография рассказчицы. Рассказ написан вдохновенно, за одну ночь (по другим признаниям – за сутки), с романтической приподнятостью в нем все обстоит прекрасно, со вкусом несколько хуже. Считается, в общем, что в этом рассказе Горький преодолевает свой ранний байронизм – осуждает гордеца Ларру, зато возвеличивает молодца Данко, отдавшего сердце свое за людей. Между тем ключевая часть рассказа как раз не эта, а исповедь старухи, меж двумя легендами рассказывающей свою жизнь, – и как раз такая композиция изобличает в бывшем столяре, грузчике, красильщике, бродяге, хлебопеке, бурлаке, строителе, стороже, репортере и проч. недюжинную литературную изощренность. Реальность всегда богаче и сложней романтических представлений о ней, и как раз в судьбе старухи замечательно переплелись оба варианта – и самоотверженность в духе Данко, и эгоизм в духе Ларры; в этом и контрапункт, и смысл рассказа – в том, что никакие ожидания не сбываются и рациональные схемы не выстраиваются. Только в сочетании Данко и Ларры – истинная женщина и истинная жизнь; Горький и за собой знал это сочетание, отлично сознавая всю тупиковость альтруизма и неблагодарность человечества. За эту композицию, действительно оригинальную и выверенную, Горький и выделял этот рассказ: «Должно быть, ничего уже не напишу я так стройно и красиво, как написал „Старуху Изергиль“».
«Старуху Изергиль» Горький сочинил в Нижнем осенью 1894 года, уже сотрудничая в нижегородском «Волгаре», печатаясь в «Волжском вестнике» и «Самарской газете». Мелочи, которые он печатал в «Волгаре», представлялись ему очень плохой литературой, чистой поденщиной, хотя напечатал он там и первое свое большое произведение – повесть «Горемыка Павел», растянувшуюся аж на 25 номеров. Это бульварная история – смесь романа воспитания с любовной мелодрамой, и хотя есть в ней и горьковская беспощадная память на отвратительное, и горьковское чутье на смешную и уродливую деталь, вещь эта вполне оправдывает авторское пренебрежительное отношение к ней. Между тем его приятель, студент Васильев, уже отвез в Москву – без его ведома – небольшой рассказ «Емельян Пиляй», и он появился в «Русских ведомостях» – издании серьезном. Короленко все настойчивей уговаривал Горького переезжать в Самару – «Самарская газета» была не чета «Волгарю». Вскоре Горький оставил гражданскую жену и осенью 1895 года перебрался в Самару, где и началась его профессиональная литературная жизнь. Самарский период оказался необычайно плодотворен: почти все рассказы и очерки, составившие его первый двучастный сборник, написаны именно тогда.
5
Почти все ранние сочинения Горького – включая и «Старуху» – построены на нехитром, но действенном приеме: он берет традиционную литературную схему и выворачивает ее наизнанку – либо, в более удачных вещах, одним незначительным «поворотом винта» до неузнаваемости меняет устоявшийся сюжет. Фабульные схемы, отлично известные невзыскательному интеллигентскому и даже пролетарскому вкусу, присутствуют в каждом рассказе первого цикла – и в каждом Горький взрывает их одним неожиданным фабульным ходом: он словно пришел сказать, что вся литература до него врала и только с ним пришла живая жизнь, непредсказуемая, неоднозначная, более мрачная, но и более счастливая, чем любая схема. Разрушение схем, кстати, идет не только по линии наращивания ужасного, но иногда и по линии опровержения этого ужасного, иногда и хеппи-энд из всего этого высовывается, как в замечательной пародии на святочный рассказ «О мальчике и девочке, которые не замерзли». Разрушить штамп – вот какая была у Горького установка; и читатель ее немедленно оценил.
Но истинная слава пришла к нему, конечно, не благодаря беллетристике – хотя и ее он активно размещал в поволжских газетах, потому что рассказы в них печатали охотно, за недостатком собственно газетных жанров. Горького сначала узнали как фельетониста. Впоследствии он скромно писал, что начал «с плохих фельетонов под хорошим псевдонимом Иегудиил Хламида» – псевдоним действительно отличный, так и видишь огромного, язвительного, басовитого семинариста, да и слог этих фельетонов часто стилизован под духовную литературу, велеречивую и архаичную. Чего стоят одни только «Мысли и максимы», которые Хламида публиковал регулярно: «Сколь туго ни застегивай штаны твои, начальство выпорет тебя, если пожелает того!» Или: «Пли! И благо ти будет! Но долговечен ли будеши на земли – кто скажет?» Но, правду сказать, хорош был не только псевдоним: хороши были и фельетоны. Начал Горький с нищенских расценок – две копейки за строчку – и с компиляторской рубрики «Очерки и наброски», где печатались бесподписные обзоры российской провинциальной печати. 24 февраля он приступил к работе, а уже к июлю – когда, собственно, и появился Иегудиил Хламида, – был ведущим сотрудником газеты, грозой самарского купечества и любимцем разночинной интеллигенции.
Самару называли тогда русским Чикаго: город рос как на дрожжах, в нем было больше ста тысяч населения, вокруг лежали плодороднейшие степи; здесь торговали пшеницей, шкурами, салом, самарская пристань кипела народом, и в центре города воздвигались богатейшие особняки, принадлежащие недавним гуртовщикам и кулакам. Самарское купечество было, как писал Горький, умевший в трех хлестких словах портретировать явление, «благочестивым, сытым и жестоким»; итогом его трехлетних наблюдений над поволжским купеческим бытом стал роман «Фома Гордеев» – первое его крупное произведение, которым автор был доволен. Три самарских года стали для Горького не просто временем первой славы и относительно стабильных литературных заработков, но и временем знакомства с истинными хозяевами России – с купцами, которым, по сути, и принадлежала власть в городе. «Самарская газета», основанная бывшим гусаром Новиковым и перекупленная в девяностые годы молодым купцом Костериным, вела себя полиберальнее, чем даже столичная пресса: в тогдашней России это было явлением частым – в провинции работали те, кого из столиц высылали за вольномыслие. В «Самарской газете» фактическим редактором был Николай Ашешов, друг Короленко, которому как раз и пришлось из Москвы переехать на Волгу. Он был двумя годами старше Горького, сам из крестьян, окончил, однако, юридический факультет МГУ и устроился в «Русскую жизнь», но в девяносто втором отправился в административную высылку, выбрав для нее Самару. Пешкова он выделил сразу. Молодой фельетонист поселился на Москательной (ныне улица Льва Толстого), но жил фактически в редакции, ибо на нем, помимо еженедельного фельетона, были и упомянутые обзоры прессы, и весь художественный отдел, и – по мере необходимости – репортажи в номер. Вскоре он завел квартиру поприличнее – уже не в полуподвале, а в первом этаже, на Вознесенской (ныне Степана Разина), а еще через полгода въехал во вполне приличное жилье на Дворянской. Здание редакции, кстати, цело поныне – это дом с мемориальной доской на нынешней улице Куйбышева, 73 (в прошлом тут располагалась Алексеевская площадь). Здание редакции – двухэтажное, купеческое – ежедневно осаждалось посетителями, просителями и негодующими читателями, желавшими расправы над прессой; Хламиде доставалось чаще других, на него жаловались в столицы, но ущучить не могли. Он печатал опровержения, а потом возвращался к теме – убедительно и доказательно. Самарская цензура хоть и не забывала о своих обязанностях, но была либеральнее московской. Горький позволял себе замечательные вольности, которые, кстати, вполне актуальны и по нынешним временам:
«Мой знакомый пришел ко мне и тотчас же заявил:
– Местная печать не соответствует своему назначению…
В сущности, я прекрасно знаю, что не соответствует, и знаю причины, в силу которых в русской жизни установилось несоответствие печати с ее назначением. Дело, видите ли, в том, что с точки зрения сведущих в жизни людей порядок гораздо нужнее для жизни, чем правда, справедливость и иные прочие вещи, без которых живем ведь мы!»
6
Для тогдашней России яркий, смешной и храбрый фельетон в газете был в новинку. Немудрено, что Хламиду заметили и стали заказывать фельетоны и обзоры – уже не в Самаре, а в Нижнем, а впоследствии и в «Одесском листке», где нужен был свой поволжский корреспондент. Горький никакой работы не боялся – писать ведь, по русскому выражению, не мешки ворочать, а он и мешки когда-то ворочал неутомимо; по подсчетам горьковедов, за два неполных года он написал около 500 полновесных фельетонов и очерков, не считая собственно беллетристики, принесшей ему два года спустя настоящее писательское имя. Производительность фантастическая, для тогдашней России непредставимая. Сам он при встрече с Леонидом Леоновым в Сорренто, в 1927 году, грустно признался: «В сущности, я всего лишь публицист». Леонов, по собственным воспоминаниям, тогда не возразил, а надо бы – возможно, будущее охлаждение между ними имело своим истоком именно этот диалог. Конечно, «всего лишь публицистом» Горький не был – но газетную работу, безусловно, делал на высочайшем уровне. В России человеку всегда приходится оправдываться за то, что он умеет чуть больше. Горький был первым русским писателем, чей журналистский талант не уступал литературному – вспоминается, пожалуй, еще Некрасов, но Некрасов газетчиком не был и не представлял, что такое пятьсот строк в номер ежедневного издания. Звездным часом Горького-газетчика стала Первая всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года: его репортажи оттуда – в самом деле шедевры. Во-первых, все видно: живо, пластично, коротко. Во-вторых, Горький точно выразил настроение большинства посетителей выставки, ставшей в самом деле важной вехой русского самосознания; не зря Шагинян в своей тетралогии о Ленине посвятила «Первой всероссийской» отдельный том.
С одной стороны, выставка продемонстрировала колоссальную мощь отечественной промышленности и науки, фантастическое русское богатство; с другой – обнаружила полное непонимание, что с этим богатством делать. Горький много писал о недоумении и неодобрении купцов, увидевших типографскую машину и воздушный шар; о патологически низкой культуре большинства посетителей; о рабской и необоснованно жестокой эксплуатации людей, от которых в конечном итоге и зависело все это процветание. У нас в девяностые годы прошлого века неожиданно всплыл миф о сказочном богатстве, роскоши, сытости царской России, о миллионах пудов зерна, тоннах икры, стремительном промышленном росте и прочих прелестях российского капитализма. Все это было, но был и совершенно не соответствующий этим темпам государственный механизм, и темнота, и социальное расслоение много хлеще нынешнего. Главный тон горьковских корреспонденций – именно смесь досады и гордости, нормальное состояние тогдашнего русского интеллигента: столько всего у нас есть – и так мы не умеем всем этим распорядиться! Интересен тут и еще один аспект: на выставке была представлена не только промышленность, но и культура. Была тут большая экспозиция новой живописи, в том числе Врубеля. Горький оказался с молодости упрямым врагом всяческого модернизма: расписанный Врубелем занавес с призрачными женскими фигурами он назвал «Провал сквозь землю престарелых дев», а о прочей модернистской живописи отозвался еще резче, чем в годы соцреализма ругал Андрея Белого. При всей его любви к свободе и нелюбви к цензуре – в искусстве он оказался строжайшим консерватором и традиционалистом, поборником внятности. Эту неприязнь к модернизму – в стихах, в прозе ли, в живописи – пронес он через всю жизнь; странно, что модернисты отнюдь не платили ему взаимностью и признавали горьковский талант, сожалея лишь о невоспитанности вкуса.
7
Корректором «Самарской газеты» служила Екатерина Волжина. Она была дочерью разорившегося помещика, пошедшего теперь в управляющие. Сразу после гимназии она устроилась в газету, потому что семья нуждалась в деньгах. Сам Горький описывал ее в письмах иронически – «рот и нос некрасивы», «не знает, чего хочет», – но ирония это была незлая, отеческая, что ли: он был старше ее на восемь лет, знал и видел столько, что казался ей полубогом, относился к ней снисходительно, ухаживал недолго. Они обвенчались 30 августа в самарском Вознесенском соборе. Катина семья была против, но она никого не слушала. Правду сказать, Горький самарского периода – при всей своей славе фельетониста – казался обывателям чуть ли не безумцем. Во-первых, он ненавидел тошнотворную серьезность провинциального общения и вечно выдумывал какой-нибудь бред – вроде того, что на Кавказе есть вино, от которого зеленеют уши; обыватели охотно верили. Во-вторых, он одевался примерно так же, как и во время своих странствий: мягкие кавказские сапоги, широкие синие хохлацкие штаны, знаменитая впоследствии разлетайка вроде пончо, под ней черная тужурка, туго подпоясанная; на голове широкополая шляпа – такие почему-то называли греческими, в руке крепкая палка. Это потом тысячи поклонников и коллег стали одеваться «под Горького»; тогда это был еще не стиль, а чудачество, вызов, и общее недоверие, сопровождаемое насмешками, было для Горького еще одним поводом возненавидеть самарского обывателя. Когда Ашешов переехал в Нижний редактировать тамошний «Листок», он позвал с собой любимого автора, и Горький охотно за ним последовал. Такова была его судьба – возвращаться в Нижний после двухлетних отлучек, каждый раз на новый этаж социальной лестницы. На этот раз он прибыл в город всероссийски знаменитым журналистом и начинающим писателем: в «Русском богатстве» был напечатан «Челкаш» – история о босяке, который добрее, храбрее и великодушнее подлого и жадного хозяйчика, крестьянина Гаврилы. «Челкаш» снискал Горькому первых недоброжелателей, увидевших в рассказе клевету на милый их сердцу народ и неоправданную лесть люмпену. Михайловский – народник, главный редактор «Русского богатства» – справедливо замечал, что о горьковских босяках не скажешь, отвергнутые они или отвергнувшие; этого-то и не прощали, особенно те, кому казалось, что для нравственности необходимы корни, прочное положение, оседлость и регулярный труд.
В октябре 1896 года Горький на месяц слег сначала с бронхитом, потом с воспалением легких, температура не спадала; в январе следующего года у него диагностировали туберкулезный процесс. Пришлось ехать на лечение в Крым, да потом еще долечиваться поблизости, на Украине, под Полтавой, в деревне Мануйловке. Здесь он изучал украинский и играл с местными ребятами в городки, здесь же 27 июля родился его сын, которому он, естественно, дал любимое имя своего отца и своей литературной маски. Максим Пешков прожил странную жизнь – всегда в тени знаменитого отца, всегда при нем, при его друзьях, и кажется, ему так и не случилось повзрослеть. Все, кто его знал и оставил мемуары, упоминают о его фантастическом инфантилизме: больше всего на свете он любил скорость, автомобили, гонки, немало пил, был женат на красавице (к которой и отец его был неравнодушен – хотя версия о его снохачестве ни на чем не основана и восходит, кажется, к горьковскому рассказу «На плотах»). Горький обожал сына, но, как и первой жене, уделял ему очень мало внимания: он, признаться, был не слишком хорошим семьянином и вообще не мог систематически опекать ближних, поскольку слишком много заботился о дальних (не забывая, впрочем, и себя). Это было какой-то изнанкой, отражением его восторженной любви к человечеству в целом и отвращения к большинству его частных представителей. Екатерина же Пешкова, оставшись на всю жизнь его другом и помощником, никогда не была объектом по-настоящему страстной любви: он всегда воспринимал ее скорей как друга.
Осенью 1897 года Горький пытался устроить в Мануйловке мужицкий театр – и сам дивился, с каким энтузиазмом мужики взялись репетировать пьесу Карпенко-Карого «Мартын Боруля». На спектакль сошлись из окрестных деревень, сам Карпенко-Карый приезжал его посмотреть, особенно восхищаясь талантом исполнителя главной роли, крестьянина Якова Бородина. Провожать Горького из Мануйловки собралась почти вся деревня, устроили ему в сельской чайной торжественный обед.
В декабре он вернулся в Нижний, а в январе получил одно из тех предложений, о которых и самый прославленный писатель с удовольствием вспоминает всю оставшуюся жизнь: два начинающих издателя – Дороватовский и Чарушников – предложили ему собрать свои рассказы и очерки в небольшой томик и издать в Москве. Они верно почувствовали конъюнктуру – ни на что не похожая проза Горького идеально соответствовала запросам нового читателя; но ни одно из уже существующих издательств не бралось публиковать книгу, написанную столь резким языком и на столь грубом материале. Горький по меркам конца позапрошлого века был действительно горек, и Дороватскому с Чарушниковым пришлось основать собственное издательство – они так и назвали его, своими фамилиями, и выпустили больше ста книг для массового читателя; у Горького набралось очерков не на один, а на два тома, и эта-то книга весной 1898 года вышла в Москве, но сама по себе она, конечно, такой славы Горькому не сделала бы. Пусть читателей становится все больше, пусть грамотных прибавляется, пусть даже в России возник «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» и начал вовсю перепечатывать в виде листовок давнее, совершенно невинное горьковское сочинение «В Черноморье», которое 5 марта 1895 года вышло в «Самарской газете» и никем не было толком замечено (миллионы выучили его наизусть под названием «Песня о соколе»), – настоящую рекламу писателю делает в России только правительство.
И в 1898 году, непосредственно после выхода московского двухтомника, оно таки занялось Горьким вплотную.



