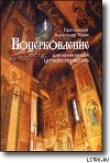Текст книги "Избранное"
Автор книги: Дмитрий Фурман
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Этот захват «спасающей» силы есть одновременно некоторое принижение «искупления» и усиление значения воли и действий человека (поскольку они совершаются в организации и через организацию). С актом искупления происходит то же, что происходит с Библией. Как Библия теряет значение уникального источника истины, так он теряет характер уникального, необходимого и достаточного источника спасения. Последнее достигается не только этим подвигом Христа, но и действиями священника, совершающего таинства, и действиями тех, кто спасается. Эти действия – заслуги. И подобно тому, как знания, которые церковь определяет в качестве истинных, входят наряду с Библией в постоянно пополняемую «сокровищницу» церковного учения, точно так же и заслуги, если они превышают грехи, входят в «сокровищницу», из которой церковь черпает свою «спасающую» силу, силу благодати. Вера в акт искупления становится верой в церковь.
Иррациональность этических требований, вытекающих из веры, та иррациональность и деформализуемость евангельской этики, которая не давала возможность спастись фарисею, но делала спасение доступным для раскаявшегося разбойника, превращается в требование неуклонного выполнения строго формальных предписаний церкви. Верующий должен ходить к исповеди, точно говорить священнику о совершенных им грехах, получать от него отпущение грехов, освобождающее его от вечных мук ада, выполнять точно наложенные им «сатисфакции», избавляющие его от временных мук чистилища, причащаться, перед смертью собороваться, а после смерти, поскольку судьба его все-таки до конца не ясна (не во всех грехах он покаялся, не все сатисфакции выполнил), его близкие должны совершать заупокойные мессы. Средств спастись, оправдаться на Страшном суде, таким образом, много, они действуют точно, безотказно и всегда (даже после смерти). Надо лишь вести очень тщательную «бухгалтерию», не забывая ни о каких грехах и ни о каких магических действиях. При этом совершение греха и невыполнение предписанного магического действия приравниваются друг к другу. На практике последнее могло даже оказаться важнее первого.
Средневековая католическая церковь, однако, не могла полностью превратить учение, утверждающее несоизмеримость божественных и человеческих ценностей, в учение, по которому высшей ценностью в глазах бога является неуклонное соблюдение многочисленных формальных предписаний. Исходное «разведение» божественных и человеческих ценностей остается на «дне» доктрины-в утверждении, что вся «бухгалтерия» католического пути к спасению, вся формалистика церковной магии действуют лишь при условии веры, любви к богу и искреннего раскаяния в грехах. Какой же путь открывался перед тем, кого угнетала мысль об отсутствии у него этих необходимых и неопределенных духовных условий, без которых магия оказывается недействительной? Это был путь монашества. Как догматическая теология предполагает мистицизм, так этическая формалистика предполагает аскезу.
Монашеская аскеза – вроде бы несомненный акт любви и веры. Ведь это не обязательное, а «сверхдолжное», не выполнение заповедей, а следование «советам». Но и она не дает гарантию спасения. Ведь и она предполагает это условие: она должна совершаться из любви к богу. И никакой самый великий аскет не может быть уверенным, что им не руководят гордыня и тщеславие.
«Неприличная» легкость достижения спасения покупкой индульгенций и исступленный монашеский аскетизм, когда никакие добровольно накладываемые на себя страдания не кажутся достаточными, – это как бы два полюса католического пути спасения, взаимодополняющих и предполагающих друг друга. Но за их противоположностью скрывается общее: в обоих этих вариантах спасение – в руках церкви, оно достигается через особые действия, санкционированные и направляемые церковью. И неопределенность (легкость и трудность одновременно), имманентная христианской идее спасения, претворяется в католической доктрине так, что она становится источником полного подчинения личности церкви. Церковь не позволяет никому ни возгордиться до противопоставления себя церкви (любой аскетизм недостаточен, если при нем сохраняется гордыня), ни отчаяться до такой степени, что он отвернется от церкви (она примет любого грешника, если он придет к ней с раскаянием и верой). Дон Жуан может надеяться, что если он перед смертью покается и завещает имущество на заупокойные мессы, то он может в ад не попасть, а молодой монах Лютер сколько ни бился, не мог обрести уверенности в спасении, пока не понял, что спасение не зависит от его усилий – оно даруется (дается даром) богом.
Мы уже говорили о том, что когда Лютер «понял», что спасение от его усилий не зависит, а дается даром, это было разрешением его духовного кризиса, с него свалилась угнетавшая его тяжесть, и он говорит об этом ощущении своего бессилия как о «христианской свободе». Рассмотрим теперь, как представление реформаторов о «даровом», «благодатном» спасении связано с другими аспектами их учения.
Некоторые такие связи ясны уже из предшествующего изложения; акту «искупления» возвращается его «уникальность», спасает лишь он и вера в него, у церкви отнимаются ее функции хранителя «сокровищницы заслуг» и дателя «благодати»; переосмысливаются таинства (это уже не магические действия, эффективные сами по себе); причастие уже не мыслится как жертва и как магическое превращение хлеба и вина в тело и кровь Христовы; соответственно, у церкви отнимается право предписывать действия, гарантирующие спасение (она не обладает никакой автоматически спасающей силой и не может гарантировать то, чем не распоряжается).
Но самые существенные последствия нового представления о спасении – это выводы аксиологического и этического порядка. Утверждая неспособность человека достичь спасения собственными усилиями, учение реформаторов не разрывает, разумеется, всякую связь спасения и нравственности. Дело, скорее, в том, что нравственный идеал (состояние личности, при котором она неоспоримо заслуживает спасения) оказывается в системе реформаторов безмерно великим и в принципе недостижимым [62]62
Лютер пишет, что заповеди «показывают нам, что мы должны делать, но не дают нам силы делать этого… Например, „Не возжелай…“ —заповедь, по которой мы все осуждены, ибо никто не может не возжелать, какие бы усилия он ни прикладывал» (Luther М.Word and Sacrament. Vol. 2. P. 367).
[Закрыть]. Это – личность Иисуса Христа и предельные евангельские требования, которые реформаторы «извлекли со дна» католической этической системы, отвергнув идею действенности церковной магии и различение «заповедей» и «советов».
Хотя евангельские требования к личности становятся нравственным образцом для верующего, интернализуются им, превращаются в голос его совести, они от этого не становятся выполнимее. Они – зеркало, в котором верующий видит свою бесконечную греховность [63]63
«И вот глубокие ученые, – пишет Кальвин, – говорят, что возлюбить врага – это не заповедь, а лишь совет, который дал нам Иисус Христос, Господь наш. На чем они основываются? А вот на чем. Уж очень это трудно – любить тех, кто нас ненавидит и преследует! Отсюда и выводят, что Бог нам этого не заповедовал, ибо это было бы с его стороны уж слишком суровым. Получается так, как если бы Бог потерял свое право повелевать лишь потому, что мы так испорчены и глупы, что не можем выполнить то, что он повелел» (Calvin].Textes choisis. P. 235). В другом месте он пишет: «…если Бог приказывает нам нечто, отсюда не должно вытекать, что мы можем это выполнить или что у нас достаточно сил, чтобы повиноваться ему» (Ibid. Р. 263).
[Закрыть]. Неверующий, не знающий этого идеала не знает и своей греховности, его ничтожество спрятано от него его этическими заблуждениями, и это его гибель, а верующий знает свое ничтожество, знает, что преодолеть его невозможно, и получает спасение «даром», самой верой.
На первый взгляд такая доктрина должна вести к фатализму и пассивности. В самом деле, ведь вера – «дар божий», тот субъективный эквивалент объективного спасения, который так же не зависит от личности, как не зависит от нее и само спасение. Бог совершенно произвольно дарует веру-спасение некоторым людям. Человек – бессильная игрушка в руках всемогущего бога. Особенно этот момент бессилия человека и произвола бога подчеркивает (и, можно сказать, наслаждается им) Кальвин, доведший идею о том, что спасение даруется богом без заслуг, до логического конца – до мысли, что изначально, до сотворения мира, бог предопределил одних к спасению, других к гибели. Кажется, это предел фатализма, и принявший эту доктрину человек может «сесть сложа руки». Но в идеологии Реформации, представляющей собой рефлексию над парадоксом христианского мифа, все парадоксально.
Подобно тому как полное отрицание возможности разумом постичь истину оборачивается его раскрепощением, так полное отрицание возможности достичь спасения при помощи волевых усилий оборачивается, как отмечал еще Г. В. Плеханов, раскрепощением воли и невиданным ранее активизмом. При этом наиболее последовательный в отрицании роли воли в деле спасения кальвинизм ведет к большему, чем лютеранство, активизму и оказывается идеологией, разворачивающей неудержимую предпринимательскую и политическую активность голландской и английской буржуазии. Как это получается?
Прежде всего, достижение спасения объективно бесконечно сложно, субъективно же – предельно просто. Надо «просто» поверить, что Иисус Христос умер за тебя и спас тебя (только это просто – для спасенных, а для тех, кто обречен к гибели, это недостижимо).
И после этого не надо совершать никаких особых действий, ибо никаких специфических спасающих, сакральных действий нет и не может быть. Верующий может и должен спокойно оставаться на своем месте и продолжать все то же, что он делал и раньше. Лютер в «Вавилонском пленении церкви» пишет: «…я не советую кому-либо входить в какой-либо монашеский орден или принимать священство… если только он… не понимает, что труды монахов и священников, какие бы трудные и святые они ни были, ни на йоту не отличаются в глазах Бога от трудов крестьянина в поле или женщины, работающей по хозяйству, но что все труды измеряются перед Богом лишь одной верой» [64]64
Luther М.Word and Sacrament. Vol. 2. P. 76.
[Закрыть].
Но то, что никаких особых действий совершать не нужно, ибо действия спасения не дают, не значит, что вера никак не влияет на дела. Как пишет Лютер: «Правильно говорят: хорошие дела не делают человека хорошим, но хороший человек делает хорошие дела» [65]65
Ibid. P. 381.
[Закрыть].
Как отрицание возможности для человеческого разума постигнуть бога не означает, что его не надо стремиться постигнуть, так и отрицание возможности выполнить необходимые для спасения условия не означает, что не надо стремиться их выполнить. Закон, требующий бесконечной любви к богу, полной «самоотдачи», есть не только зеркало, в котором человек видит свою греховность, но реальное требование совести, которое нельзя выполнить полностью, но надо стремиться выполнить максимально. Человек все равно останется грешным человеком, все равно всегда будет грешить, «падать». Но вера проявляется не в том, что человек не грешит, а в том, что, «падая», он поднимается, что он постоянно борется за достижение недостижимого идеала. Как пишет Кальвин: «Хотя это хитрость дьявола – наполнить наши умы верой в достижимость совершенства, мы, тем не менее, должны со всей силой к нему стремиться» [66]66
Цит. по кн.: Wallace R.Op. cit. P. 323.
[Закрыть].
И это стремление к недостижимому идеалу должно совершаться в повседневной деятельности, в обычной работе, которая тем самым оказывается служением, «призванием». В своей работе человек должен делать все, что в его силах, чтобы выполнить заповеди. Это и есть его аскеза, это и есть его «сатисфакции».
Так, крайний фатализм одним из «оборотов» мысли реформаторов превращается в безудержный активизм, отрицание сакрального значения каких бы то ни было действий – в сакрализацию человеческой деятельности в целом, всех ее сфер, всех «ролей» человека. Как говорил Кальвин, святые, т. е. спасенные, «что бы они ни ели и ни пили… тем самым – в еде, питье и даже в войне – приносят чистую жертву Богу» [67]67
Ibid. Р. 33.
[Закрыть].
Что конкретно должен делать человек в бесчисленных этических ситуациях, из которых состоит его жизнь, никакие книги и личности, никакие моральные трактаты и духовники указать ему не могут. Каждый раз он должен обращаться к своей этической интуиции, к своему интернализованному нравственному идеалу и оценивать ситуацию под этим углом зрения. Ответы каждый раз будут разные, зависящие от особенностей и самого человека, и ситуации. Постоянен лишь общий принцип ответа на подобные вопросы: человек должен делать столько, на сколько у него хватает силы, и то, что максимально служит богу и людям. «Христианин, – пишет Лютер, – самый полный господин всего, никому не подвластный». Одновременно он – «последний слуга всех и подвластен всем» [68]68
Luther М. 95 Theses… Р 37.
[Закрыть]. «Он (христианин. —Д. Ф.) будет и поститься, и трудиться ровно столько, сколько он считает нужным для подавления похоти своей плоти» [69]69
Ibid. P. 363.
[Закрыть].
И поскольку идеал, к которому устремлен «спасенный», все равно не реализуем, любое нравственное решение носит характер нравственного компромисса. Можно сказать, что то решение, которое подсказывает ему совесть, это соответствующая его силам и особенностям ситуации степень компромисса.
При этом ответы, подсказываемые совестью, не только каждый раз разные, но и всегда неабсолютные. Вера не уберегает от нравственной ошибки, как она не уберегает от ошибки вообще. «Похоть плоти» не исчезает в спасенном, его поврежденная природа не меняется, и голос его совести всегда будет доходить до него сквозь искажающую призму поврежденной природы. Поэтому нравственное решение – решение «перерешимое».
Но хотя оно не абсолютное и перерешимое, оно предельно ответственное. Вера проявляется в голосе совести. Но, внимая ему, уясняя его для себя и переводя его на язык действий, человек также неизбежно искажает его, переводит неполно, неадекватно, как он неизбежно неполно, неадекватно переводит на язык рассудка интеллектуальную интуицию своей веры. А это значит, что как неадекватность теологической формулы может быть неадекватностью «перевода» верной интуиции – истинной веры, но может и означать, что веры – нет, так и неизбежная «неточность» этического доведения может быть следствием неточного уяснения и выполнения, требований верной нравственной интуиции, верной совести, а может быть и знаком, что совести-то и нет. Доводя эту мысль до конца, можно сказать, что каждый проступок может быть знаком того, что совершивший его не «спасен», обречен на гибель.
Таким образом, провозглашая бессилие человека, Реформация провозглашает одновременно (и не только «одновременно», но, рассматривая это в контексте ее идеологии, можно сказать, «тем самым») свободу нравственной интуиции и высочайшую нравственную ответственность.
Правда, и в этой сфере реформаторы непоследовательны, не идут до конца, останавливаются в страхе перед своей собственной логикой. И их можно понять. Грань между свободой нравственной интуиции и аморализмом – в высшей степени тонкая. Реформаторы уже при жизни могли наблюдать, как мюнстерские анабаптисты, вооружившись идеей «христианской свободы», первым делом провозгласили свободу многоженства и праздности. Вот почему, едва объявив войну католической моральной догматике и мелочной регламентации, реформаторы сразу же идут на попятный. Делают они это по-разному. Лютер заходит дальше Кальвина в проведении принципа этической свободы. Он не остановился даже перед признанием допустимости двоеженства (в случае Филиппа Гессенского). Но с тем большей силой он подчеркивал обязательность повиноваться вышестоящим и выполнять все светские законы. Свобода совести отделяется им от свободы поведения; отнятая у церкви функция сохранения порядка, ограничения хаоса и произвола этических интуиций решительно передается государству, монарху.
Кальвин относился к государству и светскому закону значительно свободнее. Но зато он более начетнически смотрит на прямые моральные предписания, содержащиеся в Библии, и, более того, «выискивает» в Писании все, что можно понять как конкретное правило поведения. Последователи Кальвина старались представить как обязательный и сакральный закон все ветхозаветное моральное законодательство. Разумеется, соблюдение этих законов ни в коей мере не рассматривается ими как средство (или даже внешний признак) спасения. И все же психологически пуританское ханжество (когда, например, поцеловать жену в воскресенье считалось нарушением четвертой заповеди) где-то приближается к пудовой свече русского купца или католической индульгенции.
Однако как не могло в протестантизме осуществиться «настоящей» догматизации теологии, так и не могла быть последовательно проведена до конца и формализация протестантской этики. Протестантское «ханжество» – такой же жалкий суррогат католической магии, как протестантская «догма» – жалкий суррогат католической догмы. Пуритане потому с таким упорством хватаются за немногие библейские предписания, что больше схватиться не за что. Правила эти отнюдь не распространимы на все сферы сложной жизни позднефеодального и раннебуржуазного общества, сама обязательность их сомнительна. До конца никогда не было ясно, какие из них надо понимать как имеющие общечеловеческое, а какие – специфически иудейское значение. Кроме того, всегда предполагалось, что для выполнения высших заповедей любви к богу и ближнему они могут быть нарушены. Но кроме них нет ничего, нет инстанции, способной снять с индивида бремя этической ответственности. Декалог для пуритан – соломина, за которую они держатся в море этической неопределенности.
В историческом плане это провозглашение принципов этической неопределенности и нравственной ответственности означало колоссальное освобождение человеческой энергии, давало санкцию на последовательную и свободную перестройку всех сфер социальной жизни, ликвидировавшую лишившиеся религиозной санкции, признанные этически «сомнительными», неабсолютными средневековые феодальные институты и нормы поведения и создававшую на их месте принципиально новые, не нуждающиеся в сакрализации нормы и институты буржуазного общества.
5. Реформаторы об отношении церкви и общества
Для реформаторов, борцов с католицизмом, естественно было делать упор на противопоставлении видимой и невидимой церкви. Это противопоставление сопряжено со всеми другими аспектами учения реформаторов – отрицанием значения предания и роли дел в оправдании, отрицанием самостоятельного действия таинств, отрицанием особой магической силы священников (принцип «всеобщего священства»).
Церковь, как учили реформаторы, не надличная сила, а лишь союз верующих. И поскольку отрицаются формальные признаки, дающие точное знание, кто истинно верующий, «спасенный» (это можно лишь предполагать), постольку не может быть и надежных гарантий, что данное общество, именующее себя церковью, есть действительно союз спасенных. И хотя реформаторы пытаются в какой-то мере ограничить свои собственные выводы, дать абсолютную санкцию создаваемым ими церквам, их исходные посылки не позволяют этого сделать. Любая попытка приписать новым церквам абсолютное значение наталкивается на возрожденные аформалистические принципы.
Так, реформаторы провозглашают известные видимые признаки церкви – проповедь Евангелия и совершение евангельских таинств крещения и причащения. Но однозначных формальных критериев определения истинности самой проповеди у них нет, а таинства сами по себе, без истинной веры, формальных признаков которой опять-таки нет, никакого эффекта не приносят. Кальвин требует очищать церковь от явных грешников, не допуская их к причастию. Но ведь грешники – все, церковь не может определить, кто спасен и кто погиб, и эта мера оказывается мерой чисто внешней, формально-дисциплинарной [70]70
Поэтому Кальвин считал, что публичный грех должен подвергаться более суровому наказанию, чем тот же грех, если о нем знают лишь немногие (Milner В.Calvin’s Doctrine of the Church. L., 1970. P. 176).
[Закрыть]. С какой стороны ни подойти, абсолютизация новых церквей «не удается».
Раз видимая церковь в целом лишается особой магической силы, то, естественно, ее лишается и церковное руководство. Пастор – это просто рядовой верующий на особой работе. Лютер, более жестко различавший «Закон» и «Евангелие» и более свободно относившийся к тексту Писания, считал, что организационная структура церкви – дело неважное, внешнее по отношению к религии, и оставлял его на усмотрение светской власти, т. е. князей. В результате он допускал значительную авторитарность церковной организации, но лишал эту организацию религиозной санкции. Кальвин идет противоположным путем – к созданию организации, структура которой религиозно санкционирована и абсолютна, но зато неавторитарна. Он находит в Писании четкие, обязательные принципы церковной организации. Но это принципы равенства пасторов, призвания пасторов мирянами (при санкции коллегиальных органов духовенства), оценки мирянами их работы и возможности их изгнания, если они «не соответствуют должности», а также постоянного участия выборных от мирян в управляющих церковью, коллегиальных органах, т. е. принципы, придавшие церкви, как писал Ф. Энгельс, «республиканский, демократический вид» [71]71
Маркс К., Энгельс Ф.Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 314.
[Закрыть].
Посмотрим теперь, в каком отношении (исходя из логики реформаторов) новые церкви оказываются к обществу и государству.
Мы сталкиваемся здесь с логикой, противоположной логике католической доктрины. Если так можно выразиться, католицизм начинает с требования абсолютного повиновения, но если это повиновение есть, все оставляется им, как было, в покое. Протестантизм начинает с абсолютной лояльности к государству, подчинения ему церкви, а кончает требованиями неудержимой и всеобщей перестройки.
Реформаторы выступают как защитники светской власти от вмешательства церкви. Провозглашается требование абсолютного повиновения светским властям [72]72
Лютер пишет: «Я всегда буду с тем, против кого восстают, как бы он ни был несправедлив, навсегда против того, кто восстает, как бы он ни был справедлив» (цит. по кн.: Dicjkens A.The German Nation and Martin Luther. L., 1974. P. 63).
[Закрыть]. Выступая против светских властей, вмешиваясь в их дела, папы выступают как бунтовщики против установленного богом порядка. Более того, поскольку церковь лишается реформаторами своей сакральности, поскольку провозглашается «всеобщее священство», все земные дела церкви ставятся на один уровень со всеми прочими делами и государственная власть получает полное право вмешиваться во все церковные дела. Лютер пишет: «Раз светская власть назначена Богом для наказания злых и защиты добрых, то она должна делать это, невзирая на лица, пусть это будут папа, епископы, священники, монахи, монахини и кто угодно. Ведь утверждать противное – все равно что утверждать, что сапожник не может шить папе сапоги» [73]73
Luther М. 95 Theses… Р. 281.
[Закрыть].
Но тут совершается вновь типичный для реформаторов поворот мысли, в результате которого предельное развитие какого-либо утверждения превращает его в прямо противоположное.
Государство имеет полное право вмешиваться в церковные, религиозные дела. Но это не только право, это обязанность христианской власти. И обязанность эта – так направлять церковные дела, чтобы они соответствовали учению Евангелия. Но кто знает, когда они соответствуют Евангелию? Это знает протестантский наставник, например Лютер.
В отношении государства у Лютера получается тот же «переход противоположностей», что и в отношении Библии. Провозглашается абсолютный авторитет Библии – Лютер «ползает в пыли» перед Библией. Но потом оказывается, что и канон, и смысл текста, и даже ответ на вопрос, прав или не прав апостол, определяет сам Лютер. Также и с государством. Государство – всесильно, Лютер – верноподданный из верноподданных. Его цель – лишь оградить законные прерогативы власти от посягательства папы и его слуг. Но потом оказывается, что в том, как реформировать церковь, государственная власть должна следовать предписаниям Лютера. Вот яркое и красочное место, показывающее, как полное признание, что всякая власть от бога и «царствие Мое не от мира сего», прямо переходит у него в диктат по отношению к власти. Лютер пишет о своих противниках из числа князей: «Я бы покорнейше предложил им, если только они не так толстокожи, что уже не могут слышать меня, что уж если они хотят быть дурачками и шутами гороховыми и вести себя как дурачки и шуты, то пусть ведут себя так в собственных делах и не лезут в Божье дело и дело спасения души. Я это говорю не для того, чтобы подорвать чью-либо светскую власть, но потому, что, когда люди пытаются сделать из божественных установлений полную глупость, мой долг прервать молчание и возражать» [74]74
Luther M.Word and Sacrament. Vol. 2. P. 299.
[Закрыть]. На наш взгляд, последнюю фразу надо понимать не как насмешку или лицемерие, а как совершенно искреннее утверждение.
Государство получает право вмешиваться в любую сферу церковной жизни, ибо князь или республиканский магистрат такие же священники, как пасторы, их долг делать все, что в их силах «к вящей славе божией». Но именно долг и именно «к вящей славе божией». А так как определить, в чем она, «вящая слава божия», заключается, – дело церкви, то и выходит, что это вновь открывает дорогу для вмешательства церкви в светские дела (но уже вмешательства церкви, строящейся на совершенно иных принципах, чем католическая).
Какие же требования могут предъявлять новые церкви к государству, в каких направлениях они могут вмешиваться в его дела?
Здесь логика реформаторов полностью соответствует их учению о спасении и их этике.
Раз никакое конкретное действие не более спасительно и священно, чем любое другое, раз полное исполнение требований бога к людям в этой жизни невозможно, значит, церковь не может предъявлять к государству формальных, однозначных требований, подобных той массе формальных требований, которые предъявляла католическая церковь (и которые в конечном счете сводились к требованию формального подчинения).
Но поскольку божественные требования все-таки должны стать личным идеалом верующего, поскольку уничтожение специфически сакральной сферы означает сакрализацию всех сфер, а уничтожение специфически сакральных действий – сакрализацию всех действий, постольку правом и обязанностью церкви оказывается вмешательство во все сферы жизни, исправление всего, в чем она видит несоответствие божественному закону. Церковь должна добиваться, чтобы конкретные законы и решения власти соответствовали и выражали (насколько это возможно) божественный закон [75]75
Кальвин пишет, что всем народам дана свобода «создавать себе такие законы, какие представляются им удобными. Но тем не менее все эти законы должны подчиняться божественному закону любви, так что хотя по форме они различны, цель у них одна». Далее он пишет, что в любом конкретном законе надо различать само постановление закона и ту справедливость, на которой основан закон; постановление – временно справедливость– вечна ( Calvin J.Textes choisis. P. 243–247).
[Закрыть].
Для Лютера это скорее вмешательство, диктуемое нравственной интуицией и обращенное к совести князя.
Иной подход у Кальвина. Ставя все книги Библии на один уровень и видя в Библии конкретные указания на различные формальные стороны жизни христианина и христианского общества, он апеллирует не столько от совести к совести, сколько от Библии к закону, стремится сделать позиции церкви четкими и формальными, а права государства – ограниченными не только совестью и Евангелием, но и формально, институционально [76]76
Разумеется, Кальвин не был и не мог быть принципиальным республиканцем. Но республиканские институты были для него высшими, лучшими (см.: Виппер Р. Ю.Церковь и государство в Женеве XVI в. М., 1894. С. 522).
[Закрыть]. Он прямо говорит о долге церкви не повиноваться идущей против бога власти [77]77
Кальвин пишет: «…но при повиновении которое, как мы учили, должно быть оказываемо высшим, всегда должно быть одно исключение, или скорее правило, которое надо соблюдать прежде всего. Оно заключается в том, что это повиновение не должно отвлекать нас от повиновения Тому, Чьей воле поистине и справедливости должны быть подчинены все желания царей, перед Чьими заветами должны отступать их приказы, перед Чьим величием должно меркнуть их величие. И если они станут приказывать нечто противное Его воле, их приказам не надо придавать ровно никакого значения ( Calvin J.Textes choisis. P. 257).
[Закрыть]и даже о долге верующих вооруженной силой свергать нехристианскую (т. е. некальвинистскую) власть [78]78
Виппер Р. Ю.Указ. соч. С. 526.
[Закрыть].
Начав с признания того, что церковь во всем должна подчиняться государству, реформаторы кончают утверждением права церкви на вмешательство во все сферы жизни государства. Значит ли это, что их мысль тяготеет к теократии?
На наш взгляд, на этот вопрос можно ответить следующим образом. Раннепротестантская идеология в той же мере тяготела к теократии, в какой и к формализации этики, к сближению «видимой» и «невидимой» церкви. Теократическая тенденция реформаторов – это некоторое ограничение их основной тенденции, как бы остановка, задержка, продиктованная страхом перед последствиями, но не устраняющая этих последствий – логически неизбежного развития в направлении буржуазно-демократической государственной организации.
Раз церковь основывается на «всеобщем священстве», раз в церкви нет института, органа, лица, обладающего абсолютной истиной, значит, истина может быть у любого, значит, всегда, когда совесть подсказывает верующему, что он прав, он может и даже обязан проводить свое мнение в жизнь, активно воздействуя на государство, на решение мирских дел. Церковь, основанная на «всеобщем священстве», где миряне сами призывают пасторов, – это народ. Идея подчинения государства церкви естественно перерастает (у Кальвина очень четко) в идею подчинения государства народу. Но подчинение государства народу, выборность и сменяемость властей, представление о народе как о суверене – это одна из важнейших установок раннебуржуазного политического сознания.
Рядом с нею в лоне Реформации рождается другая, не менее существенная для эпохи капитализма. Это идея о подчинении народа закону.
Церковь – лишь настолько церковь, насколько ее учение соответствует Евангелию. Требования церкви – не просто выражение ее произвола. Закон божий неизмеримо выше человеческих стремлений. И закон человеческий, государственный, поскольку божественный закон находит в нем пусть неадекватное и ограниченное, но все же воплощение, – священен. Он «открыт» для пересмотра, поскольку божественный закон «открыт» для уяснения и воплощения, но сам этот пересмотр не может быть делом анархического произвола.
Так в самых глубинах теологической мысли, в причудливых, поначалу неадекватных формах выкристаллизовываются буржуазные политические принципы.
6. Две тенденции развития идеологии Реформации
Мы попытались (пусть весьма приближенно) изложить основные положения, которые раннепротестантская идеология противопоставила средневеково-католической доктрине. Субъективно они мыслились реформаторами как «истинно христианские», прямо и непосредственно «вычитанные» из Библии. Но в какой степени их действительно можно рассматривать как возвращение к раннему христианству?
К идеологии Реформации применимы слова Энгельса, который писал, что «всякоерелигиозное движение» является «формально реакцией,мнимым возвратом к старому, к простому» [79]79
Маркс К., Энгельс Ф.Соч. 2-е изд. Т. 28. С. 210.
[Закрыть].
Ранние христиане и реформаторы воспринимали один и тот же миф, строили свою идеологию как рефлексию над одним и тем же рассказом, но воспринимали по-разному, и результаты получились разные.
Раннее христианство развивалось к католицизму и православию. Папство, монашество, культ девы Марии – все это было не позади, а впереди, и хотя несомненно, что и католицизм, и православие противоречат раннему христианству, несомненно и то, что раннехристианская идеология несла в себе их зародыши.
Реформаторы воспринимают тот же миф, но с сознанием, обогащенным полуторатысячелетним историческим опытом и новым уровнем знаний. И это дает им возможность прочесть старый рассказ по-новому, увидеть в нем ранее не осознаваемые потенции и «извлечь» их, сделав достоянием новых, устремленных в будущее исторических сил. Идеология Реформации – возвращение вспять, но возвращение на новом, «высшем» уровне, на новом витке исторической спирали. Именно поэтому Реформация смогла развить и усилить аформалистические потенции, заложенные в христианской мифологии.
Излагая отдельные аспекты идеологии Реформации, мы все время указывали на противоречие аформалистических и догматических тенденций этой идеологии – противоречие идеи непостижимости бога человеческим разумом и идеи ясности и однозначности смысла Библии; идеи невозможности добиться спасения собственными усилиями и идеи необходимости строгого исполнения однозначных этических предписаний; полного разведения «видимой» и «невидимой» церквей и их нового «сведения».
Это в какой-то степени выражение непоследовательности, отступления реформаторов от собственных принципов. Однако здесь дело не только в непоследовательности, но и в парадоксальном характере идеологии, провозгласившей аформалистические принципы. Провозгласив эти принципы, реформаторы как бы обрекли себя на поиски «квадратуры круга», на выработку формулы для отрицания формул. А это означало, что они и их последователи, делая упор на своих формулах как на адекватном выражении аформального содержания, должны были в какой-то мере повторять путь от раннего христианства к католицизму.