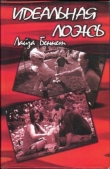Текст книги "Марк Шейдер"
Автор книги: Дмитрий Савочкин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
3
На уголовное дело достаточно пяти грамм марихуаны.
Иногда мне не хочется просыпаться. Иногда я могу открывать глаза и думать – черт возьми, ну почему я сегодня проснулся?
А иногда мне снятся сны, и это страшнее всего.
Я знаю наизусть все сроки и все требования по обыскам, выемке и дозам наркотических средств и прекурсоров, обнаружение которых у подозреваемого тянет на возбуждение уголовного дела.
На уголовное дело достаточно одного стакана уксусного ангидрида.
А иногда меня пытаются заставить спуститься в забой, и это еще хуже, чем сны. Но, слава богу, это случается очень редко. В основном моя работа заключается в том, что я езжу от шахты к шахте, почти каждый день трясусь в старом разбитом четыреста шестом «Пежо» по колдовые*ным сельским дорогам и смотрю на уродцев.
В принципе, они все – уродцы, все, кто когда-либо был рожден шахтером или в шахтерском городке, или просто те, кто работал в забое. Их называют грозами[1]1
Гроз – горнорабочий очистного забоя. – Здесь и далее примеч. ред.
[Закрыть], но они не грозы, они – уродцы.
Некоторые остались без рук или без ног. Даже странно, как люди могут жить с такими уродствами. Но они живут, живут и радуются каждому новому уродству, потому что с ним они смогут обворовывать государство еще сильнее. А государство старается нагрузить их работой так, чтобы они поскорее отбросили копыта, и ничего им больше не платить.
В итоге они работают на государство почти даром, но обворовывают его во всем, в чем могут, пока не отбросят копыта. Двинут кони. Врежут дуба. Загнутся. Умрут.
Это называется «симбиоз».
На уголовное дело достаточно четырех с половиной кубов раствора или полграмма сухого веса экстракционной ширки.
Дайте-ка я расскажу вам, чем я занимался раньше. Я был опером районного ОБНОНа и занимался ловлей нариков. Официально это называется «документирование преступной деятельности по хранению и распространению наркотических веществ» и, действительно, несколько отличается от простой ловли.
Смысл здесь не в том, чтобы схватить наркомана, – это может и ребенок: вмазанный наркоман, вообще-то, – никудышный спринтер. Смысл в том, чтобы доказать факт наличия у него шири, или винта, или еще какой-нибудь вкусной «весчи». Если ты просто пытаешься остановить его на улице или стучишься к нему в дом – он выливает раствор. В унитаз или в землю. Наркоман, конечно, безвольное чмо, но он не сумасшедший. Ему хочется вмазаться, но еще больше хочется остаться по эту сторону решетки обезьянника.
Нариков ловят так.
Сначала надо выпасти место, где они тусуются, вмазываются, а еще лучше – фарцуют ширью. Затем надо собрать небольшую опергруппу – хотя бы трое-четверо ребят – и занять позиции. Все становятся так, чтобы в любой момент видеть друг друга, и начинают ждать.
Когда нарисовался нарик, надо сосредоточиться и действовать предельно осторожно. Один человек – обычно самый лучший бегун или тот, кого местная гопота еще не знает в лицо, – приближается к объекту. Вид он при этом делает максимально отрешенный и смотрит куда-то в сторону, напевая себе под нос «Миллион алых роз»: мол, он никакой не мент, а ежик в тумане. Когда до нарика остается несколько метров, он делает рывок.
Это ювелирная работа.
Главное – схватить нарика за кулак, тот кулак, в который он при твоем приближении взял шприц, чтобы второй рукой выдернуть поршень. Надо схватить его за кулак двумя руками и сжать как можно сильнее. Хорошо еще при этом сбить нарика с ног, но это не так уж важно – с разных сторон в это время, что есть силы, несутся ребята. Кулак нарика надо удержать сжатым, пока не подбежит группа, а потом они его вырубят. Два-три удара – больше нарику не надо.
Дальше – это дело техники, нужно лишь найти понятых.
На уголовное дело достаточно пятнадцати сотых грамма кокаина.
«Пежо», конечно, отличная машина, если она новая, только что с конвейера, и если вы ездите на ней по дорогам. Трассам, автострадам, шоссе – я имею в виду ДОРОГАМ.
Не грунтовым дорогам.
Не проселочным дорогам.
Иногда мне кажется, что есть смысл придумать какой-нибудь новый дорожный знак или, скажем, просто указатель: «ЭТО – ДОРОГА!» Ну, там, для иностранцев каких-нибудь. Будут тут возить, к примеру, немцев, показывать им «инвестиционные перспективы украинской угледобывающей промышленности», и начнут немцы спрашивать: «Где дорога? Где дорога? Почему нас не везут по дороге?»
ВОТ ДОРОГА!!!
Другой тут нет, не было и не будет.
И я старательно выруливаю по колдое*нам в поисках шахты, где произошла авария.
Официально моя должность называется «координатор действий по предотвращению и уменьшению негативных последствий экстренных ситуаций на угледобывающих предприятиях со стороны концерна „Западдонбассуголь»». Последние слова означают, что если где-то возникнет «конфликт интересов», то я всегда буду отстаивать сторону шахты. Собственно, в этом суть моей работы.
Моя задача – хорошо считать. Я беру количество людей, погребенных под завалом (А), по их возрастам прикидываю, сколько в среднем они еще проживут, если их вытащат (В), и умножаю на две постоянные – пожизненная пенсия шахтеру, пострадавшему в забое (Х) и единовременная выплата семье погибшего (Y). Это простая арифметика. Если А х х В х Х больше, чем А х Y, – шахтеры остаются в забое.
Навсегда.
Живыми они стоят дороже.
Вы не поверите, сколько шахтеров гибнет каждый год.
На уголовное дело достаточно двух кубов раствора или одной десятой грамма сухого веса ацетилированной ширки.
Есть масса вещей, которые оперу ОБНОНа необязательно делать. Скажем, ему необязательно наезжать на наркоторговцев в нерабочее время и сбивать с них бабло за право работать на его территории. И ему совсем необязательно отслеживать гастролирующих пушкарей и вышибать их со своей территории вовсе. И ему прямо запрещено потихоньку таскать конфискованную наркоту из вещдоков и перепродавать ее.
Но это не значит, что ничего этого опер не станет делать.
Каждый человек, хоть что-то сделавший для другого человека, своей страны или всего человечества, начинает думать, что он имеет на что-то право, – я имею в виду, на что-то большее, чем он получил. Когда ты годами работаешь по ночам и без выходных, жрешь землю для того, чтобы словить еще одного нарика, чтобы детям было спокойнее ходить по улицам, и получаешь за это какие-то гроши – ты начинаешь думать, что страна тебе задолжала.
Она ведь не станет беднее от того, что какой-то наркоторговец раскошелится за право работать в этом районе. Все равно ты его посадишь, когда соберешь достаточную доказательную базу.
Вы можете попробовать рассказать мне о законе, о том, что сотрудник правоохранительных органов должен защищать его, а не нарушать, о том, что закон один для всех.
Знаете, что я вам отвечу: закон един, но с разных сторон этот единый закон выглядит по-разному. Невозможно знать то же, что знаю я, и относиться к закону так же, как относитесь вы.
Попробуйте.
В нашем районе завелся парень, падкий на сопротивляющихся женщин. На языке штатских это называется «насильник». Знакомился с бабой, затаскивал ее к себе, трахал, а после этого грозился, что, если она кому-нибудь расскажет о случившемся, – он ее порешит. Такое случается сплошь и рядом. Вы удивитесь, если узнаете, скольких женщин насилуют в мире каждый день.
И вот одна из девок, которых этот приятель трахнул – назовем ее «Ханна», – приходит к нам, пишет заяву и готова его опознать. Вам надо дополнительно пояснять, что это – самый смелый поступок, который я встречал в своей жизни? Она пришла к нам сразу, не подмываясь, и сдала все анализы. Весь райотдел считал ее лучшей заявительницей в истории сто семнадцатой статьи.
Ее слово против его, и суд назначает экспертизу ДНК. Экспертизу проводят в каком-то там хитровые*ном институте под Одессой и говорят, что да, это он. Результаты положительные.
Я еду в Одессу за результатами (они не пришли почтой, и мы не поняли почему), а директор института говорит, что экспертиза очень дорогая, и, чтобы забрать результаты и посадить нашего друга, мы должны заплатить им двадцать штук.
Двадцать тысяч гривень.
Четыре тысячи долларов.
Три тысячи пятьсот евро.
Директор преданно смотрит мне в глаза, аккуратно укладывая результаты анализа в сейф: «Привезете деньги – получите результаты». Государство никогда не раскошелится на такую сумму, просто чтобы посадить насильника. Заявительница не соберет этих денег, даже если за них можно было бы вернуть назад день изнасилования и переиграть все. Это тупик. Наш друг будет ходить каждый день на работу и с работы, посещать кафе и знакомиться там с девушками – он будет жить в свое удовольствие. Мы будем пасти его, сколько нам угодно, но мы не сможем его посадить за то, что он сделал.
Вы еще не забыли о законе?
Мы сломали ему нос, два ребра и правую лодыжку, и он был благодарен нам за отбитые почки, потому что мы хотя бы оставили на месте его яйца.
Когда ты попадаешь сюда, с законом внутри тебя что-то происходит. Ты становишься немного другим, и ничто уже не вернет тебя прежнего.
Воистину, людям, которые любят колбасу и уважают закон, не стоит видеть, как делается то и другое.
На уголовное дело достаточно ста пятидесяти миллиграммов метамфетамина, содержащего эфедрон.
Когда ты выезжаешь в командировку в какой-нибудь шахтерский городок, если ты не можешь обернуться за один день, тебя обязательно уложат спать в местной гостинице.
О!
Гостиница!
Это слово вообще-то слабо отражает реальность. Я опишу вам эту гостиницу, чтобы вы хоть немного представили себе, о чем я говорю.
Обычно это двух-трехэтажная кирпичная коробка, на каждом этаже которой – тускло освещаемый коридор с однообразными комнатами по обеим сторонам. Комната больше всего похожа на камеру-одиночку: прямоугольник в 12 квадратов с разваливающимся шкафом, грубо тесанной тумбочкой и безумно скрипящей пружинной кроватью. Еще из мебели может быть стол, который с трудом держится на ножках, и пара стульев такой же устойчивости. Лампочка без абажура включается плохо работающим выключателем возле двери, и, когда ты, погасив свет, добираешься до постели впотьмах, выставив вперед руки и врезаясь ногами в стулья, – должно быть, со стороны это смешно.
Но я не стою со стороны.
И мне не до смеха.
А самое запоминающееся в этих гостиницах – туалеты. Туалет представляет собой такую же точно комнатку в 12 метров, внутри которой отгорожено некоторое пространство, поделенное на три равных кабинки.
На кабинках никогда-никогда не бывает дверей.
В неотгороженной части помещения обычно есть раковина и кран, из которого течет ржавая вода уличной температуры. Изредка, видимо просто для того, чтобы посетитель не расслаблялся, кран стреляет. Негромко, но, если ты – единственный человек на всю гостиницу, кроме давно уснувшей вахтерши, тихонько встал посреди ночи, потому что тебе хочется отлить, прокрался сквозь тишину ярко освещенного коридора, в котором гулко отдаются твои шаги под чуть слышный аккомпанемент потрескивающих неоновых ламп, помочился и потом открыл слегка скрипящий кран, – даже негромкий выстрел заставит твое сердце станцевать гопак.
Это чертовски странное ощущение.
И верх – самый, абсолютный верх всего – это унитаз. Огромный, чугунного литья, унитаз в туалете всегда зачем-то устанавливается на возвышении, как будто облегчиться в этом месте – такая честь для тебя. Каждый раз, для того чтобы справить нужду, ты должен карабкаться наверх, словно на Вавилонскую башню, и если ты стоишь там, то наверняка упираешься головой в потолок.
Или – вместо унитаза в полу фигурная дырка.
Над всем этим хозяйством – чугунный сливной бачок, сложный гидравлический механизм которого приводится в движение висящей сбоку стальной цепочкой. Стоит лишь потянуть за нее – и вниз обрушатся мегакубометры воды с таким грохотом, будто ты только что открыл водопад Виктория.
Поверьте, мне не до смеха.
На уголовное дело достаточно пятнадцати миллиграммов первитина.
Но если говорить откровенно, моей главной задачей является поиск слухов. Каких? Разных. Самых бредовых, или не бредовых, или вовсе реалистичных, обычных слухов – знаете какие они бывают. Когда один мужик рассказывает другому мужику, что он недавно услышал от третьего мужика, когда они пили водку. Слухи существуют только тогда, когда есть водка; когда она заканчивается, это уже не слухи, это – оперативная информация.
Неважно, насколько они бредовы.
Например, я услышал имя «Марк Шейдер». От одного мужика, с которым пил водку. Он болтнул его просто так, перед тем как опрокинуть стакан себе в глотку, а потом болтнул еще что-то. В следующий раз я услышу это имя от другого мужика. Главное здесь – не проявлять заинтересованность; шахтеры, вообще-то, – изрядные болтуны, они сами все тебе расскажут.
Надо только слушать.
И ты постепенно узнаешь все больше и больше.
Большая часть из того, что ты слышишь, – полный бред, но вполне возможно, кое-что соответствует действительности.
Говорят, Марк Шейдер – это какой-то древний, столетний старик, который всю жизнь проработал в шахте и познал некую высшую шахтерскую мудрость; другие говорят, что он молод.
И еще говорят, что он умеет находить выходы из забоя, даже если штрек завалило породой, и что он умеет по запаху определять, опасна или не опасна выработка, в которую ему надо зайти.
И еще говорят, будто он живет одновременно в разных телах, и, когда одно его тело спит, другое бодрствует.
И еще говорят, что он что-то там замышляет, что-то против существующей власти, что-то против государственного устройства нашей страны, и это не просто забастовка, а что-то в самом деле серьезное.
И еще говорят, что все это выдумки.
Просто пьяные бредни.
И я вернусь домой, и вряд ли напишу про Марка Шейдера в своем очередном отчете, и на следующий день уже поеду в какое-нибудь новое место, снова затрясусь по колдое*нам, чтобы снова смотреть на уродцев.
Но я запомню имя: «Марк Шейдер».
Потому что, если хоть какой-то слух про него – правда, и он что-нибудь натворит, разгребать это буду я.
На уголовное дело достаточно следов присутствия героина.
4
Говорят, что толерантность к алкоголю постепенно снижается. То есть, чем чаще ты пьешь, тем меньше тебе надо выпить, чтобы опьянеть.
На самом деле это офигительно круто.
Это значит, что для экономии на спиртном ты должен упиваться до состояния полного и абсолютного нестояния. И экономия наступит. Как только ты посадишь печень. Удобно – ты одновременно становишься инвалидом, получая право на льготы, и можешь теперь достигать того же эффекта не с бутылки, а после пятидесяти грамм. Есть даже такая категория алкоголиков – у нас их всегда называли «чернильниками», – которые не могут пить водку, потому что их сразу зарубает. У них подкашиваются ноги после одной рюмки. Поэтому, чтобы немного продлить удовольствие, они пьют вино – обычно это какая-нибудь дешевая дрянь, чернильники редко могут себе позволить «Йоханнесбергер Каленберга» виноградников Мумма урожая тридцать второго года. Обычно они пьют плодово-ягодные крепленые вина – «Букет Молдавии» или «Армянское». Это очень дешево, еще дешевле, чем пить плохую водку.
Алкоголь – самая мудрая и добрая штука из всего, чем можно угробить свое здоровье.
Зато ко всему остальному толерантность со временем повышается. И чем больше ты куришь, тем больше тебе надо выкуривать день за днем, чтоб тебя опять вставило. Чем больше ты колешь, тем больше надо вкалывать, чтобы торчать. Чем больше ты жуешь нацвая, тем больше тебе надо сжевывать его каждый день, чтобы ты смог спуститься в забой.
Забой…
За-бой…
Нацвай не такой мудрый и добрый, как алкоголь.
Я растираю по зубам уже вторую дозу, но блаженное спокойствие все не приходит.
Говорят, что нацвай – это лучшее средство, чтобы уберечь зубы от кариеса. Врут, наверное.
Я растираю по зубам уже вторую дозу, но понимаю, что спустить меня вниз сейчас можно только тягачом. Я даже представляю себе тягач, к которому меня крепят буксировочным тросом и отходят в сторону. Лица у всех напряжены и печальны. Мои друзья смотрят в пол, потупившись, – они только что предали дружбу. Но их тоже можно понять. Моя жена рыдает в голос, но не смеет приблизиться. Должностной человек отмахивает рукой, и тягач трогается с места. Я упираюсь, кричу, по земле проходит глубокая борозда от моих твердых, как уголь, пяток, но тягач медленно и неуклонно приближается к шурфу. Вот передние колеса уже повисли в воздухе, и из кабины тягача выпрыгивает водитель. Машина постепенно сползает в шахту, пока не соскальзывает туда целиком, и я лечу вслед за ней, крича и все еще пытаясь за что-то схватиться, не в силах подумать, что это бесполезно, – вообще не в силах о чем-либо думать…
Потому что не существует иного способа заставить меня спуститься в заб…
СТОП!!!
Не произносить…
И я не думаю ни о чем, медленно переодеваясь и вышагивая по черной поверхности земли вслед за всеми.
Потому что никто не будет тащить меня тягачом.
Потому что я не женат и даже девушки у меня нет.
Потому что у меня нет друзей. Моим другом был Воля, но на прошлой неделе он умер от передозировки.
Лава – это все, что у меня осталось.
Я делаю шаг за шагом, пытаясь жить данным моментом, как все эти сраные буддисты и гештальт-психологи. Я стараюсь не думать о конечной цели, потому что если я вспомню, куда в итоге я должен попасть, то могу сорваться. Я могу просто броситься прочь отсюда, расталкивая ребят и что-то выкрикивая, как будто меня пытаются тащить тягачом на буксировочном тросе. Я стараюсь думать о чем-нибудь отвлеченном, например о Воле – о Воле, никогда не спускавшемся в шахту, о Воле, никогда не добывавшем уголь, или железную руду, или хотя бы червяков для рыбалки. Воля никогда не добывал ничего, на чем нельзя было бы заработать денег. Только он называл это «срубить бабла», и я сразу представлял себе бабло каким-то мифическим деревом счастья, которое непременно надо срубить огромным золотым топором, чтобы все у тебя в жизни было хорошо.
И Воля срубил его.
Мне не было жалко его ни секунды, наоборот, я представлял, как же это здорово – умереть от слишком высокого содержания токсических веществ в крови, или, как говорили ребята, «откинуться от передоза».
Сначала ты варишь ширь или покупаешь ее у кого-то уже сваренную, обычно сразу в одноразовом шприце – это удобно. Затем ты закатываешь рукав, можешь даже с мылом вымыть локоть – если колешься дома. Перетягиваешь жгутом бицепс, надо только точно чувствовать вену под жгутом, и после того, как узелок затянут, свободный край жгута зажимаешь зубами. Несколько раз хлопаешь открытой ладонью по сгибу локтя – чтобы вызвать прилив крови. Даже если ты торчишь не первый день, и вены у тебя уходят вглубь локтя, их все равно можно отыскать – это вопрос сноровки.
Или есть другие варианты – колоть можно под язык, в пах или в шею. Но сонная артерия – это для экстремалов, по правде говоря, я и не видел никогда, чтобы кто-то кололся в шею, просто все любят говорить, что это возможно, может, чтобы попугать тебя, а может, они действительно в это верят.
Ты осторожно вводишь иглу, немного вытягиваешь шомпол на себя, чтобы в шприц зашла кровь и перемешалась с ширью, затем постепенно, кубик за кубиком, вводишь всю эту смесь в вену.
И улетаешь.
Кто-то ощущает это как волну, какую-то субстанцию, которая неожиданно накрывает тебя, незаметно подкравшись из-за угла. Кто-то говорит, что все дело в геометрии, – после того, как ты вмазан, Эвклид идет, выражаясь цензурно, в жопу; все, чему тебя учили в школе на уроках математики, никак не применимо к пространству, в котором ты оказываешься. Кто-то рассуждает о скрытом внутри него мире, который вдруг проявляется на поверхности.
Я никогда не рассуждал.
И Воля тоже.
Он просто вмазывался и откидывался на спину, глядя стеклянными глазами в потолок. Потому что те десять секунд, которые проходят сразу после укола, вбирают в себя все удовольствия вселенной, все счастье, всю радость и все хорошее настроение, которые только отведены одному человеку на всю его жизнь. Боженька выделил тебе его на всю жизнь, а ты забрал за десять секунд.
Все.
В медицине это называется «состояние экстаза». Или нет: «состояние абсолютного экстаза». А те, кто не слишком-то силен в медицине, даже не знали, как его назвать. Когда-то первые советские торчки придумали для этого состояния специальный термин. Они создали новое слово, потому что русский язык слишком беден, чтобы описывать подобные вещи.
Это слово «кайф».
Прошло время, и сегодня этим словом называют уже все подряд. Сегодня оно уже непригодно для того, чтобы передать человеку, что такое десять секунд сразу после укола. Ты подумаешь о том, что ты сам когда-то называл этим словом, начнешь сравнивать это состояние с сексом, с водкой, с прыжками на тарзанке, да с чем угодно, – но ты не поймешь, о чем идет речь.
Это все еще нельзя передать словами.
Следом за этими десятью секундами идут несколько долгих, почти бесконечных часов абсолютной безмятежности.
Покоя.
Тишины.
Упоения.
Я представлял себе Волю, который лежал на спине, Волю, смотрящего стеклянными глазами в потолок, потому что там, на потолке, разворачивалась целая жизнь, скрытая от всех остальных и только ему, Воле, подвластная.
Я представлял себе, как по Волиным венам разбегалась ширка, все сильнее и сильнее перемешиваясь с кровью. Каждый удар сердца сообщал новый импульс ангидрированному раствору экстракционной шири, толкая ее по сосудам, капиллярам, сквозь ткани, по всему телу.
В том числе – в мозг.
Я представлял себе, как молекулы опиатов в диком, беспорядочном танце жизни проникали везде, в самые отдаленные уголки его тела. Вот они уже в нервной системе, в спинном мозге, в головном мозге, вот они задевают нервные окончания, проходят сквозь клеточные мембраны, касаются радиксов.
Я представлял себе, как нервные клетки принимают эти молекулы за нейромедиаторы, как они обманываются и приходят в возбуждение, как электрические импульсы начинают перемещаться по ним туда и сюда, во всех направлениях.
Я представлял себе, как эти электрические импульсы искажают Волино перцептивное поле, как они создают свой, отдельный от реальности, электрический мир, в котором можно обрести электрическое блаженство.
И еще я представлял себе, что шири слишком много.
Вот она растворяется в крови и толчками, мощными импульсами несется к сердцу. Вот она доходит до аорты, прокачивается сквозь сердечную мышцу. Поступает в левое предсердие, проходит в левый желудочек, оттуда попадает в правый желудочек, после чего через правое предсердие несется дальше по кровеносной системе. Атрио-вентрикулярные клапаны начинают мелко-мелко вздрагивать, сердце бьется сдвоенными ударами
ту-дух…
ту-дух… и пауза
ту-дух…
и замирает после каждого из них. Все органы, все, один за другим, посылают сигналы в мозг, нервная система до предела возбуждена. Сердечная мышца не справляется больше с нагрузкой. Спинной мозг с трудом контролирует вегетативную деятельность. Легкие перестают работать. Сердце останавливается.
Наконец пропадают рефлексы.
Но сам Воля, сам носитель и хозяин этого тела, этого сердца, этих легких, этой нервной системы, – нет, он не замечает того, что происходит с ним, потому что находится в другом мире, в дивном новом мире, он находится там, где ничто не может потревожить его или вывести из равновесия, он наблюдает лишь блаженство вокруг себя, далеко, сколько видит глаз или ощущают другие органы чувств, – ему хорошо, хорошо, ему здорово, ему кайфово, и его просто нет, потому что его не должно быть.
Он не умер.
Он умер.
Но даже когда я представляю себе это в самых ярких красках и проживаю весь процесс секунду за секундой, мой страх не уменьшается. Я все еще не могу спуститься, да что там – я даже думать не могу о…
МОЛЧАТЬ!
И я подхожу к Кролику и говорю:
– Знаешь что, Колян, может быть, я не пойду сегодня. Что-то я хреново себя сегодня чувствую.
Кролик смотрит на меня непонимающим взглядом, выражающим сдержанное участие.
– Меня что-то ни хрена не вставляет нацвай, – объясняю я и замечаю, как его лицо озаряется пониманием, он улыбается, он улыбается и лезет в задний карман, роется там секунду и извлекает кулечек, бумажный кулечек, скрученный из куска газеты.
– Возьми, – говорит он так тихо, что кажется, будто одними губами, и я беру кулечек из его рук, и, когда открываю его, оказывается, внутри желтый порошок. Этот порошок похож на нацвай – по запаху и даже по вкусу, но только он не зеленого, а желтого цвета.
Может быть, это нацвай, просто сделанный где-то в другом месте. До сих пор я знал четыре сорта нацвая, и все они были зелеными. Обычно у нас был ташкентский, хотя андижанский мне всегда нравился больше. Никому не навязываю своего мнения, вы можете предпочитать и ташкентский, и ферганский, и самаркандский, но лично я всегда был уверен, что андижанский – лучший.
И сейчас я понимаю, что ошибался.
Может быть, это обычный нацвай, но с примесями чего-то нового, какого-нибудь верблюжьего дерьма, ведь не случайно же он желтого цвета.
Может быть, это вообще не нацвай.
Я растираю желтый порошок по зубам и чувствую, как рот постепенно наполняется слюной.
И это слово.
С ним все в порядке.
И не имеет даже существенного значения, почему порошок желтого цвета, и не имеет значения, что входит в его состав, и не имеет значения, приготовили его из подручных средств в Подгороднем или привезли из Самарканда.
Потому что я могу произнести это слово.
Слышите?
ЗАБОЙ.