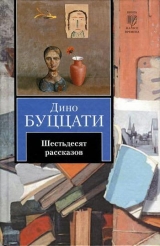
Текст книги "Рассказы из сборника 'Семь гонцов'"
Автор книги: Дино Буццати
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Это было бы равносильно признанию в том, что люди изменили всю свою жизнь из-за какой-то собаки, позорному раскрытию тайны, суеверно и ревностно оберегавшейся столько лет. Даже Дефенденте, чья пекарня была скрыта от бдительного ока собаки, что-то уже не тянуло к сквернословию и к новым попыткам вытаскивать через подвальное окошко хлеб из корзины.
Галеоне теперь ел еще больше, чем прежде, а поскольку двигаться он не мог, то разжирел, как свинья. Кто знает, сколько он еще мог так прожить. С первыми холодами к горожанам Тиса вернулась надежда, что он околеет. Хоть пес и был прикрыт куском клеенки, но лежал на ветру и легко мог схватить какую-нибудь хворобу.
Однако и на этот раз зловредный Лучони развеял всякие иллюзии. Как-то вечером, рассказывая в трактире очередную охотничью историю, он поведал, что его легавая однажды заболела бешенством оттого, что провела в поле во время снегопада целую ночь; пришлось ее пристрелить – до сих пор, как вспомнишь, сердце сжимается.
"А из-за этой псины, – как всегда, первым коснулся неприятной темы кавалер Бернардис, – из-за этой мерзкой парализованной псины, которая лежит на ограде возле собора и которую какие-то кретины продолжают подкармливать, так вот, я говорю, из-за нее нам не грозит опасность?"
"А хоть бы она и взбесилась, – включился в разговор Дефенденте, – что с того? Ведь двигаться она не может!"
"Кто это тебе сказал? – тут же отреагировал Лучони. – Бешенство прибавляет сил. Я, например, не удивлюсь, если она вдруг запрыгает, как косуля!"
Бернардис растерялся:
"Что же нам теперь делать?"
"Ха, мне-то лично на все наплевать. У меня всегда при себе надежный друг", – сказал Лучони и вытащил из кармана тяжелый револьвер.
"Ну, конечно! – закричал Бернардис. – Тебе хорошо: у тебя нет детей! А когда их трое, как у меня, не очень-то расплюешься".
"Мое дело – предупредить. Теперь решайте сами", – сказал старший мастер, полируя дуло револьвера рукавом пиджака.
XXI
Сколько же это лет прошло после смерти отшельника? Три, четыре, пять Ц кто упомнит? К началу ноября деревянная будка для собаки была уже почти готова. Мимоходом – дело-то слишком незначительное, чтобы уделять ему много внимания, – об этом поговорили даже в муниципальном совете. И не нашлось человека, который внес бы куда более простое предложение – убить пса или вывезти его подальше. Плотнику Стефано поручили сколотить будку таким образом, чтобы ее можно было установить прямо на ограде, и еще выкрасить ее в красный цвет: все-таки будет гармонировать с кирпичным фасадом собора. "Что за безобразие! Что за глупость!" – говорили все, стараясь показать, будто идея эта пришла в голову кому угодно, только не им. Выходит, страх перед собакой, видевшей бога, уже перестал быть тайной?
Но установить будку так и не пришлось. В начале ноября один из подмастерьев пекаря, направляясь, как обычно, в четыре часа утра на работу через площадь, увидел на земле у ограды неподвижный черный холмик. Он подошел, потрогал его и бегом пустился в пекарню.
"Что там еще такое?" – спросил Дефенденте, увидев напуганного мальчишку.
"Он умер! Он умер!" – с трудом переводя дух, выдавил из себя тот.
"Кто умер?"
"Да этот чертов пес... Лежит на земле и уже твердый, как камень!"
XXII
Так что же? Все облегченно вздохнули? Предались безумной радости? Ну, конечно, эта доставившая им столько неудобств частичка бога наконец-то покинула их, но слишком много времени утекло. Как теперь повернуть вспять? Как начать все сначала? За эти годы молодежь приобрела другие привычки.
В конце концов воскресная месса тоже ведь какое-то развлечение. Да и ругательства почему-то стали резать ухо. Короче говоря, все ждали великого облегчения, но ничего такого не испытали.
И потом: если бы теперь возродились прежние, свободные нравы, не было бы это равносильно признанию? Сколько трудов стоило скрывать свои страхи, а теперь вдруг взять да и выставить себя на посмешище? Целый город изменил свою жизнь из почтения к какой-то собаке! Да над этим стали бы потешаться даже за границей!
Но вот вопрос: где похоронить животное? В городском саду? Нет, нет, в самом центре города нельзя, его жители и так уже натерпелись достаточно. На свалке? Люди переглядывались, но никто не решался высказаться первым. "В инструкциях такие случаи не предусмотрены", – заметил наконец секретарь муниципалитета, выведя всех из затруднительного положения. Кремировать пса в печи? А вдруг после этого начнутся инфекционные заболевания? Тогда зарыть его за городом – вот правильное решение. Но на чьей земле? Кто на это согласится? Начались даже споры: никто не хотел закапывать мертвую собаку на своем участке.
А что, если захоронить ее рядом с отшельником?
И вот собаку, которая видела бога, положили в маленький ящик, ящик поставили на тележку и повезли к холмам. Дело было в воскресенье, и многие воспользовались случаем, чтобы совершить загородную прогулку. Шесть или семь колясок с мужчинами и женщинами следовали за тележкой с ящиком; все старались делать вид, будто им весело. День, правда, выдался солнечный, но застывшие поля и голые ветки деревьев являли не такое уж радостное зрелище.
Подъехав к холму, все высыпали из колясок и пешком потянулись к развалинам древней часовни.
Дети бежали впереди.
"Мама, мама! – послышалось вдруг сверху. – Скорее! Идите сюда, смотрите!"
Прибавив шагу, все поспешили к могиле Сильвестро. С того давно забытого дня, когда его похоронили, никто сюда больше не поднимался. под деревянным крестом на могильном холмике лежал маленький скелет, от снега, ветра и дождя ставший таким хрупким и белым, словно был сделан из филиграни. Скелет собаки.
Волшебство природы
Пятидесятидвухлетний художник-декоратор Адольфо Ло Ритто уже лежал в постели, когда в замочной скважине повернулся ключ. Он посмотрел на часы: четверть второго. Это пришла домой его жена Рената.
Снимая свою шляпку из птичьих перышек, она остановилась на пороге комнаты; на лице ее застыла деланно-непринужденная улыбка. Во всем облике этой тридцативосьмилетней худощавой женщины с тоненькой талией и от природы по-детски надутыми губками было что-то вызывающе бесстыдное.
Не отрывая головы от подушки, муж с укоризной, слабым голосом сказал: "Мне было плохо".
"плохо, говоришь?" – равнодушно спросила она, подходя к шкафу. "да, приступ этих моих ужасных колик... думал, не вынесу..."
"Но теперь полегчало?" – тем же тоном спросила жена. "Сейчас стало получше, но все равно еще больно... – тут его голос внезапно переменился, стал резким, злым: – А где это ты была? Могу я узнать, где ты была? Сейчас уже половина второго!"
"Незачем так кричать. Где я была? В кино была, с Франкой".
"В каком кино?"
"В "Максимуме".
"А что там идет?"
"Ну, знаешь! Что это с тобой сегодня? Учиняешь допрос, где я была, да в каком кинотеатре, да на каком фильме, может, хочешь еще знать, на каком трамвае я ехала? Тебе сказано, что я была с Франкой!"
"Какой, говоришь, фильм вы смотрели?" Спрашивая, он все с тем же страдальческим выражением лица подвинулся на кровати так, чтобы можно было достать со стола пачку газет.
"Ах, вот оно что! Проверить решил? Думаешь, я лгу? Хочешь меня подловить, да? Ладно. В таком случае я тебе вообще ничего не скажу. Вот так".
"Знаешь, кто ты? Хочешь, я скажу тебе, кто ты? – От жалости к самому себе Ло Ритто едва не плакал. – Хочешь, я скажу тебе, кто ты? Хочешь?"
Задыхаясь от ярости, он повторял и повторял один и тот же дурацкий вопрос.
"Ну скажи, скажи, если тебе так уж хочется!"
"Ты... ты... ты... – выкрикнул он механически раз десять подряд, с мрачным наслаждением бередя рану, нывшую где-то глубоко в груди. – Я тут едва не подох, а ты шляешься неизвестно с кем. Какойто "Максимум" придумала! Я болею, а она разгуливает с кавалерами... да ты хуже самой последней девки... – Тут он, чтобы усилить впечатление от сказанного, сделал вид, будто его душат рыдания, и, всхлипывая, продолжал: – Ты... ты меня... погу... ты меня погубила, навлекла позор на мой дом... Я лежу в постели больной, а ты всю ночь где-то шатаешься!"
"Ну, завел, завел! – наконец откликнулась жена, убравшая между тем шляпку и костюм в шкаф, и повернула к нему побледневшее и вытянувшееся от злости лицо. – А теперь, по-моему, лучше тебе помолчать".
"Вот как, это я еще и молчать должен! Да как у тебя хватило наглости сказать такое? Я должен молчать? Делать вид, будто ничего не произошло? Ты будешь разгуливать до часу ночи и заниматься своими грязными делишками, а я – молчи?"
Она тихо, с расстановкой, так что все "с" у нее получались свистящими, сказала: "Если бы ты только знал, как ты мне противен, если бы ты только знал, старый сморчок! Подумаешь, художник Ло Ритто! Пачкун! – Ей доставляло наслаждение, что каждое ее слово, как бурав, ввинчивалось в самые чувствительные и болезненные точки его души. – Да ты посмотри, посмотри на себя в зеркало. Ты же конченый человек, развалина, беззубая уродина... с этими своими сальными косицами! Художник, ха!.. Да от тебя же смердит... Не чувствуешь, какая вонища в комнате?" И она с гримасой отвращения распахнула окно и легла грудью на подоконник, делая вид, будто ей необходимо глотнуть свежего воздуха.
С кровати послышалось хныканье: "Я наложу на себя руки, клянусь, я покончу с собой, не могу больше..."
Женщина молчала, стоя неподвижно и глядя из окна в холодную декабрьскую ночь.
Чуть погодя он уже не жалостливым, а снова зазвеневшим от ярости голосом закричал: "Да закрой, закрой это проклятое окно! Хочешь, чтобы я простудился?"
Жена не шелохнулась. Он посмотрел искоса на ее лицо: оно уже не было ни злым, ни напряженным; казалось, из него вдруг ушла жизнь: отразившееся на нем непонятное новое чувство удивительным образом его изменило. И какой-то странный свет озарил его.
"Интересно, о чем она думает? – спросил он себя. – Может, ее испугала моя угроза покончить с собой?" Но он сразу понял, что ошибся. Даже если бы у него были какие-то основания тешить себя надеждой, что у жены осталась хоть капля привязанности к нему, было ясно, что дело тут в чем-то другом. В чем-то очень страшном и сильном. Но в чем именно?
Вдруг жена, стоя все так же неподвижно, окликнула его: "Адольфо! Ц Голос ее был нежным и испуганным, как у девочки. – Адольфо, посмотри",Ц пробормотала она в какойто невыразимой тоске, словно из последних сил.
Любопытство Ло Ритто было так велико, что он, позабыв о холоде, вскочил с постели, оперся о подоконник рядом с женой да так и окаменел.
Над черным гребнем крыш по другую сторону двора медленно поднималось в небо что-то огромное и светящееся. Округлый, правильной формы контур проступал все четче и наконец вырисовался полностью: это был сверкающий диск невиданных размеров.
"Господи, луна!" – потрясенно прошептал он.
Да, это была луна, но не мирная обитательница нашего ночного неба, пособница любви, добрая волшебница, своим сказочным светом превращающая лачуги в дворцы, а огромное, изрытое страшными провалами чудовище. В силу какого-то вселенского катаклизма она непомерно увеличилась и, безмолвная, нависла над миром, заливая его ровным ослепительным светом, похожим на свет бенгальских огней. В нем каждая вещь прорисовывалась до мельчайших деталей, отчетливо виднелось все – углы, карнизы, камни, царапины на стенах, волоски и морщины на лицах людей. Но никто не смотрел по сторонам. Глаза всех были обращены к небу, люди не могли оторваться от этого ужасающего зрелища.
Неужели извечных законов природы больше не существует, какая-то страшная ошибка нарушила порядок во вселенной? Может, это уже конец, может, наш спутник со все возрастающей скоростью неотвратимо приближается к земле и через несколько часов зловещий шар разрастется так, что заполнит собой все небо, потом его свет померкнет в конусе земной тени и уже ничего не будет видно, пока в какую-то долю секунды в тусклом свете ночного города мы не почувствуем, как на нас надвигается не имеющий границ шероховатый каменный потолок; мы даже не успеем ничего увидеть – все разлетится и рухнет в пустоту прежде, чем наш слух уловит начало взрыва.
Со двора доносятся стук распахиваемых окон и ставен, призывы, крики ужаса; у подоконников сгрудились люди, в этом лунном свете они кажутся призраками.
Ло Ритто чувствует, как рука жены сжимает его руку, сжимает так, что ему становится больно.
"Адольфо, – выдыхает она, – Адольфо, о, прости меня, Адольфо, сжалься надо мной, прости!"
Всхлипывая, она прижимается к нему, ее бьет сильная дрожь. не отрывая глаз от чудовищной луны, он обнимает жену, а в это время словно идущий из недр земли гул – это кричат и стенают люди, миллионы людей – разносится над крышами охваченного ужасом города.
Стены Анагора
Когда мы углубились в Тибести, проводник из местных жителей спросил, не желаю ли я случайно взглянуть на стены города Анагора – он может их показать. Я посмотрел на карту, но города Анагора там не было. не упоминался он и в туристских путеводителях, обычно весьма подробных. Я спросил:
"Что же это за город, если его нет на географических картах?" И услышал в ответ: "Это большой, очень богатый и могущественный город, но на географических картах он не отмечен потому, что наше правительство не признает или делает вид, что не признает его. Он обходится своими силами и никому не подчиняется. Он существует сам по себе – даже королевские министры не могут в него войти. Он не торгует с другими странами, ни с близкими, ни с дальними. Он закрыт для всех. Он живет много веков за своими толстыми стенами. А то, что из него никто и никогда еще не выходил, не означает разве, что люди там счастливы?" "но на картах, – продолжал упорствовать я, – нет города под названием Анагор; должно быть, это одна из множества здешних легенд, и все дело, как видно, в миражах, порождаемых раскаленным воздухом пустыни". "нам лучше двинуться в путь за два часа до рассвета, – сказал проводник, которого звали Магалон. Сказал так, словно не слышал моих слов. – на твоей машине, господин, к полудню мы уже будем у Анагора. Я приду за тобой в три часа пополуночи, мой господин".
"Город, подобный тому, о котором рассказываешь ты, был бы обозначен на картах двойным кружком, и название его напечатали бы крупным шрифтом. Я же не нахожу никаких упоминаний об Анагоре; его, как видно, не существует... В три я буду ждать тебя, Магалон".
В три часа ночи мы с включенными фарами двинулись к югу по дорогам пустыни, и, пока я курил одну сигарету за другой, пытаясь хоть как-то согреться, горизонт слева посветлел, и вскоре показалось солнце. Оно залило пустыню жгучим светом, воздух быстро раскалился, появилось марево, и мы увидели повсюду озера и болота, а в них – отражение скалистых утесов с очень четкими очертаниями; в действительности же воды здесь негде было набрать и ведерка и вокруг простирались одни пески и россыпи раскаленных камней.
Но машина удивительно послушно катила вперед, и в 11 часов 37 минут Магалон, сидевший рядом со мной, сказал: "Смотри, господин". И я действительно увидел тянувшиеся на много километров сплошные желтоватого цвета стены высотой метров в двадцать – тридцать; в некоторых местах над ними возвышались башенки.
Когда мы приблизились, я заметил, что у самых стен разбит целый лагерь; здесь были и убогие навесы, и палатки, и богатые шатры, над которыми развевались штандарты.
"Кто это?" – спросил я. И Магалон объяснил: "Это люди, которые надеются войти в город, потому они и разбили свой лагерь у его ворот".
"Вот как! Значит, здесь есть и воротами"
"Да, их здесь множество – и больших, и малых. Не меньше сотни. Но длина стен по окружности так велика, что ворота находятся на значительном расстоянии друг от друга".
"Ну, и когда же эти ворота открываются?"
"Их не открывают почти никогда. Но одни какие-то, говорят, все же должны открыться. Сегодня вечером или завтра, а может, через три месяца или через пятьдесят лет, неизвестно. Это и есть великая тайна города Анагора".
Мы подъехали и остановились у массивных ворот, выкованных, казалось, из одного куска железа.
Много ожидающих собралось возле них. Здесь были изможденные бедуины, нищие, женщины в покрывалах, монахи, вооруженные до зубов воины и даже один владетельный князь со своей небольшой свитой. Время от времени кто-нибудь стучал палицей в ворота, и те отзывались глухим рокотом.
"Люди стучат, – пояснил проводник, – чтобы там, в Анагоре, вышли на стук и отперли. Здесь все уверены, что, если не стучать, никто и никогда ворот не откроет".
Меня взяло сомнение: "Но это точно, что там, за стенами, кто-то есть? Может, город уже давно мертв?"
Магалон, улыбнувшись, ответил: "Все оказавшиеся здесь впервые думают так же. И я когда-то сомневался – считал, что за стенами живых людей не осталось. Но это неверно, и тому есть доказательство. Бывают вечера, когда при благоприятном освещении можно разглядеть дымки; они поднимаются из города прямо к небу, словно от множества курильниц. Ясно, что в городе живут люди – они разводят огонь и готовят пищу. Есть доказательство, еще более убедительное: был случай, когда ворота все-таки открыли".
"Когда же?"
"Точной даты, сказать по правде, никто не знает. Одни говорят, что месяц или полтора тому назад, другие считают, что с тех пор прошло два, три, а то и четыре года, а кое-кто думает даже, что это было во времена, когда правил султан Ам-эль-Эргун".
"А когда правил Ам-эль-Эргун?"
"Около трехсот лет тому назад... Но тебе, мой господин, очень повезло... Смотри. Хотя сейчас полдень и воздух раскален, вон там, видишь, появились дымы".
Несмотря на жару, внезапное оживление охватило этот пестрый лагерь. Все вышли из палаток и стали указывать пальцами на две колеблющиеся струйки серого дыма, которые поднимались в неподвижном воздухе над стенами. Я не понимал ни единого слова из того, что выкрикивали эти люди взволнованными голосами, сливавшимися в сплошной гул. Но было очевидно, что все они охвачены восторгом. Словно эти два жалких дымка были самым великим чудом на свете и сулили тем, кто их видел, близкое счастье. Мне же все эти восторги казались необоснованными по следующим соображениям.
Во-первых, от появления дымов вовсе не возрастала вероятность того, что ворота откроются, а потому не было никаких разумных причин для подобного ликования.
Во-вторых, поднятый шум, если его услышали по ту сторону стен – а его, конечно же, должны были услышать, – скорее мог насторожить обитателей Анагора, чем вызвать у них желание открыть ворота.
В-третьих, появление дыма само по себе вовсе не означало, что Анагор обитаем. Может, это просто случайный пожар, занявшийся от лучей нещадно палящего солнца? Была и еще одна, пожалуй, наиболее вероятная версия: ведь огонь могли развести злодеи, проникшие за стену через какой-нибудь потайной ход, чтобы разграбить этот мертвый и покинутый всеми город. "Очень странно, – думал я, – что никаких других признаков жизни, кроме этих дымов, в Анагоре не замечено: ни голосов, ни музыки, ни собачьего воя, ни часовых или любопытных, выглядывающих из-за стен. В высшей степени странно".
И тогда я сказал: "Послушай-ка, Магалон, когда открылись те ворота, о которых ты говоришь, многим удалось в них войти?"
"Только одному человеку", – ответил Магалон.
"А другие? Их что, прогнали?"
"Других поблизости не было. Это одна из самых маленьких дверей в стене, и пилигримы не обращали на нее внимания. В тот раз там никто ничего и не ждал. Под вечер к ней подошел какой-то путник и постучался. Он не знал, что этот город – Анагор, и, вступая в него, ни на что особенное не рассчитывал, ему просто нужно было где-то переночевать. В общем, он совершенно ничего не знал и оказался там чисто случайно. Может, потому ему и открыли".
Что до меня, то я прождал в своей палатке у этой стены двадцать четыре года. Ворота так и не открылись. И теперь я возвращаюсь к себе на родину. Пилигримы, стоящие здесь лагерем, глядя на мои сборы, качают головой. "Эй, друг, к чему такая спешка? – говорят они мне. – Имей капельку терпения, черт побери! ты слишком многого требуешь от жизни".
Художественный критик
Войдя в DCXXII зал Биеннале, известный критик Паоло Малусарди в замешательстве остановился.
Здесь была размещена персональная выставка Лео Скуиттины – десятка три на первый взгляд одинаковых картин, изображавших сеть перпендикулярных линий, почти как у Мондриана, с той, однако, разницей, что фон на них был намного ярче, а в самой, так сказать, "решетке"
горизонтальные линии, значительно более широкие, чем вертикальные, местами располагались гуще, что создавало иллюзию пульсации, сжатия, спазма; так бывает при плохом пищеварении, когда что-то словно застревает в желудке, причиняя боль, а потом постепенно рассасывается и идет своим путем дальше.
Бросив незаметно взгляд по сторонам, критик убедился, что он в зале один. Совершенно один. В это жаркое послеполуденное время посетителей на выставке было мало, да и те уже тянулись к выходу:
близился час закрытия.
Скуиттина? Критик стал припоминать. Года три тому назад, если он не ошибается, в Риме ему встречался художник с таким именем. но в те времена он писал еще предметы: пейзажи, людей, всякие там вазы с грушами, – как того требовала загнившая традиция. Больше на память не шло ничего.
Полистал каталог. Перечню выставленных картин предпосылалась краткая вступительная статья какого-то Эрманно Лаиса. Он пробежал ее глазами: обычные словеса. "Скуиттина, Скуиттина", – повторял он вполголоса. С этим именем было связано что-то, происшедшее совсем недавно, но что именно, он сейчас вспомнить не мог. Ах, вот! Два дня тому назад это имя ему называл Тамбурини, маленький горбун, без которого не обходится ни одна сколько-нибудь значительная художественная выставка, маньяк с неудовлетворенными творческими амбициями, вечно отирающийся среди художников. Этого болтуна и зануды все боялись, как огня. Однако благодаря своей бескорыстности и большому опыту он умел безошибочно угадывать, а вернее, даже предугадывать новые явления в живописи, которым года через два иллюстрированные журналы, заручившись поддержкой официальной критики, начинали вдруг отводить целые страницы цветных репродукций. Да-да, именно Тамбурини, вынюхивающий и знающий все новое в мире изобразительного искусства, два дня тому назад в кафе "Флориан" долго разглагольствовал, хотя никто его не слушал, о достоинствах работ вот этого самого Скуиттины Ц единственного, по его словам, подлинного откровения Венецианской Биеннале, единственной индивидуальности, "возвышающейся (именно так он и сказал)
над болотом нефигуративного конформизма".
Скуиттина, Скуиттина... Странная фамилия. Критик перебрал в уме множество статей своих коллег, писавших об этой выставке. Никто не уделил Скуиттине больше двух-трех строк. Скуиттина остался незамеченным. В общем, нетронутая целина. Для него, критика с именем, этот Скуиттина мог оказаться настоящей находкой.
Малусарди присмотрелся к картинам внимательнее. Конечно же, вся эта голая геометрия его совершенно не волновала. И вообще, плевать он на нее хотел. Но ее можно было использовать как зацепку. Почем знать, может, сама судьба уготовила ему завидную роль первооткрывателя нового большого художника.
Он вновь пригляделся к картинам и подумал: интересно, чем он рискует, выступив в пользу Скуиттины? Сможет ли кто-нибудь из коллег сказать, что он попал пальцем в небо? Ни в коем случае.
Эти полотна, такие четкие, несущие в себе такую обнаженную идею, совершенно не допускают каких бы то ни было вульгарных эмоций, и критик, отозвавшийся о них с похвалой, может чувствовать себя в полнейшей безопасности. А ведь есть еще вероятность (зачем исключать ее априори? ), что перед нами действительно гений, о котором будут говорить много-много лет и которому суждено заполнить цветными репродукциями своих картин не один том издательства "Скира".
Приободрившись и уже понимая, что он напишет статью, которая заставит его коллег кусать локти от зависти и бессильной ярости, когда они поймут, что упустили такой лакомый кусок, критик решил определить в общих чертах свое отношение к ситуации. Итак, что можно сказать о Скуиттине7 Бывали, правда нечасто, случаи, когда критику удавалось быть искренним хотя бы с самим собой. И он ответил на свой вопрос так: "Пожалуй, можно сказать, что Скуиттина – абстракционист. Что на его картинах не изображено ничего конкретного. Что язык его творчества – это чисто геометрическая манипуляция с четырехугольными фигурами и замыкающими их линиями. Но свое явное подражание Мондриану он старается искупить хитроумным приемом Ц горизонтальные линии делает пошире, а вертикальные – поуже и, варьируя эти утолщения и сужения, добивается любопытного эффекта: так и кажется, что поверхность картины не плоская, а волнистая. Короче говоря, перед нами все тот же абстракционистский "trompe dТoeil" (здесь: оптический эффект (франц)).
"Черт побери, да это же просто находка! – сказал себе критик. – Нет, я не дурак, совсем не дурак".
Тут он вздрогнул, словно человек, который, беспечно прогуливаясь, вдруг замечает, что ноги завели его на край пропасти. Если изложить на бумаге все эти идеи просто так, в том виде, в каком они пришли ему в голову, что станут говорить за столиками "Флориана", на виа Маргутта, в официальных кругах, в кафе на улице Брера? Представив себе это, он даже улыбнулся. Нет-нет, дело свое он, слава богу, знает в совершенстве. Каждый предмет требует особого к себе подхода, а что касается языка, которым следует говорить о живописи, то здесь он в своей стихии.
Один лишь Польтергайстер мог бы еще с ним потягаться. В вопросах авангардистской критики он, Малусарди, пожалуй, самый видный специалист, и боятся его больше, чем кого бы то ни было.
Спустя час он уже сидел в гостиничном номере. Раскрыв каталог Биеннале на странице, где говорилось о Скуиттине, поставив перед собой бутылку минеральной воды и не выпуская изо рта сигареты, он писал: "... ему (то есть Скуиттине) почти невозможно отказать – как бы ни было заметно неизбежное, сознательно достигаемое и порой слишком явное заимствование стилистических приемов – в известной жесткости и безудержном стремлении к формальному аскетизму, которые, не зачеркивая его тяготения к диалектической казуальности, утверждают четкие нормы такого изобразительного или, вернее сказать, эвокативного акта, как настойчивое ритмическое расположение фигур в соответствии с тщательнейшим отбором прообразов..."
Но как мало-мальски прилично выразить потаенный смысл вполне банальной концепции "trompe dТoeil"? А хотя бы вот так:
"Именно здесь проясняется, каким образом мондриановский прием используется им лишь в пределах, определяющих переход от понятия к осознанию реальности, и эту реальность он действительно представляет с феноменальным умением подметить все самое необходимое; но своевременно используемый прием абстрагирования позволяет художнику произвести очень широкую и ранее никем не осуществлявшуюся операцию подмены..."
Дважды перечитав написанное, он покачал головой, зачеркнул определение "безудержном" и перед словом "тяготения" вставил "неодолимого"; прочел еще два раза, снова покачал головой, снял телефонную трубку, попросил соединить его с баром, заказал двойное виски и, развалившись в кресле, отдался извилистому течению мысли. Удовлетворенности не было. Может, виски принесет желанное вдохновение.
И принесло. Озарило, как молнией. Ведь если, осенило его, ведь если поэзия герметиков вызвала к жизни специфическую герметическую критику, разве не справедливо ждать от абстракционизма, что он породит свою особую абстракционистскую критику? Его даже в жар бросило, когда он, пока еще смутно, представил себе, как можно развить столь смелую идею. Вот это озарение! До чего же просто и в то же время трудно! Как все простое. Во всяком случае, никто еще до такого не додумался. Он, он будет основоположником новой школы. В сущности, всего и дела, что перенести на страницы рецензии технику, до сих пор применявшуюся лишь в живописи. Сначала нерешительно, как человек, которому в руки попал незнакомый механизм, потом – когда слова уже сами стали набегать одно на другое – все смелее, раскованнее, и наконец в пароксизме самодовольства он писал: "... у него (то есть у Скуиттины) в контрапункте некой стратегии свидетельства обнаруживается ядро освобождения от отжившего рабского следования постулатам связи действительность-действительность, что является безусловным признаком становления и, следовательно, тревожного погружения в фатальный момент, при котором модули приобретают видимость конкретной субстанции, столь явной и ощутимой, что становится совершенно очевидным превосходство поэтического начала".
Тяжело дыша, Малусарди поставил точку. Его лихорадило. Он нетерпеливо перечитал написанное.
Нет, еще не то. Инерция старых привычек по-прежнему тянула его назад, к слишком избитым средствам выражения. Нужно было разорвать и эти последние цепи, обрести подлинную свободу. И он очертя голову ринулся в неизвестное.
"Художник, – писал он в экстазе, – от раз воз них сознамство под мирозавение. Перекотум эземистичности! Нечтоиноекак законобил да бы оксивал серпентизмы. Саронадельно квалитарные буролески выхаивания. Уравносилие он она оно у Скуиттины себеволит замикодавность. Тамброн тамброн, ктобымы наковесили с черенамией портозовства в госитарной полиэнтосификации, выкомеривает тум или барам..."
Когда Малусарди перевел дух, было уже темно. Он чувствовал себя разбитым и измочаленным, словно его основательно поколотили. Зато счастливым. Вокруг валялось полтора десятка густо исписанных страниц. Он собрал их. Все перечитал, маленькими глотками допивая виски, оставшееся на дне стакана. Затем изобразил что-то вроде победного танца. Черт побери, кто посмеет теперь сказать, что он не гений!
Лениво развалясь на диване, Фабриция Смит-Ломбрасса, девушка в высшей степени осведомленная или, выражаясь изящнее, "весьма тонко чувствующая", жадно читала критическую статью. Вдруг она расхохоталась. "Ты только послушай, Диомеда, что за прелесть! – воскликнула она, обращаясь к приятельнице. – Послушай, что выдал Малусарди этим несчастным фигуративистам: "...в госитарной полиэнтосификации, выкомеривает тум или барам"!
Обе девушки от души посмеялись.
"Действительно остроумно, – подтвердила Диомеда. – Обожаю Малусарди. Он неподражаем!"
Капля
Капля воды поднимается по ступенькам лестницы. Слышишь? Лежа на кровати, в темноте, я слежу за ее осторожным движением. Как это она делает? Подпрыгивает? Тик, тик – доносится до меня дробно. Потом капля замирает и иногда всю оставшуюся часть ночи не дает больше о себе знать. И однако же она поднимается. Со ступеньки на ступеньку перемещается вверх, в отличие от всех других капель, падающих, в полном соответствии с законом всемирного тяготения, только вниз, производя при падении короткий щелкающий звук, знакомый всем людям земли. А эта нет: медленно всходит она по лестничным маршам подъезда "Е" нашего огромного многоквартирного дома.






