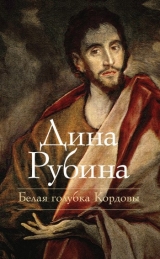
Текст книги "Белая голубка Кордовы"
Автор книги: Дина Рубина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава вторая
1Между тем все это было сущей правдой.
В свои восемьдесят лет Фанни Захаровна, или как с детства называли ее в семье – Жука, была инфантильна, жизнелюбива и бесподобно эгоистична.
Ее отец, видный большевик Литвак-Кордовин, член партии с семнадцатого года, старший майор НКВД и, как повторяла в этом месте Жука: и так далее, – в тридцать девятом застрелился в своем служебном кабинете Большого Дома на Литейном.
В и так далее входило следующее.
Балагур и живчик, черноволосый крепыш с глубоко посаженными беспощадными серыми глазами, Литвак-Кордовин умудрился утрамбовать многочисленные события начала века в свою недолгую жизнь так плотно, как впоследствии его внук утрамбовывал вещи в свой оливковый чемодан: по самое не могу… а глядь, второй туфель все же влез.
В его бурную жизнь влезли: пребывание в Бунде, полтора года ожесточенных стычек с басмачами в розово-голубой Ферганской долине, три несерьезных пулевых и два серьезных сабельных ранения, целый год учебы во ВХУТЕМАСе с многотрудным рисованием обнаженной модели, клацающей зубами от холода близ немощной «буржуйки».
(К этому периоду относится общая фотография первого курса: больше половины учащихся – в шинелях. Зима, промозглый холод, дует изо всех щелей, и профессор живописи Константин Николаевич Истомин, с клетчатым пледом на плечах, сутуло бродит меж мольбертов: «Выражайте массу и вес! Лепите, стройте конструкцию! Форму, форму выражайте!»)
От того времени остались знакомства с молодыми художниками, бесконечные споры о высоком предназначении пролетарского искусства… и куча готовых к работе, уже натянутых на подрамники чистых холстов разных размеров, которые ему так и не довелось записать красками…
Тайной для всех осталась причина столь внезапной перемены маршрута: стремительный взлет в НКВД – сначала назначение замначальником экономического отдела, затем переезд в Ленинград и служба в ИНО – иностранном отделе НКВД, с частыми выездами то во Францию, то в Испанию.
Особенно плотно – под завязку – были утрамбованы его испанские годы: операция в Толедо, с осадой Алькасара в сентябре 36-го, оборона Мадрида в ноябре того же года, победа над итальянским корпусом под Гвадалахарой и кровавая бойня в Брунете в июле 37-го. (Впоследствии Жука утверждала – хотя доказать это уже невозможно, – что отец имел непосредственное отношение к тайной операции по вывозу «испанского золота» на советском грузовом судне из Картахены в Одессу, умудрившись при этом тогда остаться в живых, хотя всех остальных участников операции, включая посла СССР в Испании Марселя Розенберга, ликвидировали. Ну, ничего, его бы очередь пришла обязательно, уверяла Жука, если б он не оказался умнее всех. Обязательно пришла бы, ведь он не умел молчать и писал, что отправлено было не все золото и драгоценности, что часть его разбазарили испанцы и резидентура НКВД – якобы для «оперативных нужд».
«Что ты бровь свою поднимаешь, эступидо?![6]6
Эступидо (исп.) – болван.
[Закрыть] – кричала она своему недоверчивому племяннику, – говорю тебе, я сама случайно видела на его столе письмо, которое он собирался отослать!»
Она была уверена, что отец писал именно частное письмо, а не докладную:
«Там были такие слова, которые в докладных не пишут».
«Какие же это слова, Жука?»
«Отстань!»
«Нет, ну правда!»
«Там было написано: „рас-пиз-ди-ли“».)
В семейном альбоме сохранилась фотография, невесть кем снятая, возможно, и самим Литваком-Кордовиным: полуголые солдаты в лодках форсируют реку Эбро, кто-то в потрепанной форменной куртке, кто-то по пояс раздет. А в ближайшей к объективу лодке на веслах вообще сидит странная в боевой обстановке фигура: парень в черной рубахе, но без штанов. Полы рубахи прикрывают срам, но отчетливо видно скульптурно-белое бедро.
«Папа, почему этот испанец сидит с голой задницей?»
«Не помню, может, штаны сушил, может просто берёг новые».
«Папа, а испанцы в бой идут с голой задницей?»
«Ты что – дурка?»
К тридцати семи годам он имел звание старшего майора НКВД, что соответствовало общеармейскому генеральскому званию, и сразу по возвращении из Испании – орден Красного Знамени.
Маленькую Жуку в школу возил шофер, а когда она изъявила желание учить испанский – быть как папа и дружить с недавно привезенными в Советский Союз испанскими детьми на их родном языке, – в доме немедленно появился шкаф красного дерева вместе с книгами, да все на испанском, и много старинных-растрепанных, с гравюрами и даже рукописными рисунками: узоры-листья-птички, оскаленные львы на задних лапах.
Жука помнила из этого шкафа – «Diccionario de Lengua Castellana», «Словарь кастильского языка», изданный в 1783, в Мадриде, и «Ordenanzas Reaies de Castilla», «Королевские указы Кастилии», 1518, Burgos.
Литвак-Кордовин листал их и только насвистывал. Надо сказать, был он непрост, и когда возжелал получить настоящее образование, к нему на дом приезжали профессора университета. (Вернувшись из эвакуации, семнадцатилетняя Жука обнаружила в дальнем углу буфетного шкафа на кухне, в то время уже коммунальной, скользнувшую под старую клеенку, трепаную зачетку отца – всю в тараканьих точках на бесчисленных «отлично», тонко выведенных фиолетовыми чернилами.)
Происхождение шкафа красного дерева, набитого букинистическим испанским добром, сгоревшим, само собой, в блокадной «буржуйке», Жука впоследствии объяснить не могла, зато ее веселый племянник, до ужаса похожий на деда, объяснял просто: – конфискованное добро, Жука, легко говорил он, что ж тут не понять, – со складов той его организации.
Жука отца боготворила. Ей казалось, что она помнит его кабинет, два стола буквой Т – неохватные для взгляда ребенка, китель на спинке стула, распахнутое в майскую листву огромное окно, и приоткрытую дверь сейфа, где темно мерцал его именной хромированный ТТ. Еще она помнила, как перед стрельбами отец дома, на кухне, страдальчески морщась, коптил над свечой область мушки.
– Папа… – затаив дыхание, спрашивала она шепотом. – А меня ты не убьешь?
Он поднимал голову, комично вытаращивал серые глаза и говорил ей:
– Ты что, дурка?
Много лет спустя, получив письмо от Сёмы, допотопного дальнего родственника из Винницы, – то слезливое письмо некоем, вдруг возникшем племяннике, что нагуляла ее так называемая сестрица, – она малодушно согласилась поучаствовать в судьбе «чудного мальчика»… И когда в одно прекрасное утро раздался звонок в квартире на Моховой, и она отворила дверь и на пороге увидала черноволосого крепыша с обаятельной улыбкой и беспощадными серыми глазами – она помертвела и пролепетала:
– Папа…?!
– Ты что, дурка? – весело осведомился тот.
После расстрела Меира Трилиссера, одного из основателей и начальников ИНО, Литвак-Кордовин подобрался. Взяв отпуск на пять дней и прихватив дочку и еще какую-то дерматиновую, твердую, проклеенную холстом папку (такую огромную, что впору было для нее заказывать отдельную полку в купе), поехал в Винницу, к родственникам – Литвакам.
Маленькая Жука была озадачена таким количеством суматошной родни, вспыхивающей по любому поводу – что дети, что взрослые, – даже не ссорами, а исступленным выяснением отношений. Все говорили на неправильном русском языке, с мягким «т» и певучим выдохом-хэканьем. А то и вовсе переходили на какой-то иностранный, но не испанский язык: – на самой высокой ноте разговора вдруг словно переключался рубильник, и все принимались щурить глаза и кричать друг другу: «Byс?! Byс ост ди гезухт?!»[7]7
«Вус?! Вус ост ди гезухт?!» (идш.) – Что?! Что ты сказал?!
[Закрыть]
И самое странное, что папа, как тот оборотень из сказки, мгновенно превращался в одного из них: тоже весело кричал, «хэкал» и переходил на этот гортанный, гирляндами вьющийся язык, под названием – пояснил он дочери – «идиш».
Еще Жука запомнила посещение парикмахерской в гостинице «Савой». Они с отцом вошли в парадные двери бело-голубого здания на углу Козицкого и Ленина, с башенкой-ротондой на крыше, повернули направо, в высокие распахнутые двери, и разом отразились целой толпой пап-и-дочек в высоких зеркалах шикарного зала.
Отец снял кожаную куртку и уселся в кресло. Парикмахер встряхнул простыню движением тореадора и, оборачивая отцу шею, склонился к его уху и что-то прошептал. Тот отрицательно помотал головой… Жука сидела в кресле под тонкоперой веерной пальмой и листала сатирический журнал «Крокодил». Страницы липли к пальцам. Номер был еще апрельский, с карикатурами на Гитлера и каких-то поляков…
Позже, на остановке трамвая, Жука спросила отца – что ему сказал на ухо парикмахер. Отец долго молчал.
«Он спрашивал, будут ли погромы», – наконец проговорил отец.
«Что такое погромы, папа?»
«Я расскажу тебе потом».
И вдруг оживился и стал, склоняясь к ней и благоухая одеколоном, рассказывать про какие-то странные и страшные «мене, мене, текел у парсин»…
Вернулись они в Питер без серой папки, но втроем: отец привез из Винницы дальнюю родственницу по линии Литваков: черноглазую деваху с крепкими ягодицами и литыми икрами, так что все время хотелось смотреть ей вслед, так все переливалось, волновалось, натягивалось и не отпускало взгляд.
– Это Нюся, – сказал он жене. – Она смышленая, ну и… вообще. По хозяйству поможет.
И подмигнул обеим.
Привез он Нюсю вовремя – чуял, что супруге, Елене Арнольдовне, вскоре понадобится поддержка, ну и… вообще. Дочь известного петербургского адвоката, балерина бывшего Мариинского, ныне Кировского театра, Елена Арнольдовна, «Ленуся», была совсем не пригодна для житейских потрясений.
Невысокая, она казалась выше своих ста пятидесяти шести сантиметров благодаря той классической осанке, великолепной постановке корпуса, которой славились балерины петербургской школы. Ученица знаменитой Елены Люком, она не достигла особых вершин только из-за травмы спины (в юности на прогоне «Жизели» ее уронил партнер), но с успехом танцевала в корифейных номерах – в тройке, четверке или шестерке танцовщиц; имела и сольные балетные номера – в операх «Кармен» и «Травиата»; выходила в «Пахите», в «Эсмеральде» и в «Корсаре».
Говорить и думать Елена Арнольдовна могла только о балете, так что даже девятилетняя Жука с горячностью принималась объяснять подружкам разницу между «пластическим рисунком в хореографическом тексте», которого добивался Федор Васильевич Лопухов в своих «хореодрамах», и «методикой Вагановой». Демонстрировала «активную подачу рук в танце»: встанет прямо, голова ровно поднята на шейке, и пошли перетекать волнами руки одна в другую, одна в другую – от кончиков пальцев правой до кончиков пальцев левой… «Руки-крылья! – объявляла она очарованным подружкам, довольная произведенным эффектом. – Из „Лебединого озера“. Гениальная находка Агриппины Яковлевны».
Сама-то она, к великому огорчению матери, особых надежд не подавала, несмотря на то, что первым подарком в ее жизни стала пара миниатюрных балетных туфелек, принесенных ей на рождение доброй феей, Агриппиной Яковлевной Вагановой, которая «Ленусю» сердечно любила и жалела из-за той трагической случайности на репетиции.
Жука, разумеется, посещала занятия балетной студии, но всем своим физическим существом – костяком, посадкой – настолько была иной, «крепенькой», что мать только вздыхала и отводила глаза, когда дочь отрабатывала за станком какие-нибудь простейшие batemant tendy или rond de jamb partem.[8]8
Балетные па.
[Закрыть]
Впрочем, польза для здоровья от этих детских занятий была, по уверению Жуки, неоценимая. Она и в старости проверяла свое самочувствие ежеутренним «арабеском», тем, что в народе называют «ласточкой».
Впервые племянник обнаружил это на другой день после своего водворения в дедовском кабинете, который Жука занимала в коммуналке на Моховой. Вернувшись утром из ванной с тюбиком пасты и зубной щеткой в руке, с полотенцем, перекинутым через плечо, он чуть не выронил все это на пороге: его тетка – в бигудях и полурасстегнутом халате – стояла на одной ноге у окна, высоко подняв голову и балансируя обеими руками, наклонив горизонтально корпус и бледную голую ногу.
– Что ты… делаешь? – спросил обалдевший племянник, еще не знакомый с утренними экзерсисами новой тети.
– «Ласточку», болван! – ответила она, не поворачивая головы и вибрируя вытянутой ногой.
В конце тридцать девятого свои ребята предупредили Литвака-Кордовина, что он «на выходе», – дабы успел сорганизоваться.
Будучи решительным человеком, он сорганизовался: пустил себе пулю в лоб прямо в кабинете, оставив хладнокровное письмо о вечной преданности партии.
Семью не тронули, квартиру на Моховой оставили за вдовой, и ни один волос не упал со смоляной головенки Жуки. Разве что в школу и на балет она теперь ездила на трамвае, с домработницей Нюсей.
Кстати, после похорон выяснилось, что Нюся беременна. Подробностей – от кого, когда и где умудрилась, – Елена Арнольдовна допытываться не стала, отсылать Нюсю назад в Винницу тоже не решилась: все же та, при изрядной – как говорил покойный муж – «балдастости» была расторопна в хозяйстве, вкусно стряпала и обладала житейской хваткой, какой недоставало рассеянной и ошеломленной своим внезапным вдовством Ленусе.
Настоящий скандал разразился месяцев через шесть, когда Нюся родила девочку. Вот уж та оказалась типично кордовинским отродьем: черноволоса и кудрява, как Жука, и столь же резва и жизненна. Так что кое-кто из знакомых высказывал негромкое предположение, что, покинув с такой внезапной решимостью сцену, старший майор ИНО НКВД, со свойственной ему смекалкой, умудрился убить двух зайцев.
Нюся с воем повинилась: чего уж там, одну плоть и кровь носили, будем сестрами… Толстая, грудастая, с распухшим носом и коровьими доверчивыми глазами – полная противоположность Елене Арнольдовне, – она возвращаться в Винницу боялась. «Боялась стыдобы»: откуда девчонка и с кого портрет, стало бы ясно не только родне, но и каждому встречному, кто когда-либо сталкивался со смуглым черноволосым крепышом. Она порывалась назвать дочь Риоритой – неизвестно, что уж там между ней и Литваком-Кордовиным под этот фокстрот происходило, – но Елена Арнольдовна, хвала небесам, не допустила. Остановились на просто Рите. Изящно, непритязательно и международно… Во всяком случае, так записали, а как называла ее мать, это уж ее личное дело.
Так и жили вчетвером до самой до войны: женская семья.
И вот что интересно: дура-Нюся, побоявшись ехать в Винницу в мирное время, подхватилась и поперлась туда с девочкой в начале войны. Вернее, за три дня до начала. Видимо, были у нее виды на троюродного братца Сёму Литвака, парня толкового и надежного, и – верила она – человечного. Года три назад были у нее с Сёмой гулянки-переглядки, да вот явился Захар, оглушил, окатил кипятком своих ласк… и ухнуло все к чертям под взглядом его серых глаз.
Так ведь нет больше Захара, думала Нюся, а Сёма – вон он. И с профессией какой: парикмахер, мастер дамский и мужской, не руки, а «полет шмеля». Все поймет, надо только поплакать, повиниться от всей души, вывалить на руки ему дитё – такую сочную, упитанную и мягкую Риоритку – к сожалению, повторяющую Захара всем, разве что не струментом…
Но Сёма, во-первых, никогда Захара не жаловал, называл его гопником, и уверял, что застрелился тот, чтоб надо всеми посмеяться.
«Ках-до-вин! – восклицал он. – Хусским, хусским стать хотел!» (Хотя ни сам Сёма, ни Захар – не картавили оба.) – «Как он красиво свою фамилию-то повернул, а?! Какой он Кордовин?! Был Кордовер, и есть Кордовер, как его дед-прохвост, „Испанец“ этот».
«Почему – испанец?» – огорчалась Нюся, ей эта кличка казалась обидной. И Сёма отвечал в сердцах: «Да черт его знает!»
(Дед Кордовина, это правда, был в Виннице пришлым, лихим и скрытным человеком с действительно скользящей фамилией – назывался так, как ему было удобно. Говорили, что приехал он из Одессы, а туда попал уж совсем из диковинных краев; ну, да это давняя история…)
«Нет, – говорил Сёма с подавленной обидой, – то, что за ради семьи пустил себе пулю в лоб, это – молодец, это – уважаю. Но увераю вас… он при том хохотал!»
Во-вторых, Сёма добровольно явился в военкомат в первый же день войны. Был он, между прочим, футболистом, и с парашютом прыгал целых восемь раз, так что, само собой, сразу попал на фронт, да еще в десантные части.
А Нюся застряла в Виннице, в беспамятстве и ужасе. И когда 19 июля пришли немцы и начались облавы, она с большой семьей деда Рувима пряталась в подвале его дома, того, что дед Рувим построил в цветущие годы своей жизни, когда еще был известным сапожником-модельером, имел в подчинении трех мастеров и сам изготовлял индивидуальные колодки. (К нему приезжали строить обувку даже из Киева.) Дом был капитальный, фундамент из гранитных камней, добротная кирпичная кладка. И ледник был: зимами с Буга привозили на подводах лед.
Вот в этом подвале и прятались. Спали в нишах, где раньше хранили картошку и морковь. Ужасно Нюся боялась за девочку, Риориту: двоюродная сестра Соня все твердила, что дитё выдаст всех криком, и что надо обезопаситься. Так что Нюся не спала совсем: боялась, что пока она задремлет, Соня задушит девочку своими сильными руками прирожденной прачки. Однажды привиделось в дремоте, как та выкручивает малышке шейку – тем же движением, каким выкручивают воду из пододеяльника, и Нюся заверещала во сне почище младенца. Но девочка оказалась чрезвычайно, пугающе умной – за все дни подвальной отсидки не издала ни звука, и хотя к тому времени уже начала говорить, умолкла совсем, надолго. Чуть ли не до конца войны.
Так что когда возникла Клава – а та кормилась тем, что ночью переправляла евреев на румынскую территорию: доводила до моста и там передавала священнику, который дальше вел, и брала по-божески, не наглела, – Нюся бодро уложила манатки.
В путь собралась вся семья, небольшая толпа голодранцев, – вот, опять ночной исход из Мицраима[9]9
Мицраим (иврит) – Египет.
[Закрыть], опять бегство от нового фараона… Однако на середине пути, почти у самого моста, деда Рувима прихватила астма, которую он нажил, всю жизнь терзая легкие смрадом вонючих кож. Задыхаясь, он выкашлял:
– Все, не могу больше, вернусь… Идите без меня.
Соня ответила:
– Ты что, папа, рехнулся? Никто уже никуда не идет, ша, мы вернемся все, не бросим же тебя.
Все, сказала ей Нюся, но без меня. Перевязала покрепче на своем толстом животе шерстяным платком Риориту и зашагала в направлении моста.
А те вернулись все, большая семья: Соня с мальчиками десяти и шести лет, бабушка Рахиль, инвалид детства дядя Петя, его жена Рива… Ну и дед Рувим, само собой.
Вернулись все в подвал, в кромешную тьму, слабо колеблемую огоньком свечи, к бочке с квашеной капустой, накрытой каким-то большим и твердым, но холстяным на ощупь щитом, оставленным здесь зачем-то этим гопником-комиссаром Захаркой…
Поначалу они продавали соседям оставшееся серебро; когда серебро кончилось, соседи выдали их полицаям.
Это – всё. В смысле – и так далее.
Но здесь необходимо отступление о геройской гибели деда Рувима. В одну из немногих оставшихся им ночей тот вылез из подвала – покурить. И услыхал женские крики о помощи. Немцы куда-то, впрочем, известно куда, волокли пойманную ими бабу. И дед Рувим, бесстрашный сапожник-модельер, бросился на крики. Ведь если женщина молит о помощи, мужчина не может покуривать в сторонке.
Его пристрелили мгновенно, с первой пули, и тридцать лет спустя старый Глейзер показывал очередному маленькому гопнику-Захарке канализационный люк, на котором дед Рува лежал целые сутки…
А Нюся с малышкой Риоритой уцелели в гетто Транс нистрии. Там выживали, не в пример другим подобным курортам: с начала 42-го узники стали получать продовольственную помощь международных еврейских организаций, да и кустарные промыслы в гетто были налажены. А Нюся рукастая была – и вязала, и корзины плела, и не уклонялась от тарзаньих ласк охранника Алексяну – просто надо было выжить и спасти дочь, и Нюся твердо решила выжить…
2…в отличие от Елены Арнольдовны, которая опустила руки и сдалась на милость судьбы сразу: например, на нервной почве обездвижела в первые же дни войны – сказалась старая травма позвоночника, – да настолько, что не смогла эвакуироваться с Кировским театром. Театр уехал в Молотов, где трудно, но благополучно пережил тяготы эвакуации, а Елена Арнольдовна бессмысленно ждала Нюсю, надеясь, что та скоро вернется, и при своей безусловной балдастости все же как-то устроит и организует нормальное существование.
Первое время, пока не сгорели бадаевские склады, они с дочерью держались, хотя сразу выяснилось, что балетная диета и голод – это разные вещи. Ленуся совсем не умела голодать, как это ни странно.
Поначалу они с Жукой растягивали, сколько могли, обнаруженные в нижнем ящике кухонного шкафа две пачки червивого риса, который по рассеянности Елена Арнольдовна забыла вовремя выкинуть. Жука сама научилась перебирать его и варить без соли (соль кончилась), но с перцем, зирой и барбарисом, запасы которых были неисчерпаемы: Литвак-Кордовин еще с ферганских времен умел готовить плов, и случалось, баловал семью и гостей настоящим узбекским, с бараниной.
В эти первые недели Жука вдруг вытянулась, повзрослела и вела себя гораздо толковее матери. Она учила мать, по какой стороне улицы безопаснее идти, и как вжаться в стену дома, когда воет сигнал воздушной тревоги; умела выменять на толкучке что-то съестное, неплохо училась, и вообще – все время была чем-то занята. Вошла в какую-то «ячейку», человек пять одноклассников, которые обходили квартиры, собирая теплые вещи для бойцов, или искали по округе цветной металлолом – для снарядов, – или вот бутылки собирали…
– Жука, а бутылки… – робко спрашивала Елена Арнольдовна, которая хоть и поднималась уже, но при любой возможности норовила присесть или прилечь. – Бутылки для чего?
– Ну, мама, – втолковывала та. – Как ты не понимаешь: это для поджога танков! Враг на пороге!
Она даже дежурила со старшеклассниками на чердаке – оттуда было видно, как огненными кольцами горели окрестные деревни – и дважды гасила зажигательные бомбы. «Мы – часовые ленинградских крыш!» – повторяла чью-то недавнюю крылатую фразу, и мать с робким и покорным изумлением обнаруживала в своей забалованной дочери отцово упрямство, жизненность и последовательность действий.
Потом стало полегче, потому что к ним перебрались жить мамина подруга тетя Ксана с сыном Володей, на три года старше Жуки, и с бабушкой Александрой Гавриловной. Тетя Ксана тоже танцевала в Кировском, но в глухом кордебалете, без особых претензий, поэтому до войны еще закончила курсы экскурсоводов. Была она энергичной и подхватливой: всюду подмечая смешное, потешно изображала экскурсантов:
«А не сводите ли на таку вулицю: „Заячья Роща“?» – «Боже, – думаю, – скандал: всю жизнь в Ленинграде живу, такой улицы – „Заячья роща“ – не знаю. Оказывается, улица-то нужна „Зодчего Росси“! И хохотала, и вновь повторяла: „Заячья роща“, а?! „Зодчего Росси!“»
В эвакуацию они не уехали из-за Александры Гавриловны, – стариков почему-то не брали. И вот в их квартиру на последнем этаже угодил снаряд. Потолок, как в изумлении повторяла Александра Гавриловна, «сшибло начисто» – повезло, что сами отсидели налет в бомбоубежище – в домовой конторе…
Жить вместе оказалось куда сподручней, тем более что, вселяясь, квартиранты притащили – как говорила тетя Ксана – «калым»: Володя возник в дверях, груженный мешком еще дачной их, райской картошки, обнаруженной в подвале. Немного подмороженной – ну так что? – это было огромной удачей. Привезли и буржуйку на санках, тоже дачную. Тетя Ксана умела ее топить и Жуку научила: сначала растопить газетой, потом подкладывать что-то более существенное, более длительно горючее. По округе во дворах уже ломали и разбирали сараи на дрова, и Володя с Жукой ходили подбирать щепки и чурочки. Поселились все вместе в гостиной – одной буржуйкой всю квартиру не обогреешь, а так вполне, хотя парок изо рта вырывается.
А мороженую картошку использовали «на все сто»: жарили, варили, очистки сушили в гостиной на кабинетном рояле, под которым Володя спал. Сухие очистки мололи, и опять жарили оладьи на электроплитке, на американском жиру под названием «лярд». Часто электричество отключали, и тогда в темноте Жука и Володя ели прямо с остывающей сковороды недопеченные оладьи.
Тетя Ксана работала – те, кто остались, продолжали танцевать, несмотря на то, что в Кировский попала бомба. В зал войти было страшно: по стенам свисали обломки ярусов: арматура с кусками золоченной лепнины… Артисты переодевались и гримировались в царской ложе, потом выходили на публику в фойе, и там давали концерт.
Вообще тетя Ксана не унывала никогда. Миниатюрная и жилистая, как Ленуся, с шелковистым пробором в черных волосах, завязанных сзади узлом, она с утра командовала всей семьей – распределяя обязанности, требуя от Ленуси, чтобы та поднялась, причесалась, немного прибрала: «Двигайся! Главное – двигайся!»… А во второй половине дня тетя Ксана работала на выставке трофейного оружия – в Соляном переулке. Выучила назубок все экспонаты – что и как называется, как разбирается, из чего состоит. Водила экскурсии для тех, кого отправляли на фронт, и уверяла, что в каждой группе есть «человек в штатском», который внимательно слушал и вопросы экскурсантов, и объяснения экскурсовода.
По воскресеньям она выходила на толкучку – менять вещи на что-нибудь съестное, и очень ловко это проворачивала. За адвокатские золотые дедушкины часы, бриллиантовое Ленусино кольцо и запонки в виде скрипичного ключа, с рубинами, тетя Ксана, как говорила она, «выиграла» полкило пшена, полкило сахара и грамм 200 масла. Чуть-чуть столовка поддерживала – та, что открыли в БДТ – там по талонам давали обед – затируху котлеты из пшена… Ну и, конечно, хлеб по карточкам. Очереди длиннющие в утренней тьме; Жука с Володей менялись, чтобы не сдохнуть на холоде. Странно было только, что Ленуся, несмотря на героические усилия всех вокруг держать ее и тащить, с каждым днем все больше слабела и впадала в апатию. Как будто лишь сейчас поняла, что Захар не вернется никогда.
Потом немцы взяли Тихвин…
А холода навалились такие страшенные, будто природу и саму землю обуяла особая ярость – за все, что с ней делали люди, прорывая в ее теле глубокие рвы, взрывая ее покровы, сбрасывая в ямы тысячи трупов, пожирая все живое – от кошек до крыс.
С этого момента начиналось и завершалось то главное «и так далее», которое впоследствии всегда замирало у Жуки на сжатых губах. И всю дальнейшую жизнь ее племянник не мог добиться от нее главного: деталей. Того, что он более всего ценил в жизни: в людях, в искусстве.
– Жука, слушай, – приступал он терпеливо, – это ж сто лет назад было, пора и привыкнуть. Ну расскажи по-человечески – как умерла Ленуся.
И не понимал – отчего та замыкалась.
– Умерла и все, – отвечала тетка. – От голода угасла. И так далее…
Самое страшное в жизни, считала она, именно детали. Вот что с удовольствием она выкинула бы из своей детской памяти: тот день, когда впервые Ленуся поплелась одна на толкучку: тетя Ксана была занята на «утреннике», а Жука болела ангиной. И с той минуты, когда за матерью захлопнулась входная дверь, Жука встала у заклеенного крест-накрест окна кухни, глядящего на Моховую, и стала ждать. Ей казалось, что пока она стоит и ждет, с Ленусей ничего дурного не случится, и та удачно выменяет на еду яйцо, которое в семье называли человеческой фамилией Фаберже. Яйцо из Ленусиного приданого было, конечно, копией, но отменной: красно-эмалевое, увенчанное луковкой золотой короны с крестом, все перевитое какими-то золотыми кручеными веревками, оно стояло – пузач на трех львиных лапах – на ониксовой подставке в стеклянном шкафу, который отец называл почему-то «адвокатской горкой». Там, в этой горке – тоже наследной – до войны еще много чего стояло. Больше всего Жуке нравились синие с золотой чешуей чашки с блюдцами (выменяно в сентябре на гречневую крупу), шкатулка, хрустально перебирающая песенку «Ах, мой милый Августин», (сосед-коллекционер за нее тулуп отдал и брус маргарина), и забавные серебряные, позолоченные ложечки – каждая с попугаем иной породы и раскраски.
Папа называл все это побрякушками.
– Запомни, – сказал он однажды Жуке, которая тогда ничего такого запоминать не собиралась, но как-то все равно запомнилось, впечаталось, как многие отцовские слова и замечания. – Запомни, самая ценная и старинная здесь вещь, это… – и постучал ногтем среднего пальца по стеклу, за которым, почти сливаясь с серым бархатом задней стенки горки, стоял тяжелый кубок на витой ноге, расходящейся книзу круглой устойчивой юбочкой. На боку самого кубка по трем волнам плыл гравированный трехмачтовик с поднятыми парусами, а по низу серебряной юбочки впересыпку с листочками вились буквы неизвестного языка, так что отличить буквы от листочков было не так уж и легко.
– Самая дорогая? – уточнила Жука, удивляясь про себя неказистости вещи.
– Самая ценная для тебя, – поправил отец и, понизив голос, пояснил: – Ленуся тут ни при чем, это наш с тобой удел.
Литое тяжелое слово удел так поразило девочку, что она спросила:
– Почему?
– По кочану. Вырастешь, внука мне родишь, тогда скажу.
– А что здесь написано? – заинтригованно спросила Жука. Она только что прочитала «Графские развалины» Гайдара и бредила приключениями, тайнами и шпионами.
– Если б я знал, – вздохнул отец. – Это не идиш, совсем другой язык…
Она стояла у кухонного окна, выходящего на Моховую, и высматривала легкую фигурку матери, которая, даже истощенная, даже закутанная в тряпье, все же не теряла балетных очертаний, хотя уже давно двигалась замедленно, как во сне, и не верилось, что это Ленуся, с ее сильными ногами и стремительным жилистым телом тащится десять минут из столовой в кухню. Жука переживала, что отправила мать по такому сложному делу. Правда, она дала Ленусе четкие инструкции: на мясное не выменивать, ни студня, ни пирожков не брать, а то еще подсунут человечину – такое бывало. На толкучке всякое случалось. Вот, тетя Ксана однажды попала в облаву. И всех, кого загребла милиция, отправили на Пискаревку – бросать в траншеи мешки с трупами. Но тете Ксане, она рассказывала, повезло: в ее мешке оказалось двое детей, не так тяжело было тащить и бросать…
Когда Жука стала всерьез волноваться за мать, та, наконец, возникла на углу улицы Пестеля, с полулитровой банкой, почти до половины заполненной… и Жука чуть не задохнулась от счастья: наверное, это постное масло! богатство! бесценное достояние! Что может быть вкуснее: слегка наклонив банку, выпить на блюдце лужицу золотой вязкой жидкости и макать в нее хлеб! Макать, но не вымачивать полностью, еще чего! По чуть-чуть, отправляя в рот по кусочку, и не сразу глотать, а чтобы весь рот пропитался ощущением, узнаванием, пониманием еды… Макать, макать – всю дневную норму хлеба. Нет! – у Жуки выделялись голодные слюни, она сглатывала их, и ей казалось, что во рту уже пахнет дивным подсолнечным солнечным вкусом. – Нет, не всю норму, нет! Разделить на три части: завтрак – обед – ужин… и праздновать так несколько долгих дней.







