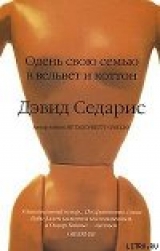
Текст книги "Одень свою семью в вельвет и коттон"
Автор книги: Дэвид Седарис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Если обычные служанки бубнили, то Дороти объявляла: «Миссис Браун отдыхает» или «Миссис Браун спустится в скором времени». Словно у говорящей куклы, ее словарный запас казался ограниченным горсткой предварительно записанных предложений. «Да, мэм». «Нет, мэм». «Я распоряжусь, чтобы подали машину». В процессе ожидания мы съели бутерброды с лососем и картофельный салат. Я предложил исследовать местность или хотя бы выйти за пределы кухни, но идея оказалась неподходящей. «Миссис Браун отдыхает, – сообщила Дороти. – Миссис Браун спустится в скором времени». Уже почти смеркалось, когда тетя Мони позвонила на кухню, и нам разрешили войти в главную гостиную.
«Как насчет попротирать от пыли это», – сказала мама, и я вздрогнул от недостатка утонченности в ее словах. Главным преимуществом роскоши было то, что кто-то другой следил за домом, полировал столы и вытирал грязь между пальцев львиных лап, в форме которых были сделаны ножки стульев. Это значило, что я бы ни за что не согласился их протирать. Пара абажуров – это еще куда ни шло, но гостиная напоминала музейную комнату определенной эпохи, где мебель подобрана маленькими группками, как гости на вечеринке. Стены были обиты шелком, а занавески ниспадали с потолка до самого пола, разделенные чем-то вроде лепнины. Детский стульчик и складной карточный столик не подходили к этой обстановке, но мы сделали вид, что не заметили их.
«Миссис Браун», – объявила Дороти, и мы последовали на звук подъемного устройства, собираясь возле стойки с перилами, чтобы поглядеть на спускающееся кресло. Та тетя Мони, которую я знал десять лет назад, была ослабленной, но еще достаточно крепкой, чтобы оставить след на обивке дивана. Нынешняя тетя Мони, спускающаяся в лифте, казалось, весила не больше щенка. Тем не менее она была элегантно одета, однако сильно сморщена. Ее лысеющая голова свисала с плеч как старая луковица. Мама представилась, и как только кресло стало на твердую почву, тетя Мони начала пристально ее разглядывать.
– Я Шерон, – повторила мама. – А это двое из моих детей. Моя дочь Лиза и мой сын Дэвид.
– Твои дети?
– Ну, двое из моих детей, – ответила мама. – Двое самых старших.
– А ты…?
– Шерон.
– Шерон, да, точно.
– Вы отправляли меня в Грецию пару лет назад, – сказал я. – Помните? Вы заплатили за мою поездку и я присылал вам письма.
– Да, – сказала она, – письма.
– Очень длинные письма.
– Очень длинные.
Чувство вины, которое я так долго хранил, внезапно исчезло. Его сменила боязнь того, что она забудет упомянуть нас в своем завещании. Что же происходило в ее голове? «Мама, – прошептал я. – Сделай пак, чтобы она не забыла, кто мы такие». Как выяснилось, тетя Мони была гораздо смышленей, чем казалась. Она плохо запоминала имена, но прекрасно все воспринимала, по крайней мере, что касается меня.
– Где этот мальчишка? – спрашивала она мою маму каждый раз, когда я выходил из комнаты. – Позовите его обратно. Я не люблю, когда люди роются в моих вещах.
– О, я уверена, что он нигде не роется, – отвечала мама. – Лиза, сходи поищи своего брата.
Второй муж тети Мони был большим охотником, и рядом с главной гостиной он устроил здоровенный трофейный зал, настоящий ковчег из чучел животных. В углу больших кошек стояли снежные леопарды, белые тигры, лев и пара пантер, застывших в полупрыжке. Перед журнальным столиком столкнулись рогами два горных козла. Из-за дивана росомаха подкрадывалась к оленихе, а возле шкафа с ружьями грозно подняла свою могучую лапу медведица гризли, защищая медвежонка, прячущегося у нее между ног. Там были и звери, и вещи сделанные из зверей: табуретка из слоновьей ноги, пепельницы из копыт, торшер из ноги жирафа. Как насчет протереть от пыли это!
Я впервые вошел в эту комнату во время очередного купания тети Мони и сел на пуфик из шкуры зебры. У меня одновременно возникли чувства завис ти и паранойи: тысяча глаз, и я хотел обладать ими всеми. Если бы я должен был выбирать, я бы взял гориллу, но, по словам мамы, вся коллекция завещалась крошечному природоведческому музею в Канаде. Я спросил, зачем Канаде еще один лось, на что мама пожала плечами и сказала, что я невыносим.
Когда меня выгоняли из трофейного зала, я шел на улицу и пялился на него через окна. «Где он? – спрашивала тогда тетя Мони. – Что он задумал?»
Как-то ранним вечером, после пристального рассматривания трофейного зала через окно, я пролез через кусты и увидел, как миссис Брайтлиф, приходящая медсестра, разрезала баранью отбивную для тети Мони. Женщины сидели за складным карточным столиком, а со стенки на них смотрел портрет тетиного второго мужа, стоящего на одном колене возле падшего носорога. Мама зашла со стороны кухни, и я был поражен, как не к месту она смотрелась среди наемных помощников и разделочных столов. Я всегда считал, что имея в наличии все зубы, человек может перейти из одного класса в другой, небрежно меняя ранчо на особняк, но теперь оказалось, что я был не прав. Чтобы жить так, как жила тетя Мони, надо было не только учиться, но и иметь определенную склонность к претенциозности, нечто такое, чем не всех наградил Господь. Мама помахала своим высоким бокалом, и, когда она села на тетушкин детский стульчик, я понял: мы обречены.
В воскресенье после полудня Хэнк отвез нас обратно в аэропорт. Тетя Мони продолжала чахнуть и умерла У себя дома в первый день весны. Мои родители присутствовали на похоронах и вернулись в Кливленд через пару месяцев. Они сказали, что надо было разобраться с недвижимостью, встретиться с адвокатами, закончить Дела. Они покидали Рэйли на самолете, а через неделю вернулись на серебряном «кадиллаке», и у мамы на коленях покоилось меховое одеяло. Оказалось, что ее запомнили – и даже хорошо, – но ничто не могло заставить ее раскрыть точную сумму.
– Я буду называть числа, а ты просто говори – больше или меньше, – сказал я. – Это миллион долларов?
– Я тебе не скажу.
– Полтора миллиона?
Я осторожно допрашивал ее среди ночи в надежде, что она заговорит во сне.
– Два миллиона долларов? Семьсот тысяч?
– Не скажу.
Позвонил мой друг, назвавшийся агентом налоговой, но мама смекнула, что к чему. У налоговиков на заднем плане не играет «Джетро Талл». Они также, вероятно, редко начинают разговор со слов: «У меня к вам один маленький вопросик».
– Но мне надо знать, чтобы всем рассказать.
– Именно поэтому я тебе и не скажу, – ответила мама.
Я тогда трудился в кафе, но все равно не гнушался раз в неделю поработать нянькой, чем занимался еще с девятого класса. Дети меня презирали, но в их ненависти была некая близость, почти уют, поэтому их родители меня не увольняли. У них в холодильнике всегда была дорогая еда – нарезанные колбасы и сыры, консервированные артишоки. Как-то вечером в день получки я сказал хозяйке, что моя двоюродная бабушка умерла и что у нас теперь есть «кадил лак» и меховое одеяло. «И деньги тоже, – сказал я, – куча денег». Я думал, женщина пригласит меня воспользоваться чудо-холодильником, но вместо этого она закатила глаза. «Кадиллак, – вздохнула она. – Господи, какими же нуворишами можно стать».
Я точно не знал, что значит «нувориш», но мне не понравилось это слово. «Вот сучка», – сказала мама, когда я рассказал ей эту историю. Затем она стала ругать меня за то, что я вообще говорил на эту тему с чужой женщиной. Через неделю «кадиллака» не стало – его продали. Я винил в этом себя, но оказалось, что родители все равно хотели от него избавиться. Мама купила себе пару красивых костюмов. Она набила холодильник деликатесными нарезками, но не приобрела ни бриллиантов, ни домика на пляже, ни других вещей, которых мы от нее ожидали. Какое-то время деньги служили предметом торгов. Мама с папой спорили о какой-то мелочи, и когда он смеялся и выходил из комнаты – он всегда заканчивал споры, ведя себя так, будто ты был сумасшедшим, и к этому больше нечего добавить, – мама кричала: «Думаешь, я не могу себе позволить уйти? Это мы еще посмотрим, дружок». Если ее чем-то обижал сосед или кто-то в магазине вел себя так, будто ее не существовало, она возвращалась домой и с грохотом вываливала вещи на стол, при этом шипя: «Я могла бы купить и продать этого сукиного сына». Она часто воображала, как произносит эти слова, и теперь, когда она действительно могла это сделать, я чувствовал, что она разочарована тем, как мало удовлетворения оно доставляет.
Я думаю, именно деньги тети Мони оплачивали мою аренду, когда я переехал в Чикаго, чтобы учиться в Институте искусств. Я думаю, именно ее деньги послали мою сестру Гретхен на Род-Айленд в Школу дизайна, а Тиффани – в ужасную, но очень дорогую школу в Мэне. Деньги пошли на то, чтобы переехать с Юга, что для нашей мамы означало повышение уровня жизни. Остальными деньгами занимался папа, финансовый алхимик, который превратил золото в полный почтовый ящик годовых отчетов, которыми только он мог наслаждаться.
Что касается чучел, то канадский музей отверг коллекцию моего двоюродного дедушки. Она была слишком мрачной для аукциона, поэтому зверей и все, что было из них сделано, отдали Хэнку.
«Ты что сделала? – спросил я маму. – Давай все проясним. Ты что сделала?» Был сделан один телефонный звонок, и мне прислали ковер из медвежьей шкуры, который несколько лет пролежал на полу моей слишком маленькой спальни. Поистине сумасшедший материал для ковра: пойдешь в одну сторону – споткнешься об голову, пойдешь в другую – угодишь ногой в раскрытую пасть.
В самую первую ночь наедине с медведем я запер дверь, дважды повернув ключ в замке, и лег на шкуру нагишом, как об этом пишут в журналах. Я надеялся, что побежденный мех и моя голая плоть дадут мне наилучшее ощущение в мире, но единственным чувством была странная неловкость. Кто-то наблюдал за мной, но не сосед или мои сестры, а второй муж тети Мони, тот, которого я видел на картине. С виду он сильно смахивал на Тедди Рузвельта: такая же оправа для очков из проволоки над уродливыми моржовыми усами. Мужчина загонял диких животных по всему миру, и теперь его хищный взгляд падал на меня, нетренированного семнадцатилетнего парня в чересчур больших очках и браслете с бирюзой, осквернявшего имя великого охотника своим костлявым прыщавым задом. Это была неприятная картина, поэтому я за помнил ее надолго.
На втором курсе университета Лиза отвезла ко вер в Вирджинию, где он лежал на полу ее спальни. Мы договорились, что она берет ковер временно, но в конце весны она отдала его соседке, которая погибла в автокатастрофе по дороге домой в Пенсильванию. Услышав о случившемся, я представил себе ее родителей, пару в умопомрачительном горе, которые натыкаются на медведя в багажнике автомобиля своей дочери и гадают, какое отношение он имеет к ее или чьей бы то ни было жизни.
Глава 7. Я меняюсь
Вы осознаете, что молоды, когда кто-то просит у вас денег, а вы воспринимаете это как комплимент.
«Ты классно выглядишь, можно тебя кое о чем попросить? «
Вопрос был задан девушкой-хиппи лет 18 – 19, которая стояла около магазинчика в торговом центре Норс-Хиллз. На ней была простенькая блуза, а из-за длинных, сильно расклешенных джинсов казалось, что у нее нет ступней. Старомодные очки, амулеты, головная повязка: я не мог поверить, что такая крутая девушка и впрямь обращается ко мне.
Тем летом мне было тринадцать. Мы с мамой приехали в Квик-Пик, она вручила мне десятидолларовую бумажку и послала в магазин за сигаретами. Она видела, как хиппи заговорила со мной, как я вошел в магазин и как на выходе задержался, протягивая девушке доллар.
«Кто это? – спросила мама, когда я вернулся в машину. – Что это за девчонка?» Если бы я был с отцом, то соврал бы, сказав, что это подружка. Но мама отлично знала, что у меня нет таких друзей, и я был вынужден сказать правду.
– Ты ведь дал ей не просто доллар, – продолжала мама. – А мой доллар.
– Но он ей нужен.
– Зачем? – спросила мама. – Может, купить шампунь или нитку с иголкой?
– Я не знаю, я не спрашивал.
– Я не знаю, не спрашивал… – Неумелое кривляние легко отбросить и забыть, но моя мама умела копировать людей с необычайной точностью. В ее интерпретации я выглядел испорченным и равнодушным персидским котом в облике человека. «Если ты хочешь дать ей доллар – это твое личное дело, – сказала она. – Но это был мой доллар, и я хочу получить его назад».
Я предложил отдать деньги, когда мы вернемся домой, но это ее не устраивало. «Я хочу не какой-то там старый доллар, – сказала мама. – Я хочу именно этот».
Было нелепо проявлять такую привязанность к конкретной долларовой купюре, но для моей матери это стало делом принципа. «Это мой доллар и я хочу его назад».
Когда я сказал ей, что уже слишком поздно, она вышла из машины и, со словами: «Ну, это мы еще посмотрим» – открыла мою дверцу.
Хиппи посмотрела на нас, я вжался в сидение. «Мам, пожалуйста. Так нельзя». На мгновение обстановка накалилась, но я знал, что теперь она дважды подумает, прежде чем вытащить меня из фургона. «Давай забудем об этом? Дома я верну тебе деньги. Честно, клянусь».
Мама посмотрела, как я извиваюсь, и только потом снова села за руль: «Ты думаешь, что все, кто просит деньги, действительно в них нуждаются? Господи, какой же ты наивный!». Девушка, клянчащая мелочь, была первой в целой череде ей подобных. Во время следующей поездки в Квик-Пик меня остановил другой хиппи – на этот раз парень. Он сидел на корточках перед автоматом со льдом. Увидев меня, парень протянул мне свою кожаную шляпу. «Приветствую, брат, – проговорил он. – Как думаешь, сможешь помочь другу? «
Я отдал ему пятьдесят центов, которые хотел потратить на колу и чипсы, и, опершись на столб, стал наблюдать за хиппи, изучая его повадки. Крутые люди, те, у которых нет лишних денег, никогда не упускали случая сказать: «Извини, братан…». или «Мне бы кто подал…». Тогда хиппи кивал, будто слышал знакомую музыку, крутой кивал тоже. Обычные, некрутые, люди проходили мимо, не останавливаясь, но все равно хиппи имел над ними некую странную власть. «Нет лишней мелочи? Ну, хоть центов десять-двадцать?» Эти незначительные просьбы наталкивали на значительный вопрос: «Разве вам безразлична судьба другого человека?» По-моему, парню также помогало его поразительное сходство с Иисусом, который, судя по слухам, должен вернуться со дня на день.
Я наблюдал за парнем около получаса. Потом из магазина вышел кассир, размахивая руками, словно взбивалками миксера. «Кончай разводить наших покупателей, – сказал он. – Давай, проваливай. Кыш!»
«Разводить» – молодежное слово, в устах взрослого мужчины оно звучало нелепо. Это напомнило мне, как ковбои из вестернов произносят слово «амиго». Мне захотелось, чтобы хиппи постоял за себя, сказав что-то типа: «Спокойно, старик» или «Это кто кого разводит?» Но вместо этого парень лишь пожал плечами. Затем он элегантно вскочил и, пересекая парковку, двинулся в сторону автомобиля, наверняка родительского. Не имело ни малейшего значения, что парень, скорее всего, жил дома, днем критиковал систему, а ночью нежился в удобной кровати. Может быть, и деньги, которые я дал ему, он потратит на вещи не первой необходимости – на ароматические палочки или гитарные струны, но это тоже не имело никакого значения. Для взрослых он был кошмаром во плоти. И, если забыть про шляпу, я хотел быть таким же.
Тогда я еще получал три доллара в неделю на карманные расходы. Свою «казну» я пополнял деньгами за то, что нянчил детей, а также случайными заработками в Дортон-Арена, концертно-выставочном зале, расположенном на территории ярмарки. Когда нам с моим другом Дэном везло, мы надевали белые куртки и бумажные шляпы и стояли за прилавком в буфете. Когда же, и это было гораздо чаще, нам не везло, мы облачались в те же наряды, вешали себе на шею по тяжелому подносу и прохаживались между рядами, про давая попкорн, орешки и содовую, которую, согласно инструкции, называли «прохладительным напитком». В повседневной жизни никто не говорил «прохладительные напитки», однако наш босс Джерри настаивал на такой формулировке. Кроме того, мы еще должны были громко выкрикивать эти слова, и поэтому я чувствовал себя как уличный торговец или мальчишка-газетчик допотопных времен. Во время концертов хэви-метал нас не замечали, но на шоу с музыкой кантри – гулянках, как их называли, – люди частенько возмущались, когда мы орали, заглушая их любимые песни. «Буду с тобой, ПОПКОРН, ОРЕШКИ, ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ», «Какая женщина, какая женщина, какой ПОПКОРН, ОРЕШКИ, ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ», «Небо в клетку, ПОПКОРН, ОРЕШКИ,
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ». Фаны позлее ломились вниз, где напарывались на Джерри, который говорил: «Спокуха, хрящ. Мне надо дело делать». Он обзывал возмущенных «кучкой жлобоватых крестьян», что меня особенно удивляло, так как сам он был в определенной степени деревенщиной. Словцо «жлобоватые» было превосходным доказательством этого, как и стрижка «ежиком», и ингалятор от астмы, который Джерри украсил маленьким американским флагом.
«Может, он говорит «крестьян» с чувством симпатии», – предположила моя мама, но я на это не купился. Гораздо вероятнее, что он видел разницу между собой и теми людьми, которые выглядели и вели себя так же, как он. Я тоже видел эту разницу, и, слушая Джерри, понимал, насколько жалко это звучало. Кто я был такой, чтобы называть кого-то деревенщиной, – я со своими брэкетами и очками с толстыми стеклами в черной оправе. «О, ты хорошо выглядишь», – говорила мне мама. Она хотела меня успокоить, но если мама считала, что ты хорошо выглядишь, что-то явно было не в порядке. Я хотел, чтобы ей стало тошно, но в тот момент мои руки были связаны. Согласно правилам, мне не разрешалось отращивать волосы до шестнадцати лет, в этом же возрасте мои сестры могли, наконец-то, проколоть уши. Для моих родителей это имело значение, но уши прокалывались за пару минут, а на отращивание приличного хвостика уходило несколько лет. Как бы там ни было, мне понадобилось Целых девять месяцев, чтобы догнать Дэна, чья мама была разумной и не ограничивала его понятие о стиле бессмысленными возрастными запретами. Его волосы были густыми и прямыми с пробором посередке, а медового цвета локоны заходили за уши и ниспадали на его плечи, как пара занавесок.
Еще с четвертого класса мы оба были изгоями – любителями природы, придурками, – но благодаря своему новому облику Дэн знакомился с крутыми ребятами в своей частной школе и захаживал к ним домой послушать музыку. Теперь, когда я называл кого-то «нудягой», Дэн смотрел на меня так же, как я смотрел на Джерри – ку-ку, ку-ку, – и я понимал, что наша дружба близится к концу. Парни не должны обижаться на такие вещи, и вместо этого я затаил тихую зависть, которая быстро росла и которую чем дальше, тем сложнее было скрывать.
Ярмарка штата началась в середине сентября, и буфетчики бродили туда-сюда между концертами на арене и небольшими мероприятиями на гоночном треке. Мы с Дэном как раз готовились к первой автомобильной гонке, когда Джерри заявил, что вместо колы мы будем продавать банки с напитком под названием «Диво-пиво».
От обычного «Диво-пиво» отличалось отсутствием алкоголя. В пиве таковое имелось, а в «Диво-пиве» – нет. По вкусу оно напоминало газированную овсянку, но Джерри надеялся, что покупателей обманет яркая вполне алкогольная этикетка. «Ум порой способен сыграть с нами злую шутку», – сказал он.
Наверное, он был прав, но люди, пришедшие посмотреть на автогонку Северной Каролины, были не из тех, кто не может отличить таблетку аспирина от сахарозаменителя. Наша первая партия разошлась мгновенно, однако во втором перерыве публика «расколола» уловку. «Какое в задницу пиво, – кричал народ. – Вы все обманщики».
«Оно даст в голову, когда вдарит жарища», – уверял Джерри, но ему никто не верил.
Между первым и вторым заездами был часовой перерыв, и, прогуливаясь с Дэном по рядам, я подумал о замшевой куртке, которую видел на прошлой неделе в магазине «Джей Си Пенни». Именно ее цвет продавщица описала как «мужественный вишнево-красный», еще на ней были полоски бахромы, которые болтались, как ошметки желтка. Восемнадцать долларов – большие деньги, но такую куртку невозможно не заметить. Добавь к ней свитер с высоким горлом или рубашку на пуговицах – и куртка оповестит всех, что ты чувствителен и не чужд миру. Надеть ее на голое тело – и она скажет, что, независимо от длины волос, твоя жизнь проистекала в каком-то богом забытом месте, которое лучше всего назвать «где-то там». Я надеялся, что, работая все выходные, я получу достаточно денег для ее покупки, но с «Диво-пивом» заработки были под большим вопросом. Теперь мне пришлось занести куртку в свой Рождественский список, что явно кастрировало ее привлекательность. То, что казалось хипповым и опасным, представлялось совсем в противоположном свете, если было упаковано в коробку с надписью: «От Санты».
Дешевые места стали заполняться перед вторым заездом, и, когда мы направились обратно к гоночному треку, я заметил пару пристойно одетых мальчиков, которые пялились на чертово колесо. Они выглядели, как я, лишь чуть младше, и, скорее всего, были братьями. На них были одинаковые очки в черной оправе, которые держались на их головах с помощью тугих резиновых повязок. Я видел, как они глядели вверх с раскрытыми ртами, и в тот самый момент я увидел и свою красную замшевую куртку.
– Мелочевка есть?
Братья посмотрели друг на друга, а потом снова на меня.
– Да, конечно, – сказал тот, что постарше. – Джин, дай этому парню немного денег.
– Почему я? – спросил Джин.
– Потому, что я так сказал. – Старший брат приподнял очки и почесал горбик на носу. – Ты хиппи, да?
Он говорил так, будто, подобно канадцам или методистам, хиппари тихо бродили среди нас, не различимые невооруженным взглядом.
– Ну, конечно, он хиппи, – сказал Джин. – Иначе не приставал бы к людям.
Он пошарил в мелочи и дал мне десять центов.
– Покедова, – сказал я.
Это было самым простым делом в мире. Дэн работал с одной стороны от чертова колеса, я – с другой. Мы просили деньги так же, как вы спрашиваете: «который час», и, когда кто-то давал мелочь, мы благословляли его знаком мира или перекошенным кивком, который означал: я рад, что ты знаешь, откуда я пришел. Взрослые были дешевками и осуждали нас, поэтому мы липли к сверстникам, особенно иногородним, которые слышали о хиппи, но никогда не видели их живьем. Люди давали или не давали, но никогда не спрашивали, зачем нам деньги или почему двое, на первый взгляд, здоровых парней беспокоят совсем незнакомых людей по поводу мелочи.
Это была свобода, и, чтобы она казалась нам еще слаще, мы продрались к гоночному треку, где Джерри вел подготовку к третьему заезду. «Я должен надрать вам задницы», – сказал он. – Бросить меня, как сделали вы, – это не по-дружески». Он дал нам наши униформы, а мы бросили их на прилавок, заявляя, что нашли более легкий способ добычи денег.
«Тогда проваливайте отсюдова, – сказал он. – И не приползайте обратно. Здесь нет работы для предателей».
Это было очень кстати. Вспомнив о том, как глупо человек смотрится в бумажной шляпе, мы с Дэном вернулись к попрошайничеству, часто прерываясь, чтобы похлопать друг друга по плечу. «Предатель, ты можешь подумать, что у меня есть для тебя работа, но подумай-ка еще разок. «Ближе к вечеру, мы заменили слово предатель на слово хиппи, позволяя самим себе верить, что Джерри уволил нас не потому, что мы его бросили, а потому, что мы были свободны и современны. Неважно, что мы больше никогда не будем на него работать, так как эти дни уже позади. Работа была позади.
К пяти часам я навыпрашивал достаточно денег, чтобы купить эту куртку, но жадность не дала нам с Дэном остановиться. Мы строили планы по поводу стереосистем и мопедов – всего, чего хотели, – купленных за десятицентовые монетки. Наступали сумерки, и проходы между рядами осветились разноцветными лампочками. Ранний вечер был прибыльным, но теперь пошла другая публика, поползли хулиганские настроения.
«Мелочевки не будет?»
У парня, к которому я обратился, были пушистые, незрелые усики, не более чем пару десятков волосков, расположенные надо ртом размером с рот новорожденного. «Что ты сказал?» – спросил он.
Я отвернулся, но когда он развернул меня к себе, я заметил его военную куртку, которая была не старой и потрепанной, а новой и хрустящей, такой, какую покупают в качестве тренировки перед призывом.
– Ты это мне сказал, придурок? – Его рот теперь стал больше. – Ты сказал что-то мне в лицо?
Второй парень подошел и положил руку на плечо своего злого товарища.
– Спокойно, Курт, – сказал он. – Остынь.
– Ты, видать, не догоняешь, что здесь происходит, – сказал парень по имени Курт, – но этот клоун со мной заговорил, – Курт говорил очень гневно, будто я написал ему в рот. – В смысле, он действительно сказал что-то мне.
Двое из их компании, которые шли впереди, вернулись, чтобы разобраться из-за чего весь сыр-бор, и стояли, сложив руки на груди, пока Курт описывал ситуацию: «Я себе шел, никого не трогал, а этот кусок дерьма стал разевать варежку почем зря. Выходит так, будто он меня знает, но он меня не знает. Никто, черт побери, меня не знает».
Хуже двадцатипятилетнего, вспомнившего Вьетнам, только четырнадцатилетний, которому он предстоит. Я повернул голову в поисках Дэна и увидел, что он отступает, как вдруг кулак Курта зарядил мне в ухо, ломая оправу моих очков. Второй удар пришелся по моей верхней губе, а третий был прерван друзьями, которые схватили Курта за руки, приговаривая: «Чувак, попустись. Он того не стоит».
Я попробовал кровь, сочащуюся из моей губы.
– Это правда, – сказал я. – Я того не стою. Клянусь, не стою. Спроси кого угодно.
– Он не должен базарить с людьми, не зная, с кем, вашу мать, он базарит, – сказал Курт. – В следующий раз, когда кто-то попадется мне на глаза – замочу его к чертям собачим. Клянусь, замочу.
– Мы знаем, дружище. Мы знаем.
Друзья Курта повели его дальше по проходу, но через минуту один из них вернулся и дал мне доллар.
– Ты крутой, чувак, – сказал он. – То, что сделал Курт – неправильно. Он иногда просто срывается, однако мне известно, откуда ты пришел. Я люблю мир.
– Я знаю, что ты любишь мир, – сказал я, – и ценю это.
Это был первый раз, когда мне дали целый доллар, и меня осенило, что если бы меня избивали по двадцать раз на день, то я бы заработал нормальную сумму. Потом я увидел свои поломанные очки, и все подсчеты пошли прахом. Я поднимал их с земли, когда подошел Дэн, сделавший вид, что он пропустил всю взбучку.
– Что с тобой стряслось? – спросил он.
– Не надо вот этого, – сказал я.
– Не надо чего? – он закусил губу, чтобы не смеяться, и в тот самый момент я понял, что нашей дружбе конец.
– Просто позови свою маму, – сказал я. – Я готов отсюда сваливать.
* * *
На штатной ярмарке был миллион способов пораниться, поэтому, когда мама спросила меня про губу, я сказал, что ударился об поручень, катаясь на карусели.
– А ты не слишком взрослый для такого? – спросила она. (Мама перепутала карусель с крутящимися чашками и блюдцами, предназначенными для малышни из детского сада. Мама действительно представила меня втиснутым в летающую чашку.)
– Господи, – взмолился я. – За кого ты меня принимаешь?
Мама предложила отремонтировать очки, но, когда я попросил новые, она категорически отказала.
– Но в этих очках я похож на чучело.
– Ну да, – сказала мама. – На то они и очки.
Мы с Дэном планировали вернуться на ярмарку в воскресенье утром, но когда он подошел к двери, я отослал его, сказав, что плохо себя чувствую.
– Мне кажется, у меня какой-то грипп.
– Может быть, куриная слепота, – сказал Дэн, опять еле сдерживая смех. Так поступают с теми, кого жалеют, с теми, кто не понимает шуток, и это было хуже, чем просто пошутить и посмеяться. Он пошел вдоль по улице, а я снова подумал о прошлом вечере и о том, что я сказал после первого удара Курта. Согласие с тем, что я не стою той энергии, которая требуется, чтобы меня ударить, само по себе было мерзко, но разве можно было ссылаться на общественное мнение по этому поводу? Спроси кого угодно. Ничего удивительного, что Курт влупил мне еще раз.
Позже, вечером, Дэн постучал в окно моей спальни. «Угадай, кто заработал сорок четыре доллара?» – спросил он. Купюры, сложенные в виде обвисшего веера, он держал за спиной, а доставал их очень торжественно.
«Да будет тебе. Ты не заработал сорока четырех баксов». Я отрицал это просто ради спора, зная, что он их заработал. В следующие выходные, отрастив волосы подлиннее, он вернулся на ярмарку и заработал еще больше. Некоторое время спустя он уже носил пончо и сидел по-турецки перед искусно сделанными медными кальянами. Для него наша дружба имела столько же значения и была так же нужна, как комбинация на старом замке. «Вы двое росли порознь», – говорила мама. Она это говорила так, будто нас унесло в разных направлениях, хотя у нас была одна цель. Просто я до нее так и не добрался.
Куртка оказалась не замшевой, а вельветовой. Это меня разочаровало, но я столько выстрадал ради нее, что не имел другого выбора, кроме как купить ее. На оставшиеся деньги я купил пару синих вельветовых штанов, которые весьма иронично смотрелись с красной курткой и белой футболкой. Я люблю Америку. Да, люблю!
– Обещай мне, что ты не наденешь этого вне дома, – сказала мама. Мне показалось, что она немножко завидует. Ее молодость прошла, за модой ей было уже не угнаться, и ей было завидно, что я наслаждаюсь вещами, которые ей уже недоступны.
– Ты можешь меня не дергать, пожалуйста, – попросил я.
– Ах, какие мы задерганные. – Она вздохнула и налила себе стакан вина из кувшина в буфете. – Иди, иди, дядя Сэм, – сказала она, – иди, пока я тебя не остановила.
В своем новом наряде я впервые появился в Квик-Пике, где в который раз наткнулся на девушку-хиппи. В этот раз она не попрошайничала, а просто стояла с другом и курила. Просто отвисала. Я кивнул в знак приветствия, и, когда я проходил мимо, она назвала меня выдрючкой, имея в виду, что я выделываюсь. Они вдвоем посмеялись, а я сгорал от стыда, возникающего когда тебе четырнадцать и ты понимаешь, что мама права.
Меньше всего мне хотелось снова пройти мимо хиппи, поэтому я торчал в Квик-Пике так долго, как мог, пока управляющий не вышвырнул меня вон. Как получается, что в одно мгновение ты выглядишь отлично, а в следующее ты готов отдать все, лишь бы только залезть в бакалейную морозилку, забраться под замороженные пироги и сидеть там, пока не Достигнешь того загадочного возраста, когда человек способен сам думать за себя. Это было бы так умиротворяюще – скорее дрема, нежели сон. Каждый раз ты выглядывал бы и видел, что мода меняется. Все носят шевелюры. Из моды вышли бороды. Ты бы видел мир, будто из автобуса, выскакивая в тот момент, который сам посчитаешь своим звездным часом. Вот в этой точке ты без усилий мог быть самим собой и признать, что тебе нравится музыка кантри и что ты ненавидишь саму мысль о волосах на шее. Ты мог бы выглядеть и вести себя так, как тебе угодно, и проводить целые дни в Квик-Пике, если очень хотелось. Уходя оттуда, ты бы прошел мимо женщины в юбке до пола, узор на которой напоминал увеличенных в сотни раз микробов. Вышитая бисером головная повязка, очки в оправе из проволоки: она попросила бы у тебя четвертак, а ты бы рассмеялся, не жестоко, а вежливо, мягко – так, будто она рассказала тебе шутку, которую ты уже слышал.








