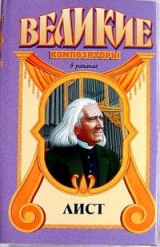
Текст книги "Ференц Лист"
Автор книги: Дёрдь Шандор Гаал
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
Министр пробудился в полдень. Первым его навестил привратник. Граф спросонья раздражён, но от привратника легко не отделаешься.
– Что там у вас?
Привратник подробно рассказывает министру о визитах Ференца Листа. У него записаны не только дни, но и часы и минуты. О скандале, говорит он, знает вся прислуга окрестных домов.
Министр позвал камердинера и, только когда был гладко выбрит и одет, попросил пригласить к себе Каролину.
– Что за скандальная история у вас, милая Каролина, с этим учителем музыки? Надеюсь, всё это не больше чем лакейская сплетня, которой не нужно придавать значения?
На красивом, нежном лице Каролины, в углах губ прочерчивается точно такая же твёрдая складка, что и у отца.
– Я не знаю ничего ни о каком скандале.
– Говори прямо, что у тебя с этим музыкантом?
– Он попросил моей руки, и я ответила согласием.
– Относительно твоей руки я ответил согласием уже давным-давно. А я, если когда-то обещаю, не меняю своих решений даже ради самого господа бога.
– На сей раз вам придётся изменить решение.
Так прошло первое столкновение. Вечером сражение продолжалось. Бой был неравным.
Ночью граф приказал собрать для Каролины вещи первой необходимости и в сопровождении горничной и служанки отправил её в фамильный замок Сен-Криков на берегу Луары.
Каролина не плакала, не топала ногами, даже не спорила – она шла, смирившись, будто пленница под конвоем, понимавшая, что побег немыслим.
Отец протянул ей на прощанье руку, она её не заметила, попытался на прощание сказать какие-то напутственные слова:
– Повзрослеешь – поймёшь, что я поступаю так исключительно в твоих же интересах, а не из собственного эгоизма.
Но эти его слова прозвучали в комнате без неё: Каролина уже спускалась вниз по лестнице, сохраняя спокойствие и делая вид, что едет всего лишь на прогулку.
На другой день привратник передал Ференцу:
– Господин учитель, вас просит к себе его сиятельство.
Граф Сен-Крик снисходительно-вежлив. Говорит с Листом, будто с ребёнком. Не предлагая гостю сесть, он произносит слова приговора:
– Каролина закончила учёбу. Через несколько месяцев она выходит замуж... Теперь ей предстоит изучать другие пауки.
Юноша стоит, не произнося ни слова: он просто не способен постигнуть смысла того, что ему говорят. А граф продолжает:
– Я считаю вас джентльменом. Покойная моя жена тоже была весьма хорошего мнения о вас. Потому мы и почтили вас своим доверием. Сейчас я обращаюсь к вам тоже как к джентльмену и запрещаю всякую близость. И вам, и своей дочери.
Ференц, тяжело вздохнув, обретает наконец дар речи.
– Могу я поговорить с Каролиной?
– Мадемуазель Каролина сегодня ночью уехала...
– Когда она вернётся?
– В этот дом – никогда. А если и вернётся, то уже замужней женщиной.
Ференц больше ничего не видит перед собой, словно какой-то раскалённый колокол закрывает от него всё вокруг. Задыхаясь, он пытается что-то ещё сказать.
– И Каролина согласилась на это?
– Каролина знает, что я хочу ей добра.
Ференц покачнулся, едва удержавшись на ногах, промолвил:
– Мы любим друг друга.
У графа Cен-Крика одно желание: вышвырнуть мальчишку из комнаты, но господин министр сдерживает себя и вежливо возражает:
– Вы ещё почти ребёнок, и заблуждения простительны вам. Но я должен сказать, полагаясь на ваши доброжелательность и понимание, что в нашем роду ещё никогда не было мезальянсов. Это, разумеется, не означает, что мы не уважаем низшие слои общества, не признаем их талантов, их прилежания и других достоинств. Со всем этим мы считаемся, но мы должны с честью нести наш стяг и наш герб, дарованный нам ещё Людовиком Святым. А сейчас разрешите на прощание ещё раз поблагодарить вас, сударь, за ваше усердие в качестве учителя моей дочери. Покойная моя супруга очень хорошо относилась к вам, и я сам тоже высоко ценю ваши способности. Всего хорошего, сударь!
Ференц отменяет все уроки. Не делает исключения ни для милого Петера Вольфа, ни даже для семейства Буасье. Извещает их письмом. Матушка не спрашивает его ни о чём. Ни советов, ни упрёков, ни даже вопроса: «Чем будем жить, сынок?»
У неё есть небольшие собственные сбережения, то, что удалось скопить ещё при жизни Адаму и ей самой из скромных заработков Ференца. Так что материальных забот у них пока нет. И всё же её порой охватывает страх. Она видит, как мучается сын, иногда не встаёт по утрам, лежит, устремив взор в потолок, словно читает начертанные там, невидимые для других письмена. Так проходят недели. Наконец Фери собирается с силами и отправляется к аббату Бардену, священнику церкви Святого Евстахия.
Жизнелюбивый поп, рассматривающий католическое вероучение как некую весёлую философию, не только терпимо относящуюся к лёгкому вину, хорошему столу, красивой музыке, но и другим радостям жизни, уже полностью осведомлен об «истории Ференца и Каролины».
Ференц же, много недель державшийся по-мужски на глазах других, вдруг надламывается.
– Я сильно страдаю, святой отец.
– Потому что бог подарил тебе чуткое сердце.
– Очень трудно так жить, а надо. Ради матери.
Барден привлекает к себе юношу и, гладя его красивые белокурые волосы, говорит:
– Ты должен жить. И ради себя самого тоже. Мы многого ждём от тебя, сын мой.
Лёжа с открытыми глазами на кровати, Ференц обдумывает одну-единственную мысль: уйти в монастырь. Но чем подробнее рисует он её в своём воображении, тем для него яснее: всё это лишь игра. Не сможет он оторваться от мира, от музыки, от людей, от матери и от Парижа – этой удивительной людской круговерти. И ещё один удар, от которого другой человек, вероятнее всего, окончательно надломился бы. Ференц же, наоборот, приходит в себя, поднимается на ноги. Он вновь хочет жить и бороться. Газета «Этуаль» («Звезда»), помещавшая ещё совсем недавно восторженные статьи о нём, сообщает своим читателям печальную весть: «Смерть юного Листа. Во французской столице скончался юный Лист. В возрасте, когда другие дети ещё не думают и о школе, маленький Лист уже покорил весь мир. В девять лет он умел так импровизировать, что повергал в изумление величайших пианистов...» Взгляд Ференца останавливается на трёх строчках: «...Интересно, что было бы, если бы он вырос и стал взрослым? Наверное, завистники и у него начали бы находить ошибки и, позабыв о достоинствах, уж постарались бы отравить и ему всю жизнь?..»
Напрасно Ференц прячет газету. Добрые соседи сами прибегают к матери. Анна сначала плачет, затем, взглянув на сына, смоется. Уже год как Ференц – глава семьи, а мама мудро отступает на задний план. Но сейчас как раз она – его защитница, она прижимает его к своей груди, она утешает его. Целует его глаза, лицо, лоб, руки, приговаривая:
– Пусть бог покарает тех, кто хочет обидеть тебя. – Гладит его и спрашивает: – Ты же здоров, сынок?
– Конечно, матушка! – кивает Ференц.
Разумеется, первыми всполошились Эрары, замечательные люди, о которых в последние годы Ференц совершенно забыл. Приехал сам старик. Пересиливая одышку, он поднялся на третий этаж, стуча палкой чёрного дерева по щербатым ступеням ветхого домишки.
Затем даёт о себе знать профессор Крейцер, сообщив, что он хочет немедленно видеть своего бывшего подопечного.
Оказывается, мир полон друзей, которые волнуются за тебя, любят!
Пишут и вожди «Сенакля». Газета «Этуаль» направляет к Ференцу делегацию: просят прощения за ошибку, предлагают помощь и заверяют в своей готовности предоставить в распоряжение молодого музыканта всё необходимое. А старый Эрар не довольствуется визитом. Он буквально таскает Ференца за собой повсюду. Эрар-отец уже строит планы относительно молодого гения, Огюста Крейцера (младшего брата Рудольфа Крейцера, совсем недавно занявшего место профессора на кафедре в консерватории). Эрар хочет организовать камерные концерты с участием Крейцера, молодого бельгийца Массара и Кретьена Юрана, музыканта, мастерски играющего как на органе, так и на струнных инструментах, и Ференца Листа.
Вскоре к ним присоединился ещё один будущий участник – Фелисьен Сезар Давид, выходец с юга Франции, якобинец по убеждениям.
И как-то сразу Ференц замечает, что очутился в самой середине противоборствующих, тянущих в разные стороны и готовых разорвать и его на части сил. Аббат Барден призывает к умеренной набожности, Юран, наоборот, к затворнической самоотверженной религиозности, юный же Фелисьен Давид попытался открыть ему глаза: «Грязный поток нищеты грозит затопить мир». Петер Вольф высказал желание возвратить своего учителя и друга профессору Циммерману и волосатым воителям из Арсенала, а покинутые ученики умоляли возобновить уроки.
И наконец, мама. Она желает ему только мира и покоя. Иногда она садилась на край его постели и говорила:
– Поверь мне, сынок, всё проходит.
– Почему не пишет Каролина?
– Наверное, стерегут её как пленницу. Может быть, она и писала, да только, видно, украли её письма.
Наконец первый камерный концерт в салоне Эраров. На пригласительном билете два имени: Лист и Массар. Вначале они исполняют по одному произведению Листа и Фетиса. В ответ вежливые аплодисменты. Заключительный номер – Крейцерова соната. Настроение зала сразу меняется. Массар волнуется и начинает бледно. Но фортепианная буря Листа вскоре захватывает и его. С Ференцем нельзя осторожно музицировать что-то аккуратненькое, изящненькое, скромненькое. Здесь нужно лететь стремительно, пока не остановится сердце.
Старый Эрар плачет, не стыдясь слёз (он объясняет их своей сентиментальностью). Массар сам удивлён, словно какие-то высшие силы, помимо его воли, играли его руками. Только Юран рассержен.
– Эта музыка слишком напоказ. В ней нет скромности, христианской чистоты.
Юрану не нравилась не только Крейцерова соната, но и весь новый тон, возобладавший в последнее время на камерных репетициях. Ещё два-три месяца назад Лист обязательно посоветовался бы с Юраном: стоит ли ему принять предложение и вернуться в «Сенакль». Теперь же он без раздумий ответил согласием.
«Сенакль» уже успел распрощаться с Арсеналом и перебрался в Нотр-Дам де Шамп, на квартиру молодого вождя «Сенакля» – Виктора Гюго.
На этот раз на собрание клуба пришло много народа. Как видно, предстояло принять решение или, по крайней мере, заявить о чём-то важном. В большом салоне, который чьи-то прилежные руки преобразили в зал заседаний, появился поэт Жерар де Нерваль[21]21
Жерар де Нерваль (1808—1855) – французский писатель и критик, переводчик «Фауста» Гёте.
[Закрыть]. Скромно укрывшись в углу, уже ожидал начала заседания Ламартин, приехал беспокойный, говорливый, с развевающимися волосами, в воинственном пурпурно-алом жилете Теофиль Готье, вошёл Дюма, застенчиво отвечая на приветствия, о чём-то переговаривался с хозяином дома Сент-Бев[22]22
Теофиль Готье, Дюма, Сент-Бев – молодые писатели того времени. Второй из них – Александр Дюмa-отец (1802—1870).
[Закрыть], прибыли художники Девернье и Делакруа. И наконец, новый гость «Сенакля» – Оноре де Бальзак. Он проплыл в салон, полный достоинства, плечистый, широкогрудый и красивый, словно большой корабль, перед которым расступаются мелкие лодчонки и парусники.
Писатель остановился рядом с Ференцем. Как вскоре выяснилось, совсем не случайно. Весьма коротко представившись, Бальзак сказал, что один из его героев – музыкант и он сейчас хотел бы услышать то, чего не найдёшь в книжках: как зарождается мелодия, как она затем получает развитие, бывает ли так, что она приходит во сне, и вообще как работает музыкант? Потому что он знает из своего горького опыта: каждая фраза – злой, упорный враг, которого нужно свалить и уложить на лопатки, но даже и после этого продолжает сопротивляться до тех пор, пока эта фраза не утихомирится, записанная на бумаге. Он говорил, а сам внимательно осматривал Ференца, как врач своего пациента: изучал его мускулистую руку, напряжённые, как стальные пружины, пальцы, нежно очерченный и вместе с тем сильный, волевой подбородок, рот, лоб.
– Я срисую с вас портрет своего героя. Природа вылепила вас с таким совершенством, что я не стану тщить свою фантазию. В состязании с природой мне не выиграть.
Ференц смущённо улыбнулся.
– Вы, право же, повергаете меня в замешательство.
– Я много раз слушал вас, и то, что я сейчас скажу, не критика, а только ключ, который, вероятно, поможет вам понять самого себя. Дело в том, впрочем, это вы и сами знаете: в музыке существуют не только звуки, ритм, мысли и мелодия, но в каждой музыкальной пьесе есть и артистическая роль, которую настоящий исполнитель развивает на подмостках, со всей отдачей исполняет её – страдая и одерживая победу, умирая и воскресая из мёртвых, как величайший актёр на сцене. Это один из секретов и ваших успехов. И не стыдитесь этого. Смело пользуйтесь этим.
Вдруг мажордом «Сенакля» Теофиль Готье потребовал внимания и в наступившей тишине объявил:
– Друзья! Первое сражение выиграно: в «Комеди Франсез» приняли к постановке пьесу Виктора Гюго «Эрнани». Теперь нам нужно выиграть второе сражение – премьеру!
Первая постановка «Эрнани» пришлась на 25 февраля 1830 года. Начало спектакля в семь часов, но уже в три пополудни члены «Сенакля», а точнее, его вспомогательные отряды уже оцепили театр. У служебного входа шла проверка приверженцев. Словно перед какой-то военной операцией, часовые и вновь прибывшие обменивались паролями:
– Эрнани...
– Донна Соль...
В зрительном зале пока кромешная тьма. Только негромкое пение, доносившееся из мрака, подтверждает: Петрус Борель сдержал слово – триста студентов Академии художеств уже заняли свои места в зале.
За несколько минут до семи зал «Комеди Франсез» был переполнен до отказа, чему не было примера уже много лет. Вот по залу пронёсся почтительный шёпот: в директорскую ложу вошли Тьер[23]23
Будущий душитель Парижской коммуны Адольф Тьер (1797—1877) в описываемое время был журналистом и политическим деятелем, одним из руководителей либерально-буржуазной оппозиции реставрационному режиму.
[Закрыть], Бенжамен Констан и Проспор Меримо. Разумеется, появились и великие противники: Скриб и Делавши[24]24
Скриб, Огюсте и Э ж е и (1791—1861) и Делавинь, Казимир Жан Франсуа (1793—1843) – французские драматурги либерально-буржуазного направления, эклектически сочетавшие в своём творчестве классицистские и романтические приёмы и выступавшие против романтиков революционного лагеря. Скриб был также выдающимся либреттистом опер и сотрудником композитора Джакомо Мейербера. Как либреттиста Лист впоследствии высоко оценил его (статья «Роберт-Дьявол» Скриба и Мейербера», 1854).
[Закрыть],– с загадочной улыбкой на губах, которую можно было потом истолковать по-всякому: «Ну что я предсказывал? – провал», или: «Недаром я был за «Эрнани», когда всё ещё было таким неопределённым».
И, конечно же, пришли Ламартин и Бальзак, Дюма и Делакруа и сам Борель, которого встретила такая овация, словно это Цезарь решил навестить свои легионы. Будущие художники разве что только не подхватили его на руки.
Семь часов.
В зрительном зале началось сражение и шло с переменным успехом. Одни тирады героев заставляли зрителей следить с замиранием сердца за происходящим, а затем какие-нибудь две-три реплики с галёрки разжигали страсти консерваторов:
– Какая наглость! Уличный жаргон... В театр набилась чернь!
Легион будущих художников Петруса Бореля готов к бою. Если возмутитель спокойствия на досягаемом расстоянии, его утихомиривали толчком локтя в ребро, ударом ботинка по лодыжке или кулаком в скулу. Когда же шиканье слышалось издалека, ему отвечали хором:
– Убирайся в монастырь, старый козёл!
– На кладбище ему пора!
Драма на сцене лишь на мгновение замирала и тут же развивалась дальше, а вот в зрительном зале уже разгоралось настоящее побоище.
Пурпурный жилет Готье – будто знамя, вокруг которого сплотилась молодёжь. Партия «стариков» атаковала их мелкими группами, громко хулила поэта якобы за его уличный язык, крысиную мораль, за бессовестные попытки низвергнуть святилище, воздвигнутое в своё время Мольером.
Но вот зал на миг затих. И этого мгновения было достаточно, чтобы все зрители тотчас ню попали под очарование стихов Гюго.
Поэт победил.
После спектакля часть зрителей напоминала одну большую семью, празднующую чей-то день рождения. Взявшись за руки – Ференц очутился с краю, – они шли по улице, заняв её всю от стены до стены, оттесняя встречных или увлекая их за собой, когда они им нравились.
В кафе «Эльдер» они уселись за огромный круглый мраморный стол – обсудить каждую реплику, каждое слово спектакля, все выкрики и стычки в зале.
Впервые после долгого перерыва Ференца начинают мучить воспоминания о Каролине. Началось это, как ни странно, с того, что Ференц с каким-то сожалением заметил, что совершенно забыл её. Он уже снова обрёл способность замечать красоту других женщин, полные обещания взоры, словом, перестал быть аскетом, противостоящим тысяче соблазнов Парижа. И вот ещё одна из загадок человеческой натуры: оказывается, можно жалеть даже о зажившей рапе, о прошедшей боли! И мысль об этом привела его снова в знакомый переулок. И опомнился он, лишь когда увидел, что стоит перед дворцом Сен-Криков. Некоторое время он рассматривал закрытые шторами окна, потом подошёл к чуть приоткрытым воротам. Войти почему-то не решился. Но ворота сами отворились, и на улицу с метлой на плече вышел старый служитель в синем переднике.
– Вам кого?
Юноша пожал плечами.
– Когда-то я здесь бывал каждый день. А сейчас хотел узнать, где семейство их сиятельства?
– Господин граф переехал жить в провинцию, поскольку перестал быть министром. Мадемуазель вышла замуж. Но перед отъездом заглянула ко мне, записочку какую-то оставила. И ещё просила сказать, если будут спрашивать их адрес.
У Ференца нервно дёрнулась щека.
– Где записка?
Служитель ещё раз недоверчиво посмотрел на Ференца.
– А вам ли она?
– Мне! – вздрогнув всем телом, отвечал Лист.
Старик зашагал к каморке консьержа и долго шарил в ящике стола, затем протянул ему конверт из рисовой бумаги. Ференц распечатал конверт. В записке было всего несколько слов: «Графиня д’Артиго, По, Беарн, замок д’Артиго, возле церкви Святого Жака».
Вернувшись домой, бросился на кровать. В голове мысли одна страшнее другой: сжечь дворец, сжечь весь мир. Пусть там, в Беарне, знают: он жив, он страдает, он не забыл.
Под вечер в дверь постучала мать. Принесла поесть. Но он даже не притронулся к еде.
К вечерне в церковь Святого Евстахия они пошли вместе. Ференц не молился, в голове у него всё та же мысль: сделать что-то страшное. Нет, не так: сделать что-то такое, чего никто не ожидал от него.
По дороге домой он вдруг спросил мать:
– Мама, скажи, какой бы из меня получился священник?
– Очень красивый, сынок, – ответила Анна.
– Да не о том я, мама. Хороший или плохой священник?
– Красивый и очень плохой, я думаю.
Близились три славных дня Июльской революции 1830 года. Карл X охвачен страхом. Он боится участи старшего брата, Людовика XVI, окончившего жизнь на гильотине.
– Я не собираюсь выслушивать шуточки от палача. Если надо, я предпочту умереть с мечом в руке!
Король Франции всё ещё верил в оружие своей швейцарской гвардии, а оппозиция – в могущество печатных машин, исторгающих из своего чрева бесконечный поток газет, листовок и прокламаций. И потому швейцарцы сторожили пушки, а вожди оппозиции – Тьер, Минье, Каррель, Одиллон Барро – свои типографии.
Король укатил на охоту, а начальник полиции Парижа ворвался в типографию «Тан» и приказал вызвать трясущегося от страха директора.
– Рабочие должны покинуть помещение.
– Сударь, – отвечал директор типографии, – это превыше моей власти. Может быть, вы скажете это им сами?
Начальник полиции обвёл взглядом мрачные лица окруживших их рабочих. И подал свисток. Сверкнули штыки, грянули выстрелы, упали на землю первые убитые. А на улице, перед зданием типографии, уже толпились десятки тысяч парижан.
Премьер Полиньяк даёт команду маршалу Мармону привести в действие местный гарнизон. Но имя Мариона – самое ненавистное в Париже. Это тот самый Мармон – предатель, что в своё время выбил оружие из рук Наполеона. Мармон – это тот, кто предложил врагу парад войск в Париже вместо борьбы за столицу Франции. Разумеется, французы уже успели забыть – как-никак прошло восемнадцать лет, – что это Наполеон усеял трупами французских солдат путь от Москвы до Парижа. Они забыли Лейпциг и Ватерлоо и сотни тысяч калек, оставленных Наполеоном потомству, и помнили только тот сияющий славой Париж, перед которым трепетал весь мир! Мармон! Какой удивительный «нюх» нужно было иметь «Старичку», чтобы из всех возможных выбрать именно того человека, одно имя которого сплотило воедино и банкира Лафита, и учёного Тьерри, и осторожную, но всё же готовую к действию армию лавочников, банкиров и фабрикантов. Мармон! И уже на окраинах города вооружаются железными ломами, добывают ружья, порох и штыки. Студенты Политехнического идут сплочёнными рядами по улицам Парижа. Смерть подлецу Мармону! Народ заполняет улицы. Старый маршал бежит из Тюильри в Сен-Клу. Только швейцарцы стоят непоколебимо.
Им наплевать на всё. Они частные мастера наёмного убийства. Они тщательно заряжают, не спеша целятся и точно стреляют. Как на ученьях.
Ференц пытается заставить себя сохранить одиночество, вчитаться в удивительные строки гётевского «Фауста». Но за окном, совсем рядом с домом, разрывается снаряд. Вздрагивают окна, на улице кто-то стонет, кто-то зовёт на помощь. Ещё удар. Сыплются на мостовую стекла в доме напротив. Откуда-то издалека, словно шум морского прибоя, катится волна звуков, неясных, но затем всё отчётливее подчиняющихся одному колдовскому ритму, придающему стройность звучания этому львиному реву. У Ференца выпадает из руки книга.
– Да, конечно. Ведь это же «Марсельеза»!
На бегу поцеловав мать, он в несколько прыжков оказывается на улице. Он мчится в Тюильри. Какой-то незнакомый подхватывает его иод руку:
– Вот он и пришёл, наш славный денёк!
Сердце Ференца наполняется несказанной радостью и счастьем. На улицах, куда ни посмотри, – трёхцветные французские национальные флаги. По краям мостовой, с обеих сторон, – дети и женщины. Даже старики попросили снести их вниз, и теперь они сидят у дверей на скамейках, стульчиках, в креслах, а то и просто постелив пустой мешок на землю, и смотрят, глазеют по сторонам.
Хлопают на ветру флаги. Где-то вдали громыхают орудия, и над крышами свистят пули.
За Ференцем следом бежит уже целая вереница людей. Теперь уже толпа влечёт Ференца к городской мэрии. А там – костры на площади, пёс пи.
И вот идут тридцать два барабанщика. За ними – начищенная до блеска пушка, в которую впряжена четвёрка лошадей, дальше ветераны 1812 года при всех регалиях, и, наконец, верхом на коне сам генерал Лафайет. Ему семьдесят три. Но он строен и элегантен. Даже в пыли и пороховом дыму уличных боев он остался щёголем.
Барабаны смолкают. Генерал Лафайет легко спрыгивает с коня, и его торжественно ведут на балкон мэрии. Он произносит речь.
– Я был здесь в 1789-м... И вот пришёл снова... Да здравствует Республика! А если уж король, то пусть будет Луи-Филипп!
– Делегация в Сен-Клу, Карл X согласен на переговоры!
Все кричат:
– Идём на Сен-Клу!
И вдруг Ференца уже не интересуют больше ни Лафайет, ни лавочник, призывающий к походу на Сен-Клу. Он видит на другом балконе мэрии Берлиоза, который дирижирует огромной дубинкой, а толпа внизу запевает во всю мочь:
– К оружию, патриоты!
Гектор Берлиоз – композитор и учитель музыки – обитал в мансарде одного из домов на улице Ришелье; бедность жилища только усугубляла педантичность и любовь к порядку его хозяина. В передней пусто, только чисто подметённый пол и четыре ветхие стены, оклеенные старыми газетами, будто какими-то необычными обоями, призванными удовлетворять потребность хозяина дома не только в красоте, но и в знаниях: ещё бы, ведь в передовицах этих газет сосредоточена история парижской жизни не меньше, чем за последние шесть месяцев. У следующей комнаты вид побогаче: письменный стол у окна с грудой книг и бумаг на нём. В углу железная койка – безрадостное ложе какого-нибудь воина или монаха. Один-единственный стул, несколько гвоздей в стене, на которых развешана одежда, и инструмент учителя музыки – гитара. Гостям приходится располагаться на кровати – стул предназначается хозяину. Сейчас гостей четверо: Массар, Давид, Крейцер-младший и Ференц. Берлиоз – худощавый, бледный, с орлиным профилем – говорит удивительной скороговоркой, но очень чётко и чисто, подобно великим мастерам декламации, ухитряющимся в любом темпе произнести каждый слог, оттенить интонацию и даже знаки препинания. Говорить с Берлиозом невозможно. Его можно только слушать, как великого Тальма, читающего какой-нибудь из блистательных монологов Расина. Берлиоз жалуется Ференцу, что Габенек устраивает большой концерт в консерватории, но не соглашается увеличить оркестр до ста двадцати человек, как того хотелось бы Гектору.
– В Вене я слушал симфонию Бетховена, – скромно замечает Ференц. – Сударь, у него в оркестре было всего сорок музыкантов.
Услышав эти слова, Берлиоз вскочил:
– И вы видели самого Бетховена?
– Да, я видел его. Он прослушал меня во время моего последнего венского концерта. Потом поцеловал в лоб.
Берлиоз упал в кресло и тихо, как ребёнок, заплакал.
– Вот оно, знамение небес! – прошептал он сквозь слёзы. – Я столько ждал, что кто-то возьмёт меня за руку и передаст мне рукопожатие Бетховена. Я ждал этого мига, чтобы начать с того, на чём он остановился. Заставить звучать музыку гения. Ту страшную музыку, что свищет в снастях парусов. И немец посылает её мне, французу, через венгерского юношу!
Разумеется, в квартире Берлиоза не было рояля, и потому вся компания тут же решила отправиться к Эрарам.
Их приходу были рады. Скорее в музыкальный салон! Партитура уже лежала на пюпитре, как вдруг Берлиоз смущённо признался, что он не играет на фортепиано. К роялю поспешил Ференц. Он перелистал партитуру, буквально впитывая её своим удивительным взглядом, потом вернулся к первой странице и начал играть.
Берлиоз сидел в самом дальнем углу салона, согнувшись в три погибели. Его тощее тело бил нервный припадок: ведь он сейчас впервые слышал своё творение!
Эрары и их музыкальные друзья стояли, словно окаменев уже после первых же аккордов удивительной музыки. Удивительная музыка – и удивительный пианист. Произошло слияние воедино таланта творца и вдохновения импровизатора.
После заключительных аккордов – тишина. Берлиоз подошёл к Ференцу, подавленный, измученный, с чёрными подглазьями, глубоко склонился в поклоне и как-то с трудом выдавил из себя одно только слово:
– Спасибо.
Ференц выпросил единственную существовавшую копию партитуры и провёл день и ночь наедине с «Фантастической симфонией». Встреча с шедевром всегда величайшее наслаждение. Но и великое испытание. Ведь в этой партитуре нашло воплощение буквально всё, что Ференц со всей юной отвагой собирался осуществить сам: соединить прекрасное с уродливым, чтобы новая музыка проложила себе дорогу в будущее. Это великое испытание. Не завидуешь ли ты своему старшему собрату по искусству, идущему впереди тебя и уже успевшему осуществить то, о чём ты ещё только мечтаешь? Ференц выдержал это испытание: ему незнакома зависть, есть только увлечённость. И уважение к исполняемому им произведению.
Ещё не развеялся порох июльских сражений, а Лист уже засел за посвящённую им «Революционную симфонию»[25]25
Замысел «Революционном симфонии», возникший под самым непосредственным воздействием событий Июльской революции, был первой попыткой Листа создать крупное симфоническое полотно, притом на основе принципов программности. В качестве ведущих музыкальных тем были выбраны гуситская песня, немецкий протестантский хорал и «Марсельеза». Симфония осталась лишь в набросках, которые отчасти были использованы в ряде других сочинений композитора. В период революции, в 1848 году Лист снова вернулся к симфонии, составив более чёткий план и предусмотрев значение венгерского колорита в музыке. Из предполагаемой первой части симфонии затем возникла симфоническая поэма «Плач о героях» ( Heroide funebre»), но вся симфония так и не была написала. Охлаждение композитора к этому замыслу в 1830 году обычно объясняют двумя причинами: разочарованием в результатах Июльской революции и неуверенностью в своих возможностях как композитора-симфониста (ведь Листу было всего 19 лет!).
[Закрыть]. Но очень скоро выясняется, что ничего и не изменилось. Только вместо Карла X король Луи-Филипп, а вместо Полиньяка у руля государства оказался банкир Лафитт. Нищеты же стало ещё больше. Окраины Парижа снова бурлят.
Гектор уехал в Рим, и теперь его ужасно недостаёт Ференцу. Ни один из друзей Ференца, оказывается, не может заменить ему Берлиоза. Единственное утешение Листа – Давид. Он вводит его в совершенно новый мир. В двухэтажном домике на рю Таран, где собираются сенсимонисты. Пять лет прошло, как умер Сен-Симон. Пророк нового Мессии, отец Анфантон, высокий и красивый, будто ожившая статуя греческого бога, волновал удивительными проповедями воображение своей молодой паствы:
– Наступит время, когда не будет никакого наследования. Люди будут владеть лишь тем, что они сами создали. Наступит время, когда человечество поймёт, что божественная религия не имеет никакой внешней стороны, никаких заповедей и ритуалов, что её единственная правда – это установить мир среди людей!
Сенсимонисты уже сняли целый дворец на Тебо, купили газету «Глоб».
Листу по душе, что вожди нового вероучения уже вырабатывают планы государственного устройства будущего общества. Правая рука отца Анфантена, Базар, рассказывает, что парламент этого нового государства будет состоять из трёх палат: палаты инженеров в двести человек, палаты из пятидесяти поэтов и писателей и третьей палаты, в которую войдут двадцать пять художников, пятнадцать скульпторов и архитекторов и десять музыкантов. Лист в восторге от проекта, но у него сотни возражений, он хотел бы поспорить с его авторами. Однако здесь не признают дискуссий, здесь провозглашают только откровения божества.
Вот ещё одно господнее откровение: полная эмансипация женщины, но наименьшая ячейка – человеческая пара. Мужчина и женщина. Единые душой и телом. Однако вскоре и среди вождей сенсимонизма начинается борьба за власть. Базар пытается собрать вокруг себя сторонников крайностей. Родригес, ссылаясь на то, что он был другом Сен-Симона, требует себе главенства. Только Анфантен не участвует в этой борьбе.
Как-то во время проповеди, а вернее – уходя после неё, Ференц познакомился с ещё одним неофитом (новообращённым). Ритуал новой религии требовал, чтобы верующие расходились после проповеди стройно, почти военными шеренгами. Ференц уже привык к этому. Зато новичок ехидно заметил:
– Я думал, что такое только в Пруссии можно увидеть: у людей вырежут мозги, затем выдернут нервы, а вместо них; вставят проволочку – так ведь проще заставить народ плясать под свою дудку!
– Вы преувеличиваете, – не соглашается с незнакомцем Ференц. – Это французы! И нервы, а тем более кровообращение у них во всяком случае в порядке. Но вы, вероятно, не француз, если сравниваете парижан с пруссаками. – Лист вежливо умолчал о том, что у собеседника иностранный акцент.
Собеседник Листа вежливо приподнял цилиндр и представился:
– Генрих Гейне.
Ну вот, теперь есть с кем и поспорить! По крайней мере, так думает Ференц в первые дни знакомства. На самом деле и тот и другой не дискутируют, а произносят монологи, каждый высказывает своё мнение, отнюдь не обязательное для другого. Лист верит в сенсимонизм с убеждённостью неофита. Гейне уже знаком с философией Канта, Гегеля и Фихте и не так легковерен.
– Болтовня о женской эмансипации, – говорит он, – об отмене наследования и привилегий до тех пор останется пустой болтовнёй, пока у отца Анфантена не появятся силы для того, чтобы заставить легковерных поверить в неё, а властей – признать её.
Гейне и его «стол» в кафе «Эльдер» – маленькая немецкая колония в Париже. О Гейне многие говорят как о человеке, сердце которого покрыто ледяным панцирем. Но и покрытое льдом, как Северный полюс, оно притягивает к себе многих. И Ференц, хотя и не в силах полюбить Гейне, сразу же стал уважать его. Немецкий поэт умён, знает людей и политику. О сенсимонистах говорит, что с этим их «святилищем» однажды случится беда.








