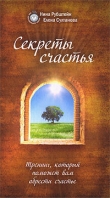Текст книги "Близнецы. Часть первая"
Автор книги: Дарья Чернышова
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Пролог 3. Они не вызывали бедствий
Лесная прогалина упирается в бледную даль горизонта. Путник шагает широко, неспешно, тревожит дикий, спящий поздний снег. «Хорош я, наверное», – думается в такую погоду, когда представляешь, как выглядишь со стороны. Меховой капюшон натянут до самых бровей. В горбатой котомке за спиной раздражающе позвякивают дорожные принадлежности. На усах под самым носом висят две ледяных блямбы, которые путник успел надышать за пеший переход.
«Ну, почти пришел», – утешается он. И немного скучает по своей лошади. Впрочем, лучше остаться без лошади, чем без кадыка – или что там еще, согласно местным поверьям, может вырвать грозный хранитель леса, если при встрече его чем-нибудь не задобрить. Путник даже не разглядел хозяина дремучего бора как следует – ему лишь дали понять зычным рыком из тени, что он выйдет отсюда пешком или не выйдет вовсе. Совершенно неясно только, на кой хранителю леса лошадь. «А не грабанули ли меня часом?» – порой задумывается путник, но решительно гонит эту мысль прочь. Гораздо приятней считать, что просто услужил местному господину. Может, в конце концов, он эту несчастную кобылу съест.
Здесь владения хранителя заканчиваются. Лес обрывается впереди ровной линией, как будто кто-то сбрил его острым лезвием. Там – уже не Хаггеда, но еще не Берстонь, ничейная полоса. Параллельно прогалине, по которой шагает путник, ползет торговый тракт. Его пока не видать за хвойным частоколом, но скоро две дорожки пересекутся, и могут случиться попутчики. Час еще ранний, едва светает, ближайший удобный ночлег далеко, но кто же знает этих торгашей.
Хорошо бы тракт оказался пустым, чтобы никто не испортил последних мгновений одиночества. Сейчас путник желает этого больше всего на свете.
Он стягивает плотную рукавицу и юрко сует ладонь за пазуху. На воздухе маленькая круглая баночка начнет жечь кожу металлическим холодом, если чуть-чуть промедлить. Путник поддевает крышку, облизывает палец и берет немного плотно сбитого порошка, чтобы втереть эту гадость в десну и потом еще полдня ощущать горечь на языке. Влажный палец неприятно морозит, но надо потерпеть – и спрятать баночку, пока впереди не показалась застава.
Тракт впивается сбоку в тропинку, пожирает ее без жалости и тихонечко переваривает: не жужжат полозья, не слышно конского храпа и людских разговоров. Путник вздыхает с облегчением. Застава сонно приподнимает веко, посматривая на него одноглазой деревянной башенкой.
– Стой! – грозно выкрикивает внезапно оттаявший дозорный. – Кто идет?
– Усталый путник возвращается домой, – откликается он, снимая капюшон. – С гостинцами для Дорека Гроцки.
Дозорный сперва теряется, услышав имя товарища от подозрительного незнакомца, но сообщает об этом вниз, и вскоре его сомнения развеиваются оказанным путнику теплым приемом.
Из бревенчатого флигеля, сиротливо примостившегося к башне, выбегает без шапки невысокий светловолосый мужчина. Дорек почти не похож на себя прежнего – отважное и решительное избавление от пагубных привычек, которые свели в могилу больше его родичей, чем война или старость, пошло наружности на пользу. Можно лишь гадать, поскучнел ли он при этом внутри – по крайней мере, объятия все такие же крепкие, хоть теперь и гораздо менее пахучие.
– Фирюль! Как ты узнал, что я здесь служу?
– Сердцем почуял, – улыбается путник.
Дорек прячет глаза – смущен. Это хорошо. Фирюлю хотелось бы здесь побыстрее закончить и отправиться дальше. Хватит с него уже Хаггеды, томно дышащей в затылок восточным ветром.
Еще один служивый, вышедший из небольшой хозяйственной постройки, удивленно таращит на гостя глаза. Словно радушный хозяин, Дорек широким жестом приглашает пройти внутрь флигеля. Наконец-то. В такой мороз недолго и околеть. Старая угловатая мебель неприветливо щиплет неровностями изможденное тело. Котомка, расползшаяся на полу у скамьи, как толстый батрак, призывно демонстрирует часть съестного содержимого. Дорек предлагает гостю браги, Фирюль вежливо отказывается и отмечает, как у трезвенника вздрагивают уголки губ.
Перекусив, мужчины сидят друг напротив друга, потягивают вместо выпивки медовую воду и разговаривают, иногда отвлекаясь на чей-нибудь окрик или просто шум за стеной. Дорек вертит в руках шмат пряного кабаньего сала, обещанный гостинец, и кивает, пока Фирюль не краснея врет о местах и целях своих путешествий: когда друзья не видятся по несколько лет, любой при встрече станет ожидать целой вереницы разнообразных баек. Рассказ так хорош, что просится обрасти красочными подробностями прямо на ходу, но гораздо безопаснее придерживаться уже изведанной тропы.
Послушав о том, как Фирюль однажды нанялся в помощники к скорняку, который в действительности был звездочетом – хоть в той истории на самом деле не обошлось без одной содранной шкуры, – Дорек Гроцка улыбается и спрашивает:
– А что твой господин? Ну, тот, которому ты служил, когда мы виделись в прошлый раз.
«У него все прекрасно, – думает Фирюль. – На монетах, которыми тебе платят жалование, отчеканен его гордый профиль».
Вместо ответа он мотает головой и пожимает плечами, мол, был господин да сплыл. Дорек, кажется, удовлетворен – весь из себя учтивый, но в общем-то нелюбопытный малый, имеющий обыкновение задавать вопросы ради вопросов, просто чтобы поддержать разговор. Где он ночует? В этом же флигеле, на верхнем этаже? Вот бы там оказалось теплее, чем тут. В конце концов Фирюль решает, что пора перехватывать инициативу.
– У тебя-то какие новости?
– Да никаких, все заботы. Госпожа Ясинта должна скоро тут проехать – ну, посол из Хаггеды. Я ее краем глаза видел, когда она ехала к себе на родину. До ужаса красивая женщина.
Фирюль коротко усмехается:
– Не люблю блондинок.
И по легкому изумлению в голубых глазах Дорека понимает, что ляпнул лишнего.
Он не успевает принять решение. Дверь распахивается, впуская в комнату холод, дым и запыхавшегося дозорного.
– Горим! Атака!
Дорек вскакивает с места.
– Где?
– Везде!
Решение принимает себя само. Ремни котомки больно врезаются в плечи. Фирюль выглядывает наружу, когда Дорек с товарищем скрываются в серой мгле, и выхватывает припрятанный в рукаве стилет. Крепкая брань и отрывистые приказы носятся повсюду зыбкими волнами. Топот, стук и надсадный скрип свежего снега лезут в уши, как мех капюшона. Все кругом в дыму и противной взвеси, ни зги не видать. Фирюль, сдерживая приступ кашля, идет наугад.
Он делает несколько осторожных шагов вперед, потом ступает смелее, задевает носком ботинка оброненное кем-то огниво. Только теперь ощущается жар от объятой пламенем башни. Недовольная бедственным положением, она трещит и ухает, плюясь раскаленными углями вниз, прямо на головы своих защитников. Загорается крыша злополучного флигеля, а в стену его впиваются сразу две подожженных стрелы. Из тумана доносится истошный вопль. Фирюля однажды пороли, и он так же орал. Этот вопль не повторяется – крикуну досталось не плетью, а палицей.
Или, может быть, острием копья.
Оно смотрит прямо Фирюлю в грудь, иглой прокалывая белесую завесу насквозь. Он все еще различает мужские голоса позади себя и по сторонам, но отрезает их, как зачерствелую корку хлеба, и выбрасывает из головы. Ему нужны другие – те, что звучат под ребрами, а не в ушах. Нужен один – тот самый, который теперь молчит, а обладатель его мчится навстречу, грубо понукаемый пятками в бока.
Фирюль вскидывает руку, словно надеясь остановить ею удар копья. На деле он тянется, чтобы схватить поводья, как только всадник выпадет из седла.
Одновременно две пары легких, больших и маленьких, вдыхают морозный воздух, и Фирюль чувствует – перед ним сильный зверь, с таким будет весьма сподручно в пути. Конь резко замедляет бег и с громким ржанием встает на дыбы, взбивая клубы дыма передними копытами. Нога всадника застревает в стремени, а рука, первой коснувшаяся земли, изгибается под мерзким углом.
– Сука! – на чистом берстонском восклицает копейщик.
– Бахшед, – по-хаггедски ругается Фирюль.
Конь пятится и недовольно храпит, вторя обоим хозяевам. Старый, постанывая от боли, дергает коленом в попытке освободить ногу. Новый вынужден ему в этом помочь, перерезав стременной ремень.
Сверху, из седла, скрюченный копейщик кажется совсем мальчишкой. Отлично экипированным, сытым, здоровым берстонским мальчишкой. По какой-то причине, только теперь замечает Фирюль, размалеванным под боевого хаггедского колдуна.
Жеребец, породистый вороной с тяжелой, но уверенной поступью, беспокойно раздувает ноздри – ему это все тоже не нравится. Фирюль дает коню волю скакать на запад и на ходу обдумывает пару мыслишек, пока копейщик молча провожает его, хлопая жирно подведенными охрой глазами.
Мысль первая: такую раскраску носят только сампаты, а сампаты живут далековато отсюда и не очень дружат с огнем. Вторая: колдун, тем более хаггедец, тем более из сампатов, которые без ума от своих знаменитых боевых колесниц, никогда не позволил бы Фирюлю подчинить верного коня без борьбы.
Отсюда просятся какие-то выводы, но их приходится отложить на потом. Справа, совсем рядом, гул ревущего пламени разрывает протяжный свист, потом короткий вскрик, едва ли не визг, и топот копыт – это за Фирюлем. «Ах так!» – почти всерьез обижается он, сплевывает вязкую слюну на землю и отвечает точно таким же свистом.
Мгновение замешательства преследователей и резкий порыв ветра, ненадолго приоткрывший дымовую завесу, позволяют разглядеть на кровавом снегу бездыханное тело Дорека Гроцки. «Что ж, – проносится в мыслях, – ладно». Фирюль на него не особенно и рассчитывал – просто было удобно заглянуть по дороге. Вот сала жаль. Очень вкусное и не из дешевых. Такое делают только в Хаггеде, а в Хаггеду он уже не вернется.
Над мертвым Дореком стоит раненный в ногу человек, в руках у него – окровавленный кавалерийский палаш, лицо словно измазано ржавчиной. Его конь поблизости, они с вороным – старые друзья. «Ну, пора прощаться», – думает Фирюль и поправляет лямку на плече. Человек, словно не обращая на него никакого внимания, отворачивается и машет рукой кому-то, скрытому в сизой дымке.
Снова свист – лихой, разбойницкий. И снова – это пролетает рядом, едва не задев меховую оборку, стрела. «Заметил-таки», – хмурится Фирюль и натягивает капюшон. Гудит падающая башня. Вороной берет стремительный галоп. Там, внизу, под слоем белого снега – наконец-то родная земля. Сладость долгожданной встречи слегка отравляет противный привкус порошка. И погоня.
Ветер меняет направление, дым рассеивается, дает насладиться прекрасным видом зимнего ничего. В этой пустоте, местами пузырящейся холмами, сугробами и, может быть, курганами, резко выделяется ближайшая возвышенность. Там угадываются очертания всадника. Фирюль прищуривается. Белый конь нетерпеливо топчется на снегу, блестит металл закрытого шлема, латного доспеха и круглой шипастой булавы.
Фирюль присвистывает от удивления. Война с Хаггедой давно закончилась и похоронила своих героев, но вот же он, Марко Ройда, могучий Крушитель Черепов.
Многие берстонские дети слышали о нем истории: мальчишек они учили отваге, девчонок тоже, наверное, чему-то учили – на самом деле Фирюль никогда не понимал, зачем это все девчонкам. После армейских баек, рассказанных каким-нибудь увечным батраком, ему каждый раз приходилось утирать сопли перепуганной младшей сестре.
Белый всадник направляется к Фирюлю – на выручку? Конский топот за спиной как будто редеет. Вороной под седлом, наоборот, ускоряется, страх вязнет на языке. Ураганом проносится рядом латник с поднятой – не против него – булавой, взметается стриженная серебристая грива его жеребца. Фирюль пригибается и оборачивается ему вслед, но коварный дым уже скрадывает источник поднимающегося крика.
Погони нет. Впереди – длинная прямая дорога, и уже видно первый путевой столб. Был ли всадник? Поверили бы мальчишки, с которыми Фирюль когда-то играл в войну, что его вроде как спас сегодня Крушитель Черепов?
Он усмехается в усы и решает подумать об этом позже. Например, когда наконец отогреется в душном уюте городских стен. Фирюль оставляет вороного в покое и погружается в полусон. В ближайшие несколько дней, знает он, на этой дороге с ним ничего особенного не произойдет.
Вокруг Столицы, которая с недавних пор больше не столица, теперь почти ничего особенного не происходит.
Вообще-то этот город зовется Гарнаталзбетой, как и нависающая над ним гора, но кроме заучек из академий никто никогда его так не зовет. Наверное, такой же заучка давным-давно придумал дать длиннющее сказочное имя колючей вершине и поселению, что съежилось в ее тени. Изнутри старая столица кажется бесконечным лабиринтом улиц и переулков, и только отъехав подальше от белых зубастых стен понимаешь, насколько мелочна людская возня в сравнении с грозной мощью горы. Фирюля, впрочем, всегда интересовали разные мелочи.
У городских ворот грустный караульный требует представиться и объяснить, что у приезжего тут за дело, но, кажется, не слушает заготовленный ответ. Хочется предложить парню выпить, настолько несчастный у бедолаги вид. Даже вороной согласен, что нельзя заставлять человека дежурить, когда тот в такой хандре – жеребец бодает караульного в плечо и ворчит, как будто выражая сочувствие.
– Добрый конь, – улыбается парень, а у самого в глазах блестят слезы.
Фирюля прямо-таки снедает любопытство.
– Что стряслось у тебя, служивый?
Лицо караульного перекашивает.
– Хаггедцы, – плюется он словом, словно проклятием. – Друга моего зарезали на заставе.
«О как, – удивляется Фирюль. – Быстро разлетелось». Он сообщает караульному, что пробудет в городе недолго, и вслух соболезнует его утрате. Парень кивает и делает жест, мол, езжай – если Фирюль задержится у ворот еще на мгновение, тот бросится ему на шею и разрыдается.
Топтать подковами мостовые строжайше запрещено – будь добр, дорогой гость, сдать лошадь в конюшню, а потом гуляй где только захочешь. Фирюль следует указателю, прибитому к арке, в незапамятные времена обозначавшей въезд в Столицу, и оставляет вороного на попечение скучающего распорядителя.
Город просыпается с неохотой, словно накануне был шумный веселый праздник, но праздников – настоящих, с ярмаркой, скоморохами и серебром рекой – здесь не видали уже давно. Торчком стоят в отдалении башни оставленного владыкой замка. Обескровленные улицы зевают окнами пустых домов. Фирюль идет напрямик через рыночную площадь к двухэтажному зданию с балконом и вяло болтающейся выцветшей вывеской, на которой угадываются очертания непристойного рисунка.
За гостем увязывается одноухий кот непонятного окраса, только что угостившийся обрезками у мясницкой лавки. Фирюль открывает дверь и пропускает нового знакомца вперед себя. В нос ударяет запах паленой травы. Коту это не по нраву и Фирюлю тоже, но так уж принято в дорогих борделях – делать вид, будто жженый сухостой перебивает месиво других специфических ароматов.
Внутри заведения удивительно людно, под потолком звенит хохот и батрацкая брань. Кто-то разместил тут своих людей? Об этом Фирюля не предупреждали. Хотя, судя по бегающим взглядам, любопытным и жадным, ватага здесь недавно и еще не успела насытиться всеми предлагаемыми удовольствиями. Кот, лавируя между ногами в грязных тяжелых ботинках, убегает по кошачьим делам. Фирюль с порога чувствует, что день обещает быть прекрасным. Его встречает собственной персоной легендарная шлюха по прозвищу Бойница.
Он почти не удивлен – ему известны городские сплетни. Дела у Бойницы идут все хуже с тех пор, как пропал ее зазывала, который при помощи рифмы и зычного голоса приводил ей клиентов толпами. Сделанное имя какое-то время еще работало само на себя, но каждый год в борделях появляются новые красотки, а она отнюдь не молодеет.
Угасшая звезда столичного небосвода ласково улыбается гостю и стонет: «О!» – оттопыривая пальчик, как будто силится вспомнить его имя. Он и рад бы подыграть ей, только напрочь забыл, кем представлялся в этом заведении.
– Дудник, – пробует Фирюль, и шлюхина улыбка становится шире, обнажая отсутствие пары верхних зубов.
– Конечно! Как такого не помнить! Чего хочет господин этим чудесным утром?
Может, он и не угадал с «Дудником», но ей, в отличие от него, наплевать.
– Хочу тебя, – отвечает Фирюль, протягивая шлюхе серебряную монетку с лицом Отто Тильбе, – и еще кого-нибудь за компанию.
Бойница отточенным движением прячет деньги в складках юбки, в потайном кармашке. Потом она оценивает посетителя беглым взглядом и неразборчиво выкрикивает в душное пространство заведения односложное имя. Фирюль оглядывается и чувствует, как сладость предвкушения вмиг сменяется горечью досады. Мальчишка, который подплывает ближе особой походкой, тянущей на пару монет дороже среднего ценника, на деле оказывается очень плоской и очень – слишком – юной девчонкой.
– Зараза, – бормочет Фирюль и осторожно хлопает Бойницу по плечу. – Знаешь, мне хватит тебя одной.
Девчонка обиженно поджимает губы и разворачивается на пятках, отклячив зад. В каждом ее ухе блестит по массивной серьге. Родителям сейчас таскать бы ее за эти уши, но Фирюль понимает прекрасно, что родителей у девчонки нет.
Или есть, но такие, которых лучше бы не было.
После полудня он, хмельной и уставший – Бойница, растеряв зубы, не растеряла профессиональные навыки, – внимательно слушает болтовню посетителей. Из обрывков фраз Фирюль понимает, что оказался в компании стражников, отпущенных в увольнение: эти люди вчера вернулись из поместья Верле, куда сопровождали жену ректора здешней академии, госпожу Ильзу, с ее малолетними детьми. «Надежный, однако, эскорт у госпожи Ильзы, – отмечает Фирюль, делая глоток пенистого эля. – Хватит на трех госпожей победнее».
Ей с мужем, Рубеном Корсахом, младшим из трех племянников лучезарной госпожи Лукии, жутко повезло, что на последних выборах победил именно Отто, у которого пока хватает изобретательности и упорства, чтобы вертеть этой страной и ее законами, как ему угодно. Без вмешательства владыки история их любви, положенная в основу модной нынче баллады, могла ничем хорошим не закончиться.
В Вольдемаровой книге, единственном источнике берстонского правосудия, созданном в незапамятные времена и с тех пор практически не меняющимся, сказано, что младший брат не должен жениться прежде старшего. Госпожа Лукия устроила брак первого из своих племянников, но ничего не могла поделать со средним, Кашпаром, который родился всего на год раньше Рубена – после одной неудачной помолвки тот наотрез отказывался от новых.
Фирюль почти наверняка знает, почему. Когда-то он тоже, как сейчас Кашпар Корсах, был всегда при господине Тильбе, разделял с ним интересы, замыслы и постель. У матери Отто, госпожи Нишки, сводило от этого челюсти – она-то растила благовоспитанного юношу, верного своему почетному долгу. В сущности, у нее все получилось. Владыка Тильбе, муж и отец – образец благовоспитанности, который теперь издает указы, переворачивающие порядки с ног на голову, и голыми руками перетаскивает целые города. В этом он видит свой почетный долг – столкнуть Берстонь наконец с насиженного места, где ей на голову сыпятся градины неудач. Если для этого нужно отдельным указом осчастливить Рубена Корсаха, позволив жениться вперед старшего брата, или поцеловать руку хаггедской посланнице, владыка Отто готов всех осчастливить и поцеловать. «А ты ведь, господин Тильбе, стал таким благодаря мне», – мысленно обращается к нему Фирюль. Впрочем, надеется он, еще представится возможность сказать это вслух.
Фирюль замечает, что некоторые отдыхающие то и дело посматривают или кивают наверх, где за уставленным яствами столом в форме кривого овала сидят трое мужчин в шагреневых сапогах. Один из них время от времени бросает взгляды вниз, через перила – это командир. Двое других, более щуплые и бледнолицые, старательно делают вид, что захмелели, когда рядом оказывается девка или кто-то из случайных посетителей – это соглядатаи, явно еще новички.
По крутой деревянной лестнице легко забирается на второй этаж одноухий кот. Потершись о высокое голенище командирского сапога, усаживается под столом и принимается вылизывать потрепанный хвост. Как назло, едва разговор подходит к самому интересному, в единственное ухо впивается поганая блоха.
– Носятся теперь с этой заставой… – говорит бледный, пока кот чешется едва не до крови. – Выжило полторы бедолаги… Может, владыка правильно сделал, что увез казну подальше от границы.
Кот наконец-то избавляется от мелкой паразитки. Фирюль глотает эль и недовольно рычит в усы. Из-за таких вещей – и привкуса дохлой крысятины – он не очень-то любит пользоваться «услугами» бродячих котов, но пока другого варианта нет.
– Господин говорит, напали не хаггедцы, – бурчит под нос командир. – Это вроде были наемники, и вот сейчас выясняют, чьи.
– Что значит «чьи»? – умничает щуплый, забыв, как только что прикидывался перед шлюхой, будто не может связать двух слов. – Господ Фреток, вестимо.
Фирюль усмехается своим мыслям: «Очень, кстати, может быть».
Он уже в курсе, что Ортрун Фретка, самая богатая невеста Берстони, будто бы ни с того ни с сего отвергнутая Корсахами, теперь без всяких брачных клятв живет со старым гетманом Збинеком Гоздавой и зачем-то рожает ему детей. Фирюль хорошо знает, кто такой Збинек Гоздава, да и тот, верно, вспомнит его, если увидит – правда, назовет не Фирюлем, а Соловьем. Под этим именем он недолгое время служил в одной из хоругвей гетмана, этим именем называли его те, кто полег на пепелище у Старой Ольхи. Он, Фирюль-Соловей, сделал единственный выстрел, положивший начало тому сражению.
Много воды утекло с тех пор, теперь у гетмана Збинека Гоздавы новый отряд и новая хозяйка. Ортрун Фретка хочет двух вещей: войны и власти. Или, скорее, чего-нибудь одного, чтобы с его помощью получить второе. Имея такое желание и, что самое главное, возможность его исполнить, Ортрун Фретка занимается ерундой, плодя ублюдков и за глаза называя владыку Рябым из-за следов юношеских прыщей на лице.
Может, кто-нибудь наконец сказал ей, что так дела не делаются. Или Фирюль чего-то не знает. Он, если начистоту, и того что знает рад бы не знать. Он рад бы вообще никогда не встречать Отто Тильбе и совсем иначе прожить эту клятую жизнь.
Одноухий кот задирает лапу и сосредоточенно лижет яйца.
– А всадник этот? – бормочет командир, разглядывая дно опустевшей кружки.
– Что еще за всадник? – отзывается щуплый и делает девке знак принести еще эля.
– Который разогнал нападавших. Спас тех служак.
– А, который якобы дух Крушителя Черепов? Россказни. С перепугу и не такое привидится.
«Конечно, россказни», – думает Фирюль. Духи не размахивают булавами и не седлают коней, оставляющих вполне явные следы копыт на снегу. Они сидят себе тихонько в курганах первые полгода, пока за них не выпьют на памятной трапезе, а потом вылупляются из земли, как цыплята, и улетают прочь с вечерним ветром. Звучит совсем не страшно, если подумать. Хорошо бы все так и было.
Плоская девчонка, которую Фирюль встретил сегодня утром, хватает поднос из рук подруги и походкой от бедра поднимается по лестнице. Под ее весом ступеньки даже не скрипят. Щуплый откидывается на спинку стула, оглядывает девчонку с ног до головы, пинает товарища под столом и задевает носком сапога кошачий хвост.
Фирюль встает, расплачивается и уходит. Провожая гостя, беззубая Бойница улыбается и выражает надежду, что он еще вернется.
Жить ей остается от силы пару недель.
Рынок слегка расшевеливается к середине дня. Фирюль идет обратно к конюшням намного медленнее, чем шел сюда, прислушивается к ворчливому гомону города – уже не столь важного, но все еще самого большого в стране. Торговка заламывает кошмарную цену за корзинку зимних яблок, благо денег у Фирюля с избытком. Подбросив монетку в воздухе, худосочная тетка пробует ее на зуб и только потом, одобрительно кивнув, отдает товар покупателю. На дне корзинки – ошметки грязи и дохлые насекомые. Фирюль перекладывает приличные яблоки в котомку, одно кладет в карман, остальные выбрасывает в канаву и возвращает корзинку торговке. Та только кивает, уже окучивая следующего покупателя. Отто Тильбе хитро подмигивает с ее ладони.
Распорядитель конюшен, успев поближе познакомиться с вороным, расщедривается похвалами в адрес заботливого хозяина и замечательного коня – напрашивается на лишнюю монетку. Фирюлю не жалко. Вороному тоже. Они направляются к воротам, а вслед летят наилучшие пожелания распорядителя.
– Это он тебе, – говорит коню Фирюль.
Он сует руку в карман, нащупывает в ткани дырку – надо зашить – и достает румяное яблоко. На кожуре оказывается налипшая грязь. Фирюль плюет на нее и протирает рукавом. Так-то лучше. Еще оказался бы тот караульный на посту.
В этот раз Фирюлю везет, не то что на заставе. Парень выглядит даже хуже, чем утром, и таращится на протянутое яблоко, как на сияющий рубин.
– Я могу отдать его своему коню, – пожимает плечами Фирюль, прерывая затянувшееся молчание.
Караульный выходит из оцепенения.
– Спасибо, – кивает он. – Спасибо вам.
И, скромно опустив глаза, откусывает сразу половину.
Фирюль прощается и бодрой рысцой покидает бывшую столицу. Он будет посмеиваться над этим случаем до самой Рольны, низкорослого и непримечательного городка, где предстоит встреча с еще одним старым знакомым. А заснеженная вершина гигантской горы, чье имя Фирюль произнес вслух всего пару раз в жизни, будет беззвучно хихикать над ним за спиной.
Все яблоки исчезают в считанные дни. Фирюль почти готов признать, что они стоили своих денег, хотя в дороге любая еда кажется вкуснее. Зима начинает потихонечку выдыхаться – довольно рано, но, может, оно и к лучшему. «А порошка-то осталось всего-ничего», – замечает Фирюль на вторую неделю пути. Вороной фырчит, недовольный лезущей в глаза отросшей челкой. Хозяин обещает на следующем привале его подстричь. И себя бы тоже в порядок привести. В конце концов, Фирюль собирается не в обычный бордель, а в заведение уровнем повыше – в академию изящных искусств.
Ему не довелось там учиться, но было время, когда круг его общения почти целиком состоял из школяров. Пока Отто не начал свои преобразования, в Бронте, теперешней столице, мирно сосуществовали две академии, торговая и художественная, и обе наряжали своих подопечных в очень похожую мрачную форму. Улицы города по вечерам, когда заканчивались занятия, захлестывало черной волной школярских одежд.
Когда Бронт стал столицей, владыка с советниками и управленцами занял помещения академии искусств, а всех артистов, певцов и художников, не обращая внимания на возмущенный ропот, отправили в Рольну – ближайший город, где нашлось для них подходящее здание. «Слишком подходящее», – вспоминая об этом, каждый раз смеется Фирюль. До школяров вытянутый двухэтажный дом с синими занавесками на окнах служил пристанищем сиротам и проституткам.
Родители благородных обучающихся наверняка забросали владыку гневными письмами: «Почему, в конце концов, не тронули торгашей?» Им-то невдомек, что Отто считает возможным и крайне желательным найти энергии молодых господ более достойное применение – сам он, отличный фехтовальщик и заядлый охотник, терпеть не может музыку и танцы.
Из всех искусств владыка Тильбе признает разве что искусство слова. Может быть, поэтому расцвели на берстонской земле поэты. Самый знаменитый из них, скрывающийся под псевдонимом Ясменник, автор слезливых стихов о любви и смерти, написал трогательную балладу о Рубене и Ильзе. В ее последнем куплете строго положительный герой, именуемый Первым-из-Господ, своей рукой и властью соединяет влюбленных. Весь остаток пути Фирюль то и дело принимается насвистывать эту мелодию, но никак не может вспомнить целиком слова.
Рольна, хоть и меньше старой столицы в несколько раз, оказывается гораздо шумнее. Останься в котомке хоть одно яблоко, и тому негде было бы упасть. На каждом углу кто-нибудь пытается торговать или втягивает встречного в обсуждение последних новостей: посланница Ясинта вернулась в Бронт.
Все болтают о том, что заставу сожгли не хаггедцы, но и Фреток не упоминают. Говорят, это сделали разбойники, которые собирались только захватить ее, чтобы потом ограбить кортеж посланницы, но увлеклись и разнесли там все в пух и прах. «Разбойники, конечно, – качает головой Фирюль, поглаживая гриву вороного, – на таких-то конях да при такой амуниции». Одного нападавшего будто бы даже поймали и допросили, а теперь разыскивают остальных. Не позавидуешь тому бедолаге – когда за душой целая прорва противозаконных приключений, обидно огребать за то, чего ты не делал.
Возле знаменитого рольненского приюта тоже, как обычно, полно народу – только теперь это не «сиротки» с «маменьками» или их поклонники, а те, кто кормится от обосновавшейся здесь академии. Вороной топчется у коновязи, беспокойно храпит, но Фирюль дает слово, что они тут ненадолго. Беспрепятственно пройдя в здание мимо спящего на посту сторожа, он думает: «А ведь бордель охранялся лучше, чем это достойное заведение».
На заднем дворе целая группа юнцов без шапок морозит уши и тянет ноты, наконец напомнив Фирюлю строчки:
– Не стану я госпожой твоей, не позволит того закон…
– …тогда ляжем с тобой, цвет души моей, в землю прежде постели, о!
Кто-то, сидя на скамейке, подыгрывает поющим на инструментах, а единственные двое, одетые не в школярскую форму, лишь иногда делают замечания или плавные жесты. Одного из них, низкорослого, почти карлика, Фирюль видит впервые, а другого знает давно и близко – это мастер Теган по прозвищу Перебей Ребро.
Согласно красивой версии происхождения его необычного имени, каждый, кто попытается перепеть знаменитого барда, рискует сломать себе ребра, стараясь набрать так же много воздуха в грудь. На деле по этим самым ребрам незадачливому конкуренту обязательно треснут в ближайшей подворотне, да обставят так, что потом ничего не докажешь. Как поговаривали в свое время школяры торговой академии, бывшие соседи художников и музыкантов, ранимее артиста бывает только артист талантливый, а уж если рану разбередил – беги.
Стройный хор юнцов берет высокую ноту, а Фирюль скромно машет рукой только что заметившему его Тегану.
– Хуби, подхвати-ка, – поднимаясь с места, говорит Перебей Ребро более молодому мастеру, подходит ближе и, широко раскинув руки, обнимает давнего знакомого. – Сто лет не видел тебя, Щебетарь!
– Вот, выбрался навестить. Вы тут как? Выстукиваете ритм зубами?
– Да им полезно, – понизив тон, кивает он в сторону школяров. – Они мне на прошлой ярмарке закатили истерику, мол, холодно осенью на улице выступать. Теперь загодя приучаю.