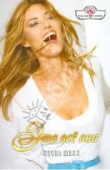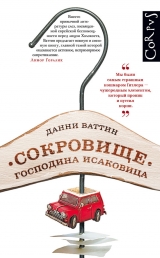
Текст книги "Сокровище господина Исаковица"
Автор книги: Данни Ваттин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
3. Трое мужчин в одной машине
– Через пятьсот метров поверните налево. Механический голос из телефона на переднем сиденье понемногу начинает меня раздражать. А ведь мы успели проехать еще не более пары километров.
– Правда, здорово? – с энтузиазмом говорит отец. – Он подстраивается по мере того, как мы едем, и всегда находит самый быстрый путь. Если, на пример, где‑то пробка, он перестраивается на другой маршрут.
Я бросаю взгляд на дисплей телефона. Там видно дорогу, где мы находимся, и ту, куда нам надо свернуть, и больше ничего.
– Нельзя ли его перенастроить, чтобы мы видели, где находимся по отношению к месту назначения? – интересуюсь я. – А то сейчас мы не имеем об этом никакого представления.
Отец качает головой и обращается к внуку, который сидит рядом с ним на переднем сиденье, поскольку его легко укачивает.
– Твой папаша не разбирается в таких замечательных штуках, – говорит он. – Он типичный ретроград. У вас дома ведь нет даже телевизора.
– У нас есть компьютер, – протестую я с заднего сиденья. – Телепередачи можно смотреть по нему. Я хочу знать, куда мы направляемся, а не просто тупо следовать стрелочкам на экране.
– Мы едем в Карлскруну, – сообщает отец. – Паром идет оттуда.
– Это мне известно. Но туда мы прекрасно можем добраться и без говорящего телефона. Достаточно просто выехать на Е-4, свернуть в нужном месте, и дорога приведет нас прямо к цели.
– Вот именно, – говорит отец, – надо свернуть в нужном месте. Поэтому‑то у нас и включена эта программа, а кроме того, с ней веселее. Правда, Лео?
Сын бормочет в ответ что‑то неразборчивое. Он настолько усталый, что почти спит, и уж точно не имеет никакого желания вмешиваться в наш спор.
– Что с ним такое? – спрашивает отец.
– Он устал, – отвечаю я.
– Через сто метров поверните налево, – возвещает механический голос.
– Давай хотя бы отключим звук, – предлагаю я. Отец качает головой, демонстративно глубоко вздыхая.
– Хорошо, что ты художник, – говорит он мне. – Поэтому люди считают тебя прогрессивным, а не ретроградом.
Машина достигает перекрестка, и отец сворачивает налево, на Е-4. Погода стоит прекрасная, и я, несмотря на перебранку, рад, что мы здесь. Насколько мне известно, мы с отцом впервые предпринимаем нечто подобное. Возвращаться вместе – трое мужчин в одной машине – к нашим истокам, в попытке вернуть то, что принадлежит нам по праву, очень здорово. День для начала поездки просто замечательный. Все тихо и спокойно, приятный ритм нарушает только металлический голос, то и дело сообщающий, как нам ехать. Но в такой день можно и потерпеть.
Мы на хорошей скорости минуем Соллентуну и Ульриксдаль и подъезжаем к Сольне[3]3
Пригородные районы Стокгольма.
[Закрыть], где, когда я был маленьким, жили родители отца. Мне всегда нравилось ездить к ним в гости, в квартиру на улице Росундавэген, есть приготовленные бабушкой Соней оладушки с изюмом и общаться с дедушкой Эрвином. В то время мы много всего делали вместе. Ходили на озеро Росташён кормить птиц или слушали пластинки с операми. Дедушка обычно подпевал. У него был хороший голос, низкий и сильный, и когда он пел, взгляд у него всегда становился слегка мечтательным и отсутствующим. Будто он на самом деле пребывал где‑то в другом месте. Однако кульминация наших визитов наступала, когда мы с дедушкой спускались на лифте в имевшуюся в доме комнату для пинг–понга, чтобы сыграть партию. Ходили мы туда почти во всякий мой приезд, с тех пор как мне было совсем немного лет, до того как я стал подростком. Дедушка играл довольно хорошо, и поначалу я в основном проигрывал, но с годами положение стало все больше выравниваться. В этой комнате мы с ним проводили напряженные матчи, но ни один из них не сравнится с последним. Его я не забуду, даже если доживу до ста лет.
Помимо пинг–понга, я очень ценил атмосферу в доме родителей отца. У них всегда бывало так спокойно, никто не зудел, не ругался, и никого понапрасну не оскорбляли. Напротив, говорили там вообще не слишком много, как хорошего, так и плохого. Впрочем, я об этом особенно не задумывался. Я ведь все‑таки был ребенком и воспринимал мир и присутствовавших в нем людей как нечто само собой разумеющееся. Кроме того, меня занимали более интересные вещи, скажем, пытаться поднять дедушкины гантели или подсматривать за ним, когда он совершал особый и несколько своеобразный ритуал, укладываясь вздремнуть.
– Знаешь, – говорю я Лео, когда мы проезжаем Сольну, – мой дедушка Эрвин обычно спал после обеда с трусами на голове.
– Не с теми, которые носил, – вмешивается отец. – На голове у него всегда бывали чистые трусы.
– Почему? – спрашивает сын.
– Никому ведь не захочется надевать на голову грязные трусы. Во всяком случае, в моей семье, но с твоим папашей, возможно, дело обстоит иначе, – отвечает отец, выразительно глядя на меня. – Его трусы могут угодить куда угодно.
– Зачем он надевал трусы на голову? – интересуется Лео.
– Вероятно, чтобы становилось темнее, – говорит отец. – Впрочем, он не всегда пользовался трусами. Только когда под рукой не оказывалось ничего другого.
– А когда ты был маленьким, он это тоже проделывал? – спрашиваю я.
– Конечно. Он соблюдал сиесту ежедневно.
– С трусами на голове? – спрашивает Лео.
– С чистыми трусами, – уточняет отец. – В то время мы все‑таки были приличной семьей. Это потом, очевидно, что‑то пошло не так, принимая во внимание поведение твоего папаши. Тебе ведь известно, что однажды в ресторане он высморкался в скатерть?
– Это была салфетка.
– Тканевая салфетка, – поправляет отец, – а они предназначены для того, чтобы вытирать рот, а не сморкаться. Представляешь, как противно было тому, кому потом пришлось заниматься твоими соплями?
– Я не виноват, – оправдываюсь я. – Я просто продукт своего воспитания.
– Не сваливай свою вину на других.
– Это же правда. К сожалению, я не из такой приличной семьи, как ты.
Отец поворачивается к Лео с наигранным отчаянием в глазах.
– Знаешь, Лео, – говорит он, – некоторым хоро шее воспитание ничего не дает. Но не волнуйся, если твой папаша будет вести себя слишком противно, ты всегда сможешь переехать к нам. У тебя, кстати, есть жвачка?
Жвачка у Лео имеется. В огромных количествах. По его словам, когда жуешь, меньше укачивает. Он достает купленные нами два больших пакета и угощает всю компанию, что заставляет его спутников на мгновение умолкнуть.
Пока мы жуем, я раздумываю над словами отца и должен признать, что он кое в чем прав. Он действительно происходил из хорошей семьи, знавшей толк в этикете. У них не говорили о таком, что могло восприниматься как неприятное или щекотливое. Вероятно, отчасти поэтому мы так мало знаем об их прошлом. Нам ведь даже неизвестно, как дедушке удалось перебраться в Швецию.
Пытаясь разузнать побольше, я перед поездкой обзвонил нескольких его старых знакомых. Но оказалось, что они тоже ничего не знают о его прошлом. Дедушка просто–напросто об этом не говорил. А если что‑то и говорил, сказала одна из женщин, с которыми я связывался, то она позабыла. – Понимаешь, это было так давно, – сказала она. – Больше семидесяти лет назад. Когда мы еще были молодыми.
Главной проблемой для евреев в то время было не то, что они не могли покинуть Германию, поскольку это им еще разрешалось. Нацисты тогда еще не выработали окончательного решения и с удовольствием избавлялись от "паразитов". При условии, что те оставляли свое имущество и могли предъявить разрешение на выезд в другую страну. Проблема заключалась в том, что ни одна из стран не хотела их принимать. Швеция, в частности, проводила в отношении беженцев очень жесткую политику: чтобы не впускать евреев, был разработан ряд бюрократических процедур, например заполнение формуляра, где вновь прибывших беженцев обязывали указывать, арийского они происхождения или нет. Кроме того, мы относились к тем странам, которые тверже всех настаивали на том, чтобы всем евреям в паспорта ставили штамп с буквой J. Маленькая изощренная административная мера, которая помимо того, что упростила отказ еврейским беженцам на границе, стоила жизни многим тысячам людей. Стоявших за такими порядками политиков и бюрократов, несомненно, поддерживало общественное мнение. Ибо как только еврей пытался сюда приехать, его встречала непробиваемая стена сопротивления. Так, например, в 1934 году ходатайство еврейского врача о разрешении на практику в Швеции вылилось в то, что треть шведских врачей вышла в знак протеста на демонстрацию. Даже еврейская община не хотела нас здесь видеть из боязни, что слишком большое количество беженцев вызовет негативное отношение к тем евреям, которые уже живут в Швеции. Мы были настолько нежеланными, что даже мы сами не хотели нас впускать.
Однако, несмотря на сопротивление, небольшие возможности периодически все‑таки открывались. Так, после Хрустальной ночи 1938 года Швеция, чтобы обеспечить себя дешевой рабочей силой, разрешила сотне евреев въехать в страну на ограниченный период времени и работать в сельском хозяйстве.
Таким образом сюда попал мамин отец – дедушка Эрнст. Весьма вероятно, что папин отец – дедушка Эрвин – оказался здесь точно так же, поскольку, по словам маминой матери, они познакомились друг с другом в провинции Сконе в конце тридцатых годов. Лет за тридцать до того, как их дети – мои мать и отец – познакомились во время встречи двух пар в Стокгольме.
Как дедушка Эрвин потом перебрался в Стокгольм, я не знаю. Но как‑то перебрался и уже там встретил бабушку Соню. Получилось так, что бабушка забеременела, и им пришлось пожениться. И в 1943 году, в разгар войны, родился мой отец.
Не знаю, поменял ли уже дедушка к тому времени фамилию с Исаковиц на Ваттин, или это случилось сразу после рождения отца. Знаю только, что он боялся того, что происходило в Германии и что немцы придут в Швецию. Возможно, поэтому он так и поступил. Поменял фамилию и дал своему первенцу самое шведское имя из всех, какие, вероятно, когда‑либо давали ребенку немецкого еврея, – Ханс–Гуннар.
4. Такого мы даже представить себе не могли
Мы с Лео дремлем, а отец, твердой рукой управляя автомобилем под аккомпанемент своего любимого телефона, провозит нас через Стокгольм и пригороды. Только когда мы достигаем Сёдертелье, приятную атмосферу в машине нарушает громкий и хорошо знакомый звук.
– Не–ет, – разочарованно произносит отец. Дело в том, что Лео с шумом выпустил газы.
– Неужели обязательно проделывать это в моей ма шине? Она почти новая.
Лео начинает хихикать, я тоже. Затем я перехожу на громкий хохот и никак не могу остановиться.
– Ты ведешь себя так же омерзительно, как твой папаша, – говорит отец моему сыну.
– Это у нас в роду, – выдавливаю я между приступами смеха.
– Не в моем роду, – поправляет отец. – Тогда уж наверняка по линии твоей матери.
Вероятно, он прав, поскольку дедушка Эрнст считался главным специалистом в округе. Семейные ужины редко обходились без того, чтобы он продемонстрировал свое искусство. Обычно это происходило так: он подходил к кому‑нибудь, чуть лукаво улыбался и невинно просил потянуть его за мизинец. Этот жест вызывал в нашей семье на удивление сильные эмоции.
– Папа, прекрати, – просила мама.
Но дедушка, не обращая на нее внимания, вытягивал мизинец чуть побольше.
– На, потяни, – говорил он.
– Кончай, – увещевала тетя. – Неужели ты не мо жешь без этого обойтись? Это так глупо.
– Давай, – повторял дедушка. – Потяни за палец.
– Эрнст, хватит уже, – сердилась бабушка.
Но на дедушку это не производило никакого впечатления. Напротив, он еще больше вытягивал палец, и если за него тянули, дедушка пукал так громко, что праздник на мгновение стихал, все женщины закатывали глаза, а все мужчины хохотали. Значит, такой вид юмора действительно достался нам от материнской родни. Хоть он и не слишком утонченный, но по крайней мере веселит. Кроме того, принимая во внимание энтузиазм сына, я подозреваю, что трюк с мизинцем является одной из тех семейных традиций, которым суждена долгая жизнь. Думаю, эта мысль порадовала бы дедушку, потому что такие вещи доставляли ему удовольствие. Он был теплым, щедрым, жизнерадостным и настолько добрым человеком, что однажды даже отдал мне свою еду, когда его оставили смотреть за мной. Правда, мне тогда было всего три месяца, а на тарелке у него лежала жареная картошка. Но тем не менее. Мама, конечно, пришла в ужас от такой затеи. А дедушка сказал, что пожалел меня, поскольку я проголодался, и кроме того, картошка, по его словам, мне очень понравилась.
Впрочем, чаще всего дедушка работал. Он первым из родственников начал в Швеции собственное дело. Еще в Германии он выучился на радиотехника и, переехав сюда, обнаружил, что тут не хватает кое–чего из имеющегося в других местах. Обладая предпринимательской жилкой, он заключил соглашение с военными о покупке у них старых радиоприемников и начал устанавливать их в машины. О возможности иметь радио в машине народ здесь еще не слышал, и слух о деятельности дедушки распространился очень быстро, хотя поначалу он работал прямо на улице перед своей квартирой в Хегерстене[4]4
Хегерстен – район в южном пригороде Стокгольма.
[Закрыть]. Позже, когда дела пошли в гору, он обзавелся гаражом в Стокгольме и начал нанимать работников. Главной его проблемой в то время было то, что он, еврей–беженец без гражданства, не имел права заниматься в Швеции предпринимательством. Эту дилемму он решил, попросив знакомого возглавить его предприятие, что, в свою очередь, стало причиной того, что первая в Швеции фирма автомобильных радиоприемников носила не его имя, а Гордона. Дела у дедушки пошли хорошо, причем настолько хорошо, что он имел возможность ссужать деньгами друзей, чтобы те тоже смогли начать собственное дело.
Как и папин отец, дедушка Эрнст никогда не рассказывал о времени до переезда в Швецию. Когда об этом заходила речь, он обычно говорил: "Тебе незачем знать", а в те разы, когда мама спрашивала его о детстве, он всегда отвечал: "У меня его не было".
Присущее ему и другим членам семьи нежелание делиться тем, что им довелось пережить, долгое время не давало возможности составить общую картину нашего рода. Но потом что‑то произошло. По мере того как эти немецкие тетеньки и дяденьки старели, многие из них начали впервые рассказывать о своем прошлом. Не детям, поскольку это, вероятно, было слишком близко, а следующему поколению. Мне. Когда мне было лет двадцать, я какое‑то время объезжал их всех по очереди и расспрашивал об их жизни. К тому моменту оба мои дедушки уже умерли, но оказалось, что есть другие люди, кое‑что о них знающие. Одним из них был Хайнц Киве, пожилой господин с сильным немецким акцентом и шарообразным наростом на шее. Киве, как мы его обычно попросту называли, всегда присутствовал на семейных ужинах у маминых родителей, и я его очень любил. В отличие от остальных родственников он никогда не заводился, а сидел, как правило, молча и считал, что все "превосходно".
Особенно хорошо мне запомнился один Песах – празднование исхода из Египта, происходившее у нас каждый год в районе Пасхи. Это был, пожалуй, самый торжественный из всех праздников, что мы отмечали, и, став взрослым, я могу в полной мере оценить лежащую в его основе потрясающую историю. Ведь она включает в себя все: путь народа к избавлению от рабства, таинственные пророчества, плавающих в тростнике младенцев, десять казней, разделяющиеся моря, сорокалетнее странствие в пустыне и обретение под конец Святой земли. Это – классическая драма и настолько жестокая выдумка, что по сравнению с ней большинство криминальных романов кажется детским лепетом. Правда, в детстве я, естественно, так не думал, тогда этот праздник воспринимался как сплошная мучительная казнь (одиннадцатая). Но ничего поделать было нельзя, поскольку на Песах у младшего поколения не имелось ни малейшей возможности ускользнуть и спрятаться. Тут требовалось участие. Оставалось лишь смириться, достать Агаду и громким голосом задать вопрос, служивший сигналом к началу праздника: "Чем эта ночь отличается от других ночей?"
Тем самым ты открывал ящик Пандоры и запускал скучный, нескончаемый процесс в пятнадцать этапов, в течение которого, в частности:
• читают над вином молитву;
• подносят бокал с вином к губам, но не пьют;
• читают еще одну молитву, толком не понимая зачем;
• делают такой маленький глоток вина, что не успевают почувствовать его вкус;
• читают об исходе из Египта на языке, который никто из сидящих за столом не понимает;
• поднимают тост за пророка Илию на случай, если тот заглянет в Хессельбю, чтобы рассказать о втором пришествии Мессии;
• моют руки столькими способами, что можно было бы провести полостную операцию, не рискуя заразить больного.
Песах – это такая долгая история, что ты, в точности как твои праотцы в Египте, чуть не умираешь от голода. Наконец, когда ты, справившись с еще несколькими текстами на древнееврейском, которых никто не понимает, уже настолько голоден, что готов начать грызть скатерть, появляется поднос с едой. Так тебе думается. Однако еда, разумеется, оказывается символической, поскольку в Песах вместо традиционных праздничных закусок сервируют страдания еврейского народа. Все начинают макать петрушку в соленую воду – в память о слезах, жевать горькую зелень – в память о страдании и есть мацу – чтобы помнить: для хлеба необходимы дрожжи. Затем можно глубоко вздохнуть и расслабиться, поскольку теперь все возвращается на круги своя и внезапно, как манна небесная, появляется остальная еда. Тут и куриный бульон, и фаршированная рыба, и все остальное, что ты, подстегиваемый маленькими еврейскими тетушками, просто обязан есть в больших количествах.
И посреди этого хаоса, в окружении препирающихся, разговаривающих и смеющихся мужчин и женщин, в углу сидел Киве, спокойный и невозмутимый, как статуя. Внешность у него была действительно специфическая. Помимо нароста на шее, у него еще было частично изуродовано лицо, поскольку, когда он работал в сельском хозяйстве, его лягнула лошадь. Однако в моих глазах от остальных этого старика отличала не внешность, а то, что он всегда был всем доволен. О том, что мы с ним, вообще‑то, не родственники, я понятия не имел, по крайней мере в детстве. Даже не помню, когда впервые осознал, что никто из пожилых мужчин и женщин, обычно собиравшихся у маминых родителей, нам не родня. На самом деле эти люди просто вместе бежали из Германии и обустраивали свою жизнь в Швеции. Киве был не только важной частью здешней компании, но и связующим звеном с родней отца. Ибо этот старик со своеобразной внешностью хоть и проводил праздники у маминых родителей, но вырос, как и папин отец, в Мариенвердере, в Восточной Пруссии, и, как оказалось, кое‑что знал о его семье.
Сейчас Киве уже нет в живых, но я взял у него интервью, когда ему было почти девяносто и он жил в доме престарелых в Фарсте[5]5
Фарста – пригородный район Стокгольма.
[Закрыть]. У него там была маленькая однокомнатная квартирка, больше напоминавшая тюрьму, чем дом. Особенно по сравнению с таунхаусом, который они с женой купили, когда ему исполнилось шестьдесят, и который он всегда называл «своим раем на земле». Мне было приятно повидать Киве, и он тоже очень обрадовался моему приезду. Помню, мы с ним немного побеседовали, а потом поехали на социальном такси обедать в торговый центр.
В тот день Киве мне многое порассказал. Оказалось, его семья очень дружила с семьей папиного отца и его отец часто играл в карты с моим прадедом Германом. Рассказал он и о том, что дом моей семьи располагался в центре города, на Марктплац – большой площади, окруженной собором, ратушей и множеством еврейских магазинов и универмагов. Семья моего дедушки торговала мужской и детской одеждой и жила, по словам Киве, хорошо. У них был большой красивый дом, и дедушка с братом и сестрами могли не работать, а учиться. Похоже, моим родственникам жилось в Мариенвердере действительно хорошо. По крайней мере, до прихода Гитлера к власти. Потом ситуация быстро ухудшилась. Что произошло с семьей Исаковиц, Киве не знал, но его собственный отец был вынужден платить особый "еврейский налог", из‑за чего ему перестало хватать денег на содержание фирмы.
Сам Киве работал в то время в магазине по продаже мужской одежды в Кёнигсберге. Но тут их настиг следующий удар. Он затронул всю Германию, и мой прадед, несомненно, тоже должен был пострадать. – У нас всегда было много покупателей и масса дел, – рассказывал Киве. – Но однажды перед дверьми появились нацисты и заявили, что у нас запрещается что‑либо покупать, поскольку это еврейский магазин. И все кончилось.
Киве редко бывал серьезным, но тут он внезапно посерьезнел.
– Мы всегда считали себя немцами. Я был нем цем. Мой отец был немцем. Он сражался за Герма нию в Первую мировую войну, со второго дня войны и до конца. А потом вдруг оказалось, что он больше не немец. Такого мы даже представить себе не могли.
Это Киве часто повторял, когда речь заходила об ужасах, которые ему довелось пережить: "Такого мы даже представить себе не могли". Словно он был своего рода Куртом Воннегутом или Джозефом Хеллером. Мужчина, который всегда бывал таким жизнерадостным и считал, что все "превосходно", теперь смотрел на меня через стол с серьезным видом.
– Вот ты, например, – сказал он. – Ты ведь всегда говоришь, что ты шведский парень. А потом они однажды приходят и заявляют, что ты больше не швед. С нами произошло именно так. Мы ведь были нем цами. Я занимался мужской одеждой и ничего не знал о политике или Палестине.
Однако он, вероятно, быстро разобрался, поскольку в 1937 году, чуть раньше, чем мой дедушка покинул Мариенвердер, Киве уехал в Южную Германию, став членом организации, напоминавшей кибуц, и начал обучаться сельскохозяйственному труду в надежде получить разрешение на выезд в благословенную страну. Там‑то, работая в саду у человека по имени Крауц, который много кричал, он впервые встретился с отцом моей мамы.
Я часто вспоминаю этот день с Киве в торговом центре Фарсты. Как рад он был тому, что я – неуклюжий, неопытный двадцатилетний парень с бестактными вопросами – приехал с ним поговорить. Как он был жизнерадостен, хотя много раз терял все, что имел и любил. Его жизнь, несмотря на все страшные события, все‑таки была "превосходной". Это произвело на меня сильнейшее впечатление.
* * *
В машине у нас тоже превосходно. Самые страшные приступы хохота после пуканья сына улеглись, и мы на хорошей скорости движемся к городу Нючёпингу. План состоит в том, чтобы доехать до Сёдерчёпинга и выпить там кофе, чтобы затем продолжить путь по Е-22 до Карлскруны, а оттуда отправиться на пароме в Гдыню.
В преддверии поездки я провел кое–какие изыскания, чтобы узнать, куда нам надо ехать в Польше. Мой первоначальный план был прост: установить, где именно в Мариенвердере жил прадед, а затем найти подробный план города двадцатых годов и определить место, где прадед мог бы закопать сокровище. Раздобыть такую информацию оказалось довольно трудно, но в конце концов я окольными путями вышел на одного специалиста по генеалогии в варшавском Институте еврейской истории, и он прислал мне отсканированные справочники с адресами. Мне предстояло просмотреть большой объем информации, и я не питал особых надежд найти то, что ищу. Но я подумал, что если внимательно прочту все справочники, то у меня все‑таки будет маленький шанс наткнуться где‑нибудь на имя прадедушки. Хотя ожидать я этого не ожидал. Отнюдь. Поэтому представьте себе мое удивление, когда, открыв первым из документов справочник 1921 года, я увидел следующую обложку:
Это была реклама магазина моего прадеда. Konfektionsbaus HERZ, Inhaber Н. Isakowitz[6]6
Магазин готового платья «СЕРДЦЕ», владелец Г. Исаковиц (нем.).
[Закрыть]. С информацией об ассортименте, специальных предложениях, адресе undalles[7]7
И прочее (нем.).
[Закрыть].