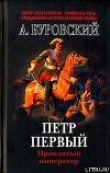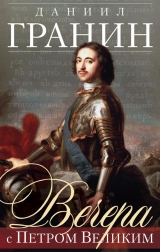
Текст книги "Вечера с Петром Великим. Сообщения и свидетельства господина М."
Автор книги: Даниил Гранин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава десятая
РИЖСКИЙ ГАК

Первое же столкновение Петра с зарубежными порядками его озадачило. В Амстердаме на улице на него налетел мальчишка. Петр схватил его и как следует поддал. Мальчонка вырвался, отбежал и запустил в Петра огрызком недоеденного яблока. Царь остолбенел от подобной наглости, но интересно, что он сказал мальчику:
– Пзвини, я забыл, что я не в России.
В другой раз, в Риге, после того как она была завоевана, Петр наградил местными землями за успешные военные действия генерал-фельдмаршала Шереметева и князя Меншикова. Из дареной земли один гак принадлежал рижскому гражданину. Гак – такая мера земли была в балтийском крае, примерно равная одному гектару. Так что кусок существенный. Рижанин понятия не имел, в чем он провинился перед государем, и отправился в царскую канцелярию выяснять, за что у него отобрали землю. Поначалу его и слушать не хотели – есть решение его величества, какие могут быть разговоры. На рижанина слова эти не подействовали: гак его родовой, сотни лет семья владеет, никто не имеет права отнимать. Стали выяснять, оказывается, пожаловал землю Петр князю Меншикову, а с князем, как известно, тягаться никому неохота. Посоветовали гражданину отступиться, но он не согласился и стал хлопотать приема у царя. Каким-то образом добился. Представ перед своим новым царем, обратился к нему по-немецки. Держался свободно, на колени не опускался, к руке не припадал, держался с достоинством и даже обиженно. Ничем он, вроде, не прогневал государя, законов не нарушал – пусть ему объяснят, по каким законам его лишили земли и отдали князю Меншикову и почему, по каким правилам канцелярия жалобы на князя не принимает?
Петр с интересом спросил его, что же он хотел бы предпринять, уж не в суд ли подавать.
Рижанин несколько смутился, впрочем, на Меншикова он готов бы подать в суд, пусть разберут, но сложность в том, что дело может выйти на самого государя. Разрешит ли государь, чтобы его действия разбирали в здешней ратуше?
На это Петр нисколько не рассердился – а что, пускай разбирают. На всякий случай удивленный рижанин спросил, согласен ли государь, чтобы ответствовать по здешним законам, и дозволяет принести в случае чего на него жалобу.
Разумеется, Петр мог бы приказать вернуть этот злосчастный гак рижанину, но ему любопытно было испытать и Меншикова, и местные порядки, по которым, выходит, можно осмелиться судиться с царем, к тому же победителем. Выдержат ли местные власти сию неслыханную процедуру?
В ратушу пошла челобитная от рижанина на князя Меншикова как насильно завладевшего наследственной землей. Судья, рассмотрев обстоятельства, дела не принял. Пояснил, что земля вместе с гаком рижанина была пожалована князю царем, следовательно, заявление относится к царю. Высочайшее же лицо суд судить не может.
Гражданин разъяснил, что челобитную он согласовал с царем и тот разрешил ее подать, невзирая на свое собственное участие в этом деле.
После долгих обсуждений с юристами суд установил, что поскольку в царском указе не объявлено ни вины гражданина, ни имени его, челобитную следует принять.
Послали к Меншикову, предложив, согласно местным законам, явиться в ратушу. Меншиков ответил, что он знать ничего не знает, вся земля ему пожалована монархом, он, Меншиков, за монарха не отвечает, не ему обсуждать действия государя.
Отправился член совета ратуши к царю. Так, мол, и так, Меншиков ссылается на вас.
– Правильно ссылается, – говорит Петр.
– Тогда нужно будет Вашему Величеству самому пожаловать в ратушу, в присутственную палату на разбор дела.
Петр согласился. В назначенный день явился в ратушу. Там скопилось много народу, все любопытствовали, как царь поведет себя.
Прочли ему дело, спросили, все ли правильно, имеет ли он что добавить. Не имеет. Далее ему пояснили, что при разборе дела положено ему выйти в соседнее помещение. Государь вышел и ждал, пока советники закончат рассмотрение.
Затем его позвали в палату, ознакомили с решением, оно было в пользу просителя.
Когда Петр выслушал, то расчувствовался, поцеловал каждого советника в голову. Сказал, что повинуется закону, если государь повинуется, то не дерзнет никто противиться закону.
Благостная эта история, изрядно подслащенная летописцами, на самом деле протекала со слезами, бранью. Меншиков, матерясь, вытолкал рижанина взашей да еще пригрозил ему палками, если посмеет сутяжничать. Расчет у Меншикова простой – государь давно затаил обиду на Ригу, с тех пор как впервые приехал сюда с Великим посольством, а приняли его дурно. Запретили осмотреть местную крепость, предупредили, что стрелять будут. С Меншиковым тоже обошлись тогда бесчестно. Но ныне государь, узнав о выходке князя, повел себя неожиданно. Не впервые Меншиков попадал впросак, пытаясь угадать поведение Петра. Впрочем, Меншикова за драчливость он не попрекнул, даже посмеялся. В городе же о происшествии стало известно, законопослушность царя приводили в пример, сравнивали с грубостью Меншикова, более же всего со шведами, с Карлом XII, и не в пользу последнего. Гак был возвращен владельцу, бумаги незамедлительно оформили, Меншиков, пользуясь случаем, выпросил у государя целую мызу в возмещение потери.
Глава одиннадцатая
ДВА САМОДЕРЖЦА

Молочков устроил целое представление, рассказывая про Карла XII и Петра, изображая то одного, то другого. Оба высокие, красивые, сильные. Карл узколицый, волосы прямые, сплетенные сзади косичкой. Черты его малоподвижны, он молчалив, решителен, одет небрежно, можно сказать неряшливо, рубаха грязная, суконный мундир заношен, кожаные штаны потерты до белизны, шея завязана черным шелковым платком, он вполне сошел бы за современного хиппи, если б не шпага, она у него не просто болтается, она его принадлежность, такая же, как крест у священника. Это был облик полководца на войне. Он всегда пребывал на войне, был ли он во дворце, на дипломатических переговорах, все равно, это была всего лишь отлучка с фронта.
Петр был в сравнении с Карлом круглолиц, голенаст, веселее, общительней… Впрочем, у них было много общего – стремительность, выносливость, оба не обращали внимания на свои манеры, на одежду.
Можно было подумать, что Молочков знал обоих и оба ему нравились. Конечно, в Петра он был влюблен, но и Карл его привлекал, Карл был достойный противник, он многому научил Петра, хотя был моложе его на десять лет. Карл уже восемнадцатилетним юношей нанес поражение русской армии, разгромив Петра под Нарвой. С тех пор началось их единоборство, вплоть до Полтавского сражения, да и позже Карл XII пребывал главным противником Петра. Двадцать лет подряд Петру приходилось разгадывать замыслы шведского короля. За долгие годы они оба хорошо изучили характеры друг друга. И для Петра, и для Карла характерны были энергия, военная хитрость, нетерпение. Подобно Петру, мальчиком, будучи принцем, Карл неустанно занят военными играми, парадами, маневрами. Образование, и неплохое, лишь убеждает его, что он – воин. Война – его талант, его призвание, его способ править. Хорошо сказал о нем один француз: «Он вошел в полевой шатер, как монах в келью». Аскет войны, он как бы дал обет Марсу. Молодость с ее страстями, романами не может догнать этого кавалериста в ярко-синем мундире с золотыми пуговицами. Он не пьет ничего, кроме ключевой воды, не меняет одежды. Зачастую седло служит ему подушкой. Если ему нужны деньги, то не для удовольствий – только платить солдатам, кормить их, обеспечить армию пушками и порохом. Не ищите в нем слабости, честолюбия. Плевать он хотел на лавровые венки, триумфальные арки, ордена.
Ему надо воевать. «Аттнла, заблудившийся в восемнадцатом веке», по выражению Сен-Винтера. Подобно предводителю гуннов Аттиле, Карл громит, захватывает города Европы, не имея планов завоевания. Он тут же раздает захваченные земли. Стрелять, убивать, сражаться – вот его цель. Игра в солдатики, только живые, чтобы пули свистели настоящие, чтобы самому быть в гуще сражения, вдыхать пороховой дым. Азарт войны заменял ему прочие радости. Он меняет мундир, штаны, лишь когда они износятся до дыр. Завоевать земли для своей страны – об этом он не помышляет.
Нарвская победа внушила Карлу высокомерное отношение к русской армии, к Петру, который вместе с Меншиковым покинули войска накануне сражения. Феерическая слава непобедимого полководца уже окружала образ юного шведского короля.
Для Петра поражение под Нарвой было хоть и чувствительно, но духом он не упал. А двор пришел в уныние. Семь тысяч солдат погибло, восемьдесят офицеров и генералов в плену. Понадобилась вся энергия царя, чтобы преодолеть страх приближенных перед шведским монархом и его сокрушительной армией. «Ошибка римлян была в том, – повторял Петр, – что непобежденных они считали непобедимыми».
Чтобы оценить его труд преодоления страха, Молочков напомнил нам обстановку перед нашей Великой Отечественной войной. Гитлер разгромил Францию, захватил Австрию, Чехословакию, Польшу. Страх обуял Сталина, только этим можно объяснить его малодушие, нерешительность, пугливость, с какой он отвергал все предупреждения.
Нарвская конфузия, наоборот, воодушевила Петра строить регулярную армию, флот. Вооруженные силы перешли на полное содержание государства.
Появились дивизии, артиллерию сделали полевой, осадной, крепостной. Петр ввел гаубицы, мортиры, пушки:
…так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат…
– Пусть шведы бьют русских, они выучат нас бить их, – повторял Петр.
От короля-отца Карлу досталась боевая армия, прошедшая сражения Тридцатилетней войны, войну с Данией; профессиональный офицерский корпус. Свою кавалерию Карл XII сумел сделать грозной силой, она владела искусством маневра, его войска выигрывали в стрельбе на дальние расстояния.
Шведская армия считалась, может, самой могущественной в Европе.
У Петра не было ни флота, ни сносного вооружения, были наемные генералы-иностранцы, устарелые пушки и, самое главное, – еще не было обстрелянной настоящей армии. Несмотря ни на что, он бросает вызов Карлу. Безрассудство, самонадеянность, неопытность… Всё так, но идея вернуть России выход к морю овладела им и отбрасывала любые предостережения. Спустя столетия его решение привлекает мужеством. На самом деле это было больше, чем мужество. Необходимость Петербурга становилась для него все более непреложной по ходу двадцатилетней войны.
Позже Петр утверждал, что если бы победили под Нарвой русские, будучи такими неопытными вояками, то это счастье могло бы привести к катастрофе, так что нарвскую конфузию он оценивал как милость Божию. Но это говорилось позже, по зрелом размышлении, а вот то, что тогда поражение не обескуражило его, стало решающим достоинством.
По-иному переживал свое поражение под Полтавой Карл, его расстроило то, что он потерял армию и надо прекратить войну. Петр ведет войну, чтобы выйти к морю. Война – инструмент, топор, окно прорублено, открылось море, и инструмент отброшен. Карл был кочевник, он кочевал от войны к войне, ловко ведя дипломатические маневры. Он и погиб как воин, от пули. Он истощил Швецию, однако солдаты любили своего отважного, хладнокровного короля, любила армия, да и Петр, как ни странно, любил своего врага.
Вообще отношение Петра к шведам необычно, оно заслуживает внимания.
Когда положение шведской армии на Украине стало тяжелым, Карл послал к Петру офицера с провожатым просить помочь лекарствами, которые кончились у шведов. Петр согласился не раздумывая, велел отпустить лекарств больше, чем просили. Генералы отговаривали его – зачем усиливать противника?
– Я воюю с армией шведской, а не с больными людьми.
Карл просил о перемирии на зимнее время. В этом Петр решительно ему отказал.
На Пушкина, занятого историей Петра, произвел впечатление один поступок царя. Впоследствии он не раз вспоминал, приводил этот поступок в пример.
Окончилась Полтавская битва, шведы разгромлены, король бежал, тысячи трупов шведских и наших солдат вперемешку раскиданы на поле боя. Первым делом Петр посетил раненых, потом приказал построить войска, поставить перед полками походную церковь. В ней совершил молебен. Прогремели залпы ружей и пушек. Усталый государь объехал на коне полки, благодарил солдат, махал им своей простреленной шляпой, поздравлял с победой.
В царском шатре был накрыт обед, столы были и для солдат.
Петр сел, осмотрелся и вдруг сказал: привести и посадить среди своих генералов пленных шведских военачальников. Привели фельдмаршала Реншёльда, принца Максимилиана Эммануэля, генералов Шлиппенбаха, Хамильтона, еще нескольких, позже доставили туда первого шведского министра графа Пипера и двух королевских секретарей. Появление шведов вызвало у русских замешательство. Петр, возбужденный, сияющий, тут же приказал вернуть фельдмаршалу шпагу, указал ему место недалеко от себя. Влажная от крови земля была застлана коврами. Государь сам разливал водку. Зазвучали тосты, за царя, за его семью.
– Вчера брат мой, король Карл, обещал вам обед в моем шатре, не так ли? – высоким голосом возгласил государь. – Хотя он не сдержал своего королевского слова, извините уж, мы помешали ему, зато мы выполним это за него: я приглашаю вас откушать со мною.
Русские генералы были еще возбуждены недавним боем. Сидеть со шведами за одним столом было странно.
Посреди пира Петр поднялся с кубком.
– Пью за здоровье учителей наших в ратном деле!
– Кто же эти учителя? – спросил пленный фельдмаршал Реншёльд.
– Вы, господа, шведы, – твердо ответил Петр.
– Хорошо же ученики отблагодарили своих учителей, – со злостью промолвил фельдмаршал и выпил свой бокал под общий смех.
За столом Петр спросил фельдмаршала, почему генералы не отсоветовали Карлу вступать в битву, когда численное преимущество было у русских. Реншёльд, который командовал шведами, ответил: «Мы привыкли слушать и исполнять повеления короля, а не советовать ему».
И это была правда. В Совете Карл все дела решал сам и не терпел возражений. Он верил в свою звезду, не думал о смерти, не страшился никакой опасности. Его идеалом был Александр Македонский, с той разницей, что Карл мечтал не завоевать мир, а прославиться на весь мир. История Карла XII, как заметил Вольтер, занимательна, в то время как история Петра поучительна. Вольтер написал книгу о Карле и книгу о Петре, обоих правителей он считал самыми примечательными в XVIII веке. Карл был великий воин, Петр же великий государь.
– Хочу заметить, что те войны шли без ненависти, – говорил Молочков. – В сравнении с нашими их вели по-джентльменски, между офицерами соблюдались правила. Словно бы шла дуэль. Петр называл Карла «брат мой» с полным уважением.
Столь уважительное отношение к противнику стало возможно потому, что в течение всей войны, а длилась она двадцать с лишним лет, не разжигали ненависть к шведскому народу. Шведского солдата не изображали злодейской фигурой, врагом, которого надо уничтожить. Конечно, жестокости совершались и над пленными, добивали раненых, мародерничали, но была особенность – в обеих армиях служили наемные иностранные офицеры. Они часто знали друг друга, общались в перерывах между сражениями, это создавало как бы военную этику, правила войны.
Рыцарское поведение Петра не было вспышкой, минутным порывом.
Гангутскую победу, первую большую победу русского флота, своего детища, Петр праздновал пышно и красиво. В Неву вошли русские галеры, за ними шведские со спущенными флагами и затем галеры с контр-адмиралом.
Флотилия остановилась перед Сенатом, произвела салют из всех орудий. Из крепости и Адмиралтейства грянул ответный залп. Торжественным маршем победители прошли сквозь Триумфальные ворота. Везли трофейные пушки, вели двести пленных, вели офицеров, несли десятки захваченных шведских флагов. Над воротами распростер крылья русский золотой орел, под ним синий слон – захваченный фрегат назывался «Элефант», и надпись по-латыни гласила: «Орел мух не ловит» – любимая пословица Петра.
Колонна последовала в крепость. Князь-кесарь Ромодановский принял от командиров реляцию и в награду за верную службу произвел контр-адмирала Петра в вице-адмиралы. Не канцелярское постановление Сената он получил, а ему пожаловали звание у всех на глазах, ясно, за что.
Убедительно, наглядно, беспристрастно.
Поднят был синий вице-адмиральский флаг.
Во дворце Меншикова состоялся прием. И опять Петр пригласил к своему столу шведов: контр-адмирала Эреншёльда и несколько шведских офицеров. Повторилась сцена, памятная всем после Полтавы. Во время обеда он потчевал адмирала и с него начал свою речь.
– Господа, перед вами храбрый, преданный слуга своего государя, достойный его высочайших наград. Пока он со мной, всегда будет иметь мое расположение, хотя, увы, лишил меня многих моих храбрецов. Я прощаю вас, – обратился он к шведу, – вы всегда можете полагаться на мою добрую волю.
Эреншёльд встал, поднял бокал:
– Как бы честно я ни воевал, я всегда лишь исполнял свой долг. Сегодня я искал смерти, но не нашел. В моем несчастье меня утешает лишь то, что я стал пленником Вашего Величества, что вы, великий морской командир, благосклонны ко мне и так меня отличаете. Я видел, что русские дрались доблестно, теперь я убедился, что это царь обучил их так хорошо. Войска, особенно пехота, сражались умело, думаю, что в мире нет армии, которая могла бы одолеть их!
Петр задал для русского общества тон милосердного отношения к побежденным. Пленные шведские офицеры, те, что находились в Петербурге, пользовались свободой, их приглашали на балы, они учили русских дам и кавалеров танцевать. Во время танцев хозяину полагалось подносить избранной им даме цветы, она становилась царицей бала, вручала букет другому кавалеру. Поклоны, реверансы придавали новый оттенок праздникам.
Императрица Анна Иоанновна последовала примеру Петра. В 1735 году Петербург праздновал взятие Данцига. Государыня принимала гостей в Летнем саду. Вечером перед началом бала к ней подвели двенадцать французских офицеров, взятых в плен под Данцигом. Государыня сказала их начальнику графу де ла Мотту, что она не случайно выбрала время для аудиенции. Когда недавно несколько русских моряков попали в плен, обращались с ними дурно, но она мстить не собирается, достаточно, что они попали в плен, она надеется, что эту неприятность здешние дамы устранят. С этими словами двенадцать фрейлин вернули им шпаги и пригласили на танец.
В первые часы после Полтавской битвы Петру доложили, что в поле найдена разбитая королевская качалка. Известно было, что в ней носили раненого Карла во время сражения. Петр велел искать короля среди убитых. Он не скрывал своего сожаления о смерти шведского монарха. Позже, когда узнал, что Карл бежал, он отправил за ним погоню и строго письменно предупредил: ежели, Бог даст, пойман будет король шведский, с ним поступить учтиво и иметь его за честным арестом.
Получив в 1718 году известие о смерти короля Карла на поле боя, Петр не удержался, отвернулся, стал вытирать слезы, промолвил: «Брат Карл, как мне тебя жаль! Жаль нашего учителя в военном деле!» Петр, а за ним и придворные надели «черные платья» в знак траура и послали соболезнование младшей сестре Карла.
Между тем, шел девятнадцатый год Северной войны, она измотала и шведов, и русских. Обе стороны могли ожесточиться, могли воспылать взаимной ненавистью. Этого не происходило. Почему? Молочков понятия не имел. Он признался, что самое трудное для историка погрузиться в психологию той эпохи, понять мотивы поступков людей, допустим, петровского времени.
Пушкин в «Полтаве» поминает короля Карла уважительно:
Три углубленные в земле
И мхом поросшие ступени
Гласят о шведском короле.
С них отражал герой безумный,
Один в толпе домашних слуг,
Турецкой рати приступ шумный…
Пример отношения Петра к побежденным шведам всегда волновал Пушкина.
Он писал про Петра:
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.
Для Пушкина мерой величия любого царя, императора, князя является милосердие, «милость к падшим». Он ведь Николая I без устали призывал простить декабристов и приводил в пример Петра.
Семейным сходством будь же горд,
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.
Власть, если не согрета милосердием, если в ней нет сострадания, – несет зло. Это было твердое убеждение Пушкина.
– Ох ты господи! – вдруг закричал Антон Осипович. – А закон? Нет уж, извините, власть должна опираться на закон, только на закон. Чувства не играют роли. Закон надо исполнять!
– Милосердие выше закона! Позвольте вам сослаться опять же на Пушкина… – сказал Молочков.
– При чем Пушкин! Кто такой Пушкин? Власть не обязана читать Пушкина.
– Ну, знаете…
– Не поэты должны править, а юристы. Наша беда, что вместо законов читают Пушкина. Чуть что – Пушкин, Достоевский. Придумали и с гордостью твердят: «Поэт в России больше, чем поэт». Так их перетак, от того-то в России постоянный бардак, каждый лезет в чужое дело вместо того, чтобы свое делать.
– Антон Осипович прав, – согласился Дремов. – Чисто русская привычка. Сталин учил академиков языкознанию, Хрущев – кукурузе. Петр вот учит – как стрелять, а поэт, не помню кто, считает, что его дело – «истину царям с улыбкой говорить». Так и живем: истина, милосердие, прощение, а компьютера своего не можем сколотить.
Через некоторое время, когда все поуспокоились, Молочков тихо, с некоторой укоризной, подступился к Антону Осиповичу насчет его замечания о Петре, о законах. А если законов еще не было?
Чтобы понять, чего достиг Петр, надо знать, что было до него, например, какую армию он получил, чем была военная служба.
Артиллерия допетровская умела главным образом производить праздничные салюты.
Пехотинец имел плохие ружья, владеть ими не умел, оборонялся копьем или бердышем, да и то тупым.
В кавалерии были клячи, сабли плохие.
«Иной дворянин и зарядить пищаль не умеет», – писал Иван Посошков и живописал, как этот дворянин, воюя, думает не о том, как неприятеля поразить, а о том, как бы домой скорее вернуться. И еще о том, чтобы, если придется, – «рану нажить легкую, чтобы не гораздо от нее поболеть, а от государя пожаловану за нее быть, и на службе того и смотрит, чтоб где во время боя за кустом притулиться». Целыми ротами прятались в лесу. Он от многих дворян слыхал: «Дай Бог великому Государю служить и сабли из ножен не вынимать».
Предстояло превратить их в воинов. А как? Обратите внимание, какие Петр выбрал два способа. Первый – с малых лет обучать дворянина грамоте, цифири и геометрии. А затем отрок должен идти служить. Как заставить его учиться? Решил – без справки о выучке дворянину не разрешать жениться. Второй способ – при прохождении службы родовитость во внимание не принимать.
Оказалось, это не так просто.
Тогда Петр добавил возможность вступать в соревнование отрокам худородным.
Примечательно, что когда Петр стал создавать культ Александра Невского, он велел изображать его как святого, однако воином, причем в рыцарских доспехах, которых русские не носили.
Петр первым понял значение Полтавской победы. Перед Европой явилась Россия державой, оснащенной и флотом, и армией, Россия – участница европейских дел, страна, с которой следует считаться.
Описывая победу под Полтавой, Молочков назвал ее как величайшую в истории если не человечества, то России наверняка.
– Позвольте, это куда ж вы Бородино, побоку? – осведомился профессор Елизар Дмитриевич.
– Сталинград, между прочим, тоже не хухры-мухры, – заявил Гераскин.
Молочков было смутился, но быстро вспомнил Вольтера, тот считал Полтавскую битву единственной в мировой истории, которая не разрушала, а созидала, приобщив к европейской жизни значительную часть земного шара.
С Вольтером тоже не согласились и дружно отстояли величие всех трех побед русского оружия – каждая остановила мировых захватчиков.
– Никто кроме России не сумел! – категорично объявил Антон Осипович.
Молочков поморщился, но тут же спохватился, сказал примиряюще, обращаясь к Антону Осиповичу:
– Есть одно отличие Полтавской победы. На празднике, что устроил Петр, символом стала оливковая ветвь. Герольды ехали по улицам с белыми знаменами, на них увитая зелеными лаврами оливковая ветвь. Вечером последовали, как всегда, огненное представление и фейерверк. Был изображен храм Януса, тот, что в Риме на Форуме, считалось, что бог Янус решает вопросы войны и мира. Во время войны ворота, по древнеримскому обычаю, открывались, войска шли сквозь эти ворота в поход. Наступал мир – ворота закрывались. Два воина в петербургском небе закрыли ворота и подали друг другу руки. Не было воинского парада, торжествующего, с попиранием шведских знамен. Петр праздновал не столько Победу, сколько Мир.
Учитель вновь упрямо повторил слова Пушкина:
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.
Проблема прощения давно интересовала всех. Говорили о том, как трудно прощать. Легче подать милостыню, накормить, приютить, это в России принято. Простить же того, кто искалечил, убил твоих товарищей? Простить его в своем сердце, и что взамен? Он же тебя благодарить не будет, он, может, и не нуждается в твоем прощении. Допустим, тебя обидели, унизили – почему ж за это прощать?
– Зато я освобождаюсь от ненависти, – сказал Дремов.
– Но ведь хочется дать сдачи, – сказал профессор. – Я лично не могу простить тем жуликам, что распродают наши леса. Не успокоюсь, пока их не призову к ответу.
– Погодите, а у Бога, – начал Молочков, – у Бога мы просим прощения?..
– Так то Бог, Его пути не наши пути, – прервал профессор. – И потом, никто Его не обижал.
– Петр прощал потому, что был победитель, – сказал Гераскин, – если бы Петру морду набили, он бы их изничтожил. Да так и было, простил, когда на лопатки шведов уложил.
– Это непросто, – сказал Молочков. – Мы вот немцам простить не можем.
– Точно, – сказал Гераскин. – Мой отец возмутился, когда немецкое кладбище военное захотели немцы восстановить. Не допущу, кричал, чтобы на нашей земле им почет отдавать. Буянил, а, между прочим, посылочки гуманитарной помощи из этой проклятой Германии получал. Я ему напомнил, он говорит: они посылают, чтобы избавиться от чувства вины, а я, говорит, инвалид войны…
– Значит, и афганцы нам прощать не должны, – сказал Дремов. – И чеченцы, и прибалты. Так и будем жить в ненависти. Прощать не значит забыть. У меня на сей счет правило, не мной придумано, зато я всегда ношу с собой: не делай другому то, чего себе не пожелаешь, хочешь, чтобы тебе прощали, прощай сам, хочешь, чтобы тебя любили, люби сам.
– Прощать придется больше снизу вверх, – задумчиво отозвался Антон Осипович. – Сверху больше обид идет.
Все почему-то посмотрели на профессора.
– Умом я понимаю, – сказал он. – И то, что уметь прощать, – закон нормального общества. Нас то и дело обижают, унижают. Подчас без умысла, без злобы. Знаю, что не надо отвечать тем же, терпимость – высшая форма прощения. Нет, не хватает доброты. Мстить хочу, сдачи давать! Хочу возмездия за все мерзости. За то, что мне причинили, за то, что с народом сделали. Для меня если нет возмездия – нет справедливости. Я читал Толстого о непротивлении злу насилием. Красиво, ничего не скажешь. Может, глубоко верующий способен это исполнить. Я не в силах. А кто в силах? Ни разу не встречал.
– А я встречал, – сказал Антон Осипович, – мне по службе приходилось. Был случай с президентом Академии Вавиловым, Сергеем Ивановичем. Я его не застал, но рассказывали мне. Не любил его один видный академик. И не скрывал этого, настолько не любил, что голосовал против его избрания в президенты. Тогда это сулило неприятности. Потом у академика произошло столкновение с Берией. Отстранили его от всех должностей, остался у него лишь оклад академика 500 рублей. Он устроил себе на даче, в сарае, лабораторию и там продолжал работы. По ходу опытов потребовалось оборудование. Узнал об этом Вавилов и распорядился снабжать академика, как академические институты. Ему пробовали возражать – нельзя, мол, частное лицо… Вавилов рассердился, пригрозил, что тех, кто не выполнит, – выгонит с работы. Кому-то из друзей сказал: «Лучший способ отплатить противнику – сделать ему добро».
Антон Осипович помолчал, потом добавил:
– Дело прошлое, можно не скрывать, тот академик был Капица.
– Это же замечательно! – воскликнул Дремов.
Его по-мальчишески круглое лицо загорелось румянцем. Длинные каштановые волосы он завязывал сзади косичкой, как неодобрительно сказал Антон Осипович: «Не хватает бантика».
Дремов был хорош, – если бы не мешки под глазами, его можно было считать красавцем. Приятно было видеть, как он загорался, становился в позу и глубоким сильным голосом начинал не говорить, а как бы вещать.
– Замечательно! Это формула! Она сходится с великой формулой Пушкина: «И прощенье торжествует, как победу над врагом!» Вот истинный гуманизм! Нет, вы только вдумайтесь в пушкинские слова, их надо повторять и повторять. Всем людям. А Толстой! У него Пьер Безухов спасает французского офицера от пули. В Москве, во время пожара.
– Что ж это за война такая, – сказал Гераскин.
– Потому что и на войне можно оставаться человеком. Победа – опасная штука, она может породить чувство превосходства…
– Ас Карлом произошло следующее, – сказал Молочков. – Однажды докладывают ему о странном происшествии: один из русских пленных, человек преклонного возраста, заколол своего часового и сдался без сопротивления дежурному офицеру. Донесение королю приводило столь удивительную причину действий этого русского, что король велел доставить его к себе. Привели человека седого, но рослого, могучего сложения, закованного в цепи. Купчик по званию, он когда-то, до войны, бывал по торговым делам в Швеции и знал неплохо шведский. Король из первых уст услыхал, как все было. Караульные солдаты поносили русского царя всякими обидными словами. Пленник просил прекратить, они со смехом продолжали, еще пуще издеваясь над заключенным. Купец подзывает унтер-офицера, просит унять часовых и наказать их за оскорбление особы государя. Унтер-офицер смеется над такой жалобой. Тогда купец, вырвав ружье у часового, штыком заколол его и отдал себя в руки правосудия. На следствии он спокойно заявил, что как верноподданный вступился за честь своего государя и готов без страха принять смерть. Подобное происшествие показалось дознавателям достойным внимания короля. Выслушав рассказ купца, Карл сказал: «В столь грубом народе столь великий человек!» Приказал отослать купца к Петру в Россию, поздравив царя с таким подданным. Правда, в то время уже шли тайные переговоры с Россией, так что использовать момент было выгодно, но для Карла рыцарские правила имели значение.