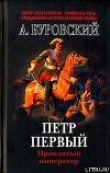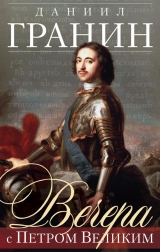
Текст книги "Вечера с Петром Великим. Сообщения и свидетельства господина М."
Автор книги: Даниил Гранин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава четырнадцатая
ЛИВОНКА

Быть женой гения, к тому же царя с характером, не терпящим инакомыслия, трудно. Екатерина сумела. Она приспособилась не как послушная рабыня, а как влюбленная женщина. Она не прощала мужу его необузданный нрав, дикие поступки, цинизм. Прощение полагает чувство превосходства над прощаемым. Превосходства не было, она – сирота, не имевшая ни воспитания, ни знатного происхождения, никаких талантов, Марта Скавронская, ливонка, невесть откуда взявшаяся, – пришлась по душе Петру тем женским чудом, какое властные натуры, подобные Петру, ищут в женщине. Она признавала превосходство Петра во всем, его мужество, прозорливость, его ум, его красоту, мужские достоинства, – все, что он делал, вызывало у нее понимание, если же не понимала, то считала это своим недостатком. Советы, указания Петра она выполняла с радостью, будь то устройство петергофских фонтанов или воспитание детей. Ее поклонение Петру не было притворством, Петра вряд ли можно было так долго водить за нос. Он был достоин любви, и она действительно влюбилась, письма ее дышат нежностью, ее чувства без ревности, без подозрительности, без тяжелой, душной требовательности. Это веселая, играющая радостью, благодарная любовь. И происходит чудо. Железная натура Петра смягчается. Казалось бы, защищенный со всех сторон панцирем государственного своего долга, травмированный сердечной неудачей, он тем не менее привязывается к Екатерине, испытывает ответную нежность. После Анны Монс его вторично посещает любовь. Он обретает семью, свою личную домашнюю жизнь. Приспело время быть мужем. Он может заботиться не только о флоте, о Сенате, но и о жене, о дочерях. Он пишет Екатерине, чтобы она ехала из Новгорода не той дорогой, что ездил он, на ней лед худой, а старой, и наказывает о том коменданту. В другой раз просит ее в Петербурге некоторые мосты непрочные переходить пешком. Он шлет ей подарки. Супружество явилось поздно. Когда они сочетались браком, Петру было сорок лет, Екатерине двадцать восемь. В письмах к ней Петр называет себя стариком, подшучивает над собой, порой с грустью. Год от году привязанность Петра к жене крепнет. Супружество их было не похоже на семейные отношения монархов той эпохи. Нечто подобное было во втором браке его отца, Алексея Михайловича, с Наталией Нарышкиной, счастливом и коротком. Чем-то характер Екатерины был схож с характером матери, Наталии Кирилловны, которую Петр горячо любил до самой ее кончины. В том отцовском браке Петр был желанным ребенком, а желанные дети, зачатые любовью, получаются самыми лучшими.
Екатерина обладала особым даром успокаивать Петра при его припадках. Все свидетельствуют о ее как бы гипнотических способностях. Звук ее голоса уже успокаивал Петра, в такие минуты никто не осмеливался приблизиться к царю, она одна бесстрашно подступала, брала за голову, гладила, почесывала, и он засыпал на ее груди. Через два-три часа он просыпался – освеженный, умиротворенный.
Существует красивая легенда о том, как Екатерина спасла Петру жизнь. Случилось это во времена Прутского похода в 1711 году, когда русское войско попало в окружение турок. Тридцать восемь тысяч русских были отрезаны огромной 140-тысячной вражеской армией от тылов, от продовольствия. Солдаты болели, голодали, не было воды, начались эпидемии. Положение складывалось критическое. Было решено, если турки откажутся от мирных предложений, пробиваться с боем. Надежд на успех прорыва было немного.
В этом неудачном походе с ним была Екатерина. Они недавно сочетались церковным браком, и Екатерина отказалась остаться в Польше, последовала за Петром в поход. В тот тяжкий вечер, может самый мучительный для Петра, она не стала его утешать и, разумеется, не упрекала в легкомыслии, с каким он доверился румынскому князю – изменнику, который перешел на сторону турок, отдал им продовольствие, приготовленное для русских солдат.
Недаром мрачные предчувствия мучили Петра перед походом. Он писал в письмах: «Пускаюсь в безвестный путь».
Направили парламентера с письмом от фельдмаршала Шереметева. Ответа нет. Посылают снова. Турки не отвечают. Остается сжечь обоз и готовиться к наступлению, хотя надежд прорваться немного.
Отдав последние распоряжения, Петр удалился отдохнуть в свой шатер, приказав никого к себе не пускать. Как он мог согласиться на столь плохо подготовленный поход, не обеспечив войска продовольствием, легкомысленно надеясь на помощь молдаван и валахов. Так блистательно разгромить под Полтавой лучшего полководца Европы Карла XII и так глупо оконфузиться с неумелыми турецкими ополченцами, которых и войском нельзя назвать, просто несметные толпы. Отчаяние душило его. Лучше других понимал он, в какую ловушку завел своих солдат. Почему не послушался голоса, что останавливал его?..
Он составляет документ, который историки назвали завещанием. Так, мол, и так, господа сенаторы, вследствие ложной информации я окружен турецкою силою, в семь раз превосходящей нас, ждать нечего, кроме поражения. Возможно, что он, государь, попадет в турецкий плен. Если это случится, то Сенат не должен его считать царем и государем и ничего не исполнять, что бы ни исходило от его имени. Если же он погибнет, то им следует выбрать между собой достойного в наследники.
Пока Петр пребывал в одиночестве, Екатерина держала совет с генералами во главе с Шереметевым. Они трезво оценивали, сколь мала надежда вырваться из окружения. В бою мог погибнуть и сам царь. Надо всячески искать пути договориться с турками, попытаться вновь и вновь обращаться к ним.
Обсудив все это, Екатерина, несмотря на запрет, вошла в палатку мужа, пала к его ногам, стала умолять послать к туркам не письменное предложение, а достаточно полномочного человека. Пойти на все, принять любые условия, не губить людей и себя. Лучше уступить земли и крепости, чем принять плен, потерять с такими трудами обученную армию.
Словами, слезами ли – она заставила Петра отложить свое решение. Это редко кому удавалось, но Петр умел не только слушать, но и слышать.
Обдумав, он велел вице-канцлеру Шафирову отправиться к турецкому визирю. Предложить мир, соглашаясь, в сущности, на любые условия. Уступать и уступать. Если турки потребуют завоеванные земли на Дону – отдать, земли по Днепру – отдать. Даже драгоценный сердцу Петра, основанный им Таганрог – тоже можно отдать. Турки вместе со своими союзниками шведами, Карл-то находился в Бендерах, могли настаивать на северных провинциях, что ж, придется и тут пожертвовать, не уступать только Петербург, любимое детище Петра, попытаться спасти его. Шафирову предстояла тяжелая миссия.
Легенда далее гласит, что Екатерина собрала все свои драгоценности, чтобы преподнести их визирю, и отправилась вместе с Шафировым.
Искусство Шафирова и, возможно, личное участие Екатерины привели переговоры к неожиданному успеху. Турки потребовали вернуть всего лишь Азов, остальные городки, построенные по берегам Азовского моря, срыть. Если бы турки знали тяжелейшее положение русской армии, условия были бы иные.
Что происходило у великого визиря, как шли переговоры, почему он согласился выпустить из ловушки русских во главе с царем, – неизвестно.
Два дня томительно ждали результата мирных переговоров. Смерть или рабство, так оценивал положение русских французский полковник, служивший у Петра в том несчастном турецком походе. Пушкин перевел с французского его рассказ «Записки бригадира Моро де Бразе» как важный документ о Петре.
Моро писал, что если бы великий визирь служил бы с усердием, то ему следовало только соблюдать осторожность, укрепляться в окопе и ждать. Русские не имели провианта. Пять дней они уже сидели без хлеба, лошади голодали, более всего мучило отсутствие воды. Если бы в эти дни кто-то сказал, что мир будет заключен, да еще на таких условиях, его сочли бы сумасшедшим. Еще когда трубач впервые отправился к туркам с письмом фельдмаршала, где просил перемирия, один из офицеров сказал, что безумец тот, кто завел Петра в этот поход, но если визирь примет предложение о перемирии, он будет еще больший безумец. И далее Моро писал, что, видно, Богу было угодно, чтобы визирь был ослеплен блеском золота, чтобы спасти многих честных людей.
Легенда кое-что сместила, поскольку легенда всегда требует простоты и стройности. Была ли царица у визиря, в точности не доказано, однако известно, что Петр говорил о важных услугах Отечеству, оказанных Екатериной во время Прутского дела, и отметил это позже в указе о коронации супруги.
Уступчивость турецкого визиря впоследствии толковали по-разному. Шведскому королю его представители дали знать о переговорах с Шафировым, Карл вскочил на коня и 17 часов, не слезая с седла, скакал во весь опор из Бендер в турецкий лагерь, но опоздал, трактат уже был подписан. Счастливый случай овладеть врагом ускользнул от него в последнюю минуту. В ярости Карл обрушился на визиря, кричал, ругался – как мог визирь вступить в переговоры, не сообщив о том ему, королю, ради которого султан войну эту начал. Визирь ответил, что война шла во имя турецких интересов, а не шведских.
Российская армия уже приближалась с барабанным боем к Днестру, вились распущенные знамена, конница ступала, сверкая обнаженными палашами, играли флейтисты, в карете ехали царица с Петром, счастливые замирением. Худой мир, но мир без позора. Петр твердил: «Мое счастие в том, что я должен был получить сто ударов палкой, а получил пятьдесят».
С этого времени Екатерина все чаще сопровождала Петра в путешествиях и походах. Вела она себя тактично, сдержанно, вполне достойно супруги русского императора. Откуда взялось у этой бывшей служанки столько психологической тонкости, если угодно – практичного ума. Стоит почитать ее письма Петру.
Как повторял учитель – соседство с гением возвышает близких к нему, особенно женщин, пробуждает в них скрытые способности.
Петр всегда хотел любить. Найдет достойного человека и привязывается, приближает к себе. Такую любовь заслужил Меншиков, и Петр готов был прощать любимцу и казнокрадство, и самоуправство. Дружба, верность, привязанность – все у него было, не хватало чувства интимного, сердечного, той заботы о женском существе, которое нужно мужчине. Екатерина зажгла в нем впервые огонь мужней любви. Чувство это росло, крепло и доставляло все больше радости.
У этой же безродной, озорной ливонки на первом месте была любовь; перейдя к Петру сперва наложницей, она сама увлеклась им, обвила его, по выражению ее биографа, «словно кореньем».
Она приворожила его нехитрым, но редким качеством – сочувствием ко всем его делам и заботам. Сочувствие было необходимо Петру. Их отношения пересыпаны шутками, игривостью.
«Вчерашнего дня была я в Петергофе, где обедали со мной четыре кавалера, которым 290 лет».
Петр в ответных письмах подтрунивает над своей немощной старостью и над ветреностью «евиных дочек». По письмам видно, как они оба шутят, посмеиваются друг над другом, а встречаясь, уж веселились и забавлялись вовсю.
Она привлекала не красотой, скорее откровенной чувственностью. Горячий взгляд, пышная грудь, черные волосы… Она не походила на своих землячек, медлительных, светловолосых. Темперамента у ней хватало и на балы, на танцы, на пирушки. Она разделяла с Петром походную жизнь, солдатскую пищу.
Одевалась она безвкусно, навешивала на себя жемчуга, ордена, браслеты, амулеты – облик служанки был неизгладим. И ухаживала она за Петром как маркитантка. Постоянно весела, здорова, внимательна к его бытовым привычкам. Временами Петра устраивало ее вмешательство, можно было что-то исправить, ссылаясь на нее. Но с некоторых пор ее участливость стали по-умному использовать, через фрейлин, правителей ее двора.
Она удачно олицетворяла семейный очаг, куда Петра с годами все больше тянуло. Все было бы хорошо, если бы она родила наследника. После первых двух дочерей она родила еще одиннадцать детей, и все они умирали один за другим в малом возрасте. Терпение Петра истощилось, видно было, что он отчаялся получить сына и невольно винил жену.
Несмотря на церковный брак с Екатериной, заключенный в 1711 году, Петр по-прежнему не отказывал себе в любовных утехах. Связи его всегда так же случайны. Гостиничные служанки, поварихи, крестьянки, дочери вельмож. Среди них пятнадцатилетняя Евдокия Ржевская, Мария Румянцева… Вероятные потомки Петра, вырастая, расцветут и в следующую эпоху станут полководцами, героями, министрами, можно подумать, что он оплодотворил царствование Екатерины Второй.
Среди его женщин выделяются две аристократки. Одна княгиня Любомирская. Не считаясь со своим супругом, она охотно проводила время с Петром, наслаждаясь его умом. Его, похоже, привлекают ее музыкальность, культура, тонкий вкус. Он часами беседует с ней, делится своими соображениями насчет Польши, иностранных наемников. Она дает ему то, чего так не хватает в отношениях с Екатериной. Еще сильнее привлекает его молоденькая дочь его советника, молдавского господаря Кантемира. Петр берет ее шестнадцатилетней девушкой. Семья Кантемиров выделялась культурой и среди петровского окружения. Д. Кантемир – дипломат, писатель-энциклопедист, европеец – дал блестящее образование детям. Один из братьев, Антиох, входил в «ученую дружину» Петра, прославился как поэт-сатирик…
По лестнице любви поднялась Екатерина к российскому престолу. Ее биография – это перечень тех, кому она принадлежала. Сама незаконная дочь, она семнадцати лет начала свою женскую историю одним из учеников рижского пастора, у которого была служанкой, ее выдали замуж за шведского драбанта. Он быстро исчез, и она пошла по рукам. Начав с мелкого офицера, она переходит к высоким начальникам. Всякий раз происходит одно и то же – примечают ее красивую полную фигуру, живость, аккуратность и приказывают перевести к себе – прачкой, служанкой, горничной. От нее исходит чувственность, это действует на всех. Екатерина доходит до фельдмаршала Шереметева, у него ее забирает Меншиков и, наконец, – Петр.
Облик трактирной служанки оставался. Она идеально приспособлена к походной военной жизни. Не боится стрельбы, пьет водку с солдатами, может спать на земле, может и не спать, трястись часами в повозке.
Она нисколько не стеснялась своего прошлого, уверенная, что избавилась от него. На самом деле оно цепко держит ее. Однажды Петр обнаружил, что под вымышленным именем Екатерина поместила капиталы – один счет открыт в банке Амстердама, другой в Гамбурге. Капиталы огромные. Откуда? Она без стеснения берет со всех, кто припадает к ее ногам или рукам с просьбами. Добраться до государыни непросто. Ее фрейлины получают за то, что допускают к ней. Происхождение сказывается в том, что она не могла до конца уверовать в свою венценосность. Все могло кончиться в любую минуту. Такова же была психология Меншикова. Он тоже открыл счета в немецких и голландских банках и посоветовал это сделать Екатерине.
Надо отдать должное супруге Петра – она умела поддерживать огонь любви. Влюбленность Петра в Екатерину в чем-то повторяла его чувство к Анне Монс. В Екатерине было то же иноземное начало, чужой говор, чужие привычки. Преимущество ее над первой любовью Петра состояло в том, что Екатерина стала нужной. Сперва ей нужен был Петр, это было для него внове – без него она одна в чужой стране, ни родных, ни состояния, ничего, – бездомная дворняжка. Затем уже и ему нужна она: его поверенная, его приют, его дом.
Ни у кого из самых ловких придворных, из лучших европейских дипломатов не получалось управлять им, играть на его слабостях или страстях. Екатерина преуспела в этом больше других, но и ее власть имела пределы.
В Берлине в 1718 году он специально посещает кабинет медалей и античных статуй. И то и другое живо интересует его, античными статуями он украшает свой Летний сад. Сопровождаемый многочисленной свитой, он обходит экспонаты, останавливается перед древнеримским божеством, одним из тех, что ставили над брачным ложем. Мрамор изображает возбужденное состояние. Петр хохочет над откровенностью и заставляет Екатерину поцеловать фаллос этого божества. Царица смущена, противится, тогда он свирепеет и принуждает ее взять в рот мраморный член. Все это он сопровождает комментариями на смеси немецкого и голландского языков. Придворные рады скандалу. Тут же, не обращая внимания на смешки, на слезы Екатерины, просит у короля продать ему эту скульптуру.
Время от времени он ставит Екатерину на место – награждает ее пощечинами, а то и потчует кулаком. В его чувстве нет уважения, он любит ее, как любят свою лошадь или собаку: можно приласкать, а можно и отстегать. Он собственник, в той или иной мере это относится ко всем его подданным, и прежде всего к придворным.
После смерти их «шишечки», маленького Петра Петровича, Екатерина почувствовала опасность. Вопрос о наследнике все сильнее мучил государя. Желание иметь сына звучало все чаще, упрямо, как предостережение. Пока был жив Петенька, любовные увлечения Петра не беспокоили Екатерину. Теперь же любая интрижка могла привести к катастрофе. Перед Екатериной маячил призрак царицы Евдокии, запросто упрятанной в монастырь. Ей надо было упрочить свое положение. И она добилась своего.
В 1723 году Петр оповестил Россию, что хочет увенчать супругу императорской короной. Он подтвердил, что она спасла империю, его самого, который чуть не стал добычей турок на берегах Прута, и вполне достойна быть императрицей.
Неслыханный финал! Простая служанка исключительно по дороге любви достигает титула императрицы. Такого в России не было ни до, ни после Екатерины.
– Вот это карьера, – сказал Антон Осипович.
– Карьера любви, – сказал Гераскин. – Черт возьми, эта девка ведь могла остаться солдатской прачкой, подстилкой, и такой поворот. Везуха!
– Сам человек добывает себе счастливый случай, – сказал профессор. – Случай надо использовать. Эта женщина сумела.
Молочков покачал головой.
– Использовать – сюда не подходит, она же полюбила. А то, что так обернулось, это уже дело удачи. Чувство у нее было искренним, иначе Петр не откликнулся бы. Сколько баб у него было! И знатных, и простых, заграничных и русских, всех бросал без сожаления. А эту простушку не бросил, вот как прикипел к ней.
Петру дружно позавидовали.
– Повезло мужику, – говорил Гераскин, – подвалило счастье. Такая баба, веселая, неунывайка, терпела его загибоны, драгоценности не выпрашивала. И темперамент, видать, был горячий, как, Виталий Викентьевич?
– Вероятно.
– Главное – не воспитывала.
– Двадцать лет сносить этот дикий нрав – тут нужна настоящая привязанность, – сказал Дремов.
Оказалось, каждый мечтал о такой женщине.
Слушая нас, учитель то расцветал, то вздыхал опечаленно.
Антон Осипович высказал мысль, что когда Петр убедился в преданности Екатерины, появился расчет – пора жениться, негоже царю под старость холостяком оставаться. Следует о потомстве позаботиться, о наследниках. Тут же Антон Осипович высказал свои взгляды на брак и семью, которую нет смысла разрушать, все равно попадешь в новую кабалу, лучше завести любовницу, которая может возместить недостатки законной жены.
Гераскин поддержал его:
– Брак не настолько серьезная штука, чтобы из-за него следовало разводиться.
– А если жена изменяет? – неожиданно спросил профессор.
Мы призадумались.
– Неприятные вы задаете вопросы, Елизар Дмитриевич, – сказал Серега. – Мы тут третью неделю безвыходно живем, к чему такие вопросы?
– Женщина так же готова отовариться, как и мужик.
– Есть разница. Она должна хранить семью.
– Женщина не просто изменяет, у нее еще чувства меняются. Мужик, он что, отряхнулся и забыл.
Бурное обсуждение проблемы прав женщины на измену выдвинуло лозунг: «Ревновать – неотъемлемое право на частную собственность!» Кто-то спросил Молочкова, был ли Петр ревнив. Он как-то неопределенно пожал плечами. Зачем ему ревновать, ему не изменяли, пояснил Гераскин. От добра добра не ищут. Антон Осипович считал, что этот вопрос для императора не стоял, в условиях царского двора был наверняка строгий присмотр.
– Что-то не так? – вдруг спросил он Молочкова.
– Нет, нет, не обращайте внимания.
Молочков обеими руками крепко потер лицо, возвращаясь к нам.
Глава пятнадцатая
КЛЯТВА

Из всех историков Петра самым симпатичным учителю был Иван Голиков, про него он рассказывал с удовольствием и удивлением.
Происходил Голиков из купцов, грамоте его обучил приходский дьячок, далее сам помаленьку пристрастился к чтению и более всего к книгам по русской истории. Попалась ему в 1755 году как-то рукопись бывшего полкового священника, служившего при Петре. Личность царя заинтересовала подростка, с тех пор он стал искать книги про Петра и записывать слышанные рассказы. Обратите внимание – опять же бессознательно записывал. В Оренбурге познакомился он с Неплюевым, одним из выучеников Петра. Иван Иванович Неплюев, сенатор, бывший резидент в Стамбуле, был в молодости послан Петром учиться морскому делу в Англию. Неплюев познакомил Голикова с Рычковым – ученый человек петровской закваски – географ, экономист, а в Петербурге свел с Крекшиным – историком, влюбленным в Петра, затем с Талызиным, Нагаевым, Сериковым – все люди, связанные с Петром.
Выспрашивал Голиков не только анекдоты, но и обо всем, что касалось деяний Петра. Любую записочку, письмо, пометку Петровской эпохи собирал впрок, ведать не ведая о крутом повороте своей судьбы. Пока что это служило лишь отрадой среди суеты торговых дел. Сейчас, зная его судьбу, можно подумать, что фортуна специально готовила его к предстоящей работе. Но долго еще будущее не подавало никакого знака. Годы уходили, заполненные торговыми хлопотами. Ему уже стукнуло сорок четыре года, почтенный возраст, жизнь вошла в колею, по которой и должна была катиться до конца. Вдруг в 1779 году Голикова привлекают к суду. За жульничество по военному откупу. Следствие установило – брал взятки, вино разбавлял и так далее. Приговорили к шести годам. Легко воровать, да тяжело отвечать. Два с половиною года проводит он в остроге, и вдруг амнистия. Было это в 1782 году. По случаю юбилея рождения Петра.
Прямо из тюрьмы, как был, в тюремной рубахе, накинув драный армяк, отправился Голиков в церковь, поблагодарил Господа, оттуда прямиком на Петровскую площадь, на торжество открытия памятника. Никогда никаких памятников он не видел. Тут же пред ним появился дважды Великий – Великий памятник Великому императору. Он стал на колени перед Медным всадником, люди столпились вокруг, и он поклялся отблагодарить Великого Петра, посвятить остаток жизни сбору материалов о нем.
Стоит упомянуть рассуждение учителя, что если преступника судить и, не объявив приговора, отпустить его, обязательно подействует. Должно подействовать, это он на своих учениках проверял неоднократно. Поймаешь на чем-то, они ждут наказания, хотя бы выговора, хотя бы нотации, чтобы почувствовать себя в расчете. Наказание – это квит, обе стороны расквитались. Когда же квита нет, у виноватого нет облегчения, приходится самому себя наказывать. Так происходит с человеком совестливым. Пван Голиков считал, что его спас император Петр, благодаря ему получил помилование и отныне свой грех должен искупить служением. Материалы собирать показалось ему мало, решил он, пользуясь ими, писать историю государя, год за годом, чуть ли не день за днем.
Учтите – кем он был? Простой купец, имущество описано по суду, исторического образования нет, вообще никакого образования, никогда ничего не писал. Согласитесь, взяться за такое дело в сорокасемилетнем возрасте – намерение отважное, почти безумное. Но, когда у человека появляется устремленность к одной-единствеиной цели, он может творить чудеса.
Голиков оставляет торговую деятельность, собирает пожертвования, не стыдится выпрашивать, уговаривать состоятельных знакомых, да и незнакомых вельмож, – ему надо приобретать рукописи, документы, письма Петра. Как бывает с людьми, охваченными одной благородной идеей, – обстоятельства идут ему навстречу. Знаменитый заводчик Демидов сочувствует его замыслу, помогает деньгами. Удается собрать, скупить рассеянные по частным рукам документы Петра. Бесценные бумаги, так быстро исчезающие среди смертей, переездов, разорений. Значение этих старых документов в те времена еще плохо сознавали. По документам он пишет подробнейшую историю царствования Петра, день за днем, год за годом, и все время оговаривается – он-де, человек неученый, никакой не историк, в языке неискусен, он всего лишь собиратель. Собрал он и спас великое множество драгоценных документов. Однако труд его не сборник, не монтаж, это история. Оказывается, он хорошо знал античность, библейские тексты, да и европейскую историю. Когда, как он успел изучить все это – Молочков понятия не имел. История, написанная Голиковым, как он сам предупреждает, – панегирическая. Он воздает хвалу так же, как это делал Ломоносов. С той разницей, что Голиков воздает за конкретные поступки, он прослеживает путь Петра шаг за шагом, стараясь понять его действия и решения. Понять для него – значит оправдать. На суде истории он один из самых умелых и пылких адвокатов Петра. Он трудился день и ночь неотступно, не щадя себя, все девятнадцать лет, которые оставила ему судьба. Фундаментальный его труд со всеми дополнениями насчитывает три десятка солидных томов. Голиковской работой пользуются историки вплоть до наших дней. Да, он необъективен, но его пристрастность помогла ему совершить этот подвиг, иначе не назовешь то, что удалось сделать бывшему купцу и преступнику. Подобно Штелину, он записывает все, что слышит, выспрашивает, покупает каждую бумажку, связанную с Петром.
– Одержимых людей я побаиваюсь, – признался Молочков. – Но должен признаться, наука, прогресс во многом обязаны именно таким подвижникам. Никто, в сущности, не знает, на что способен человек, охваченный идеей.
Гераскина почему-то возбудила история с клятвой. Что значит клятва, допытывался он у самого себя. Клятва – кому? Не дружкам, не бабе. Голиков давал клятву потому, что покаялся. А покаялся, потому что знак увидел. Верующий человек иначе видит. У них зрение другое. Нам знаки тоже даются, только мы их не видим. Совесть не отзывается, заземлена наверное.
– По-моему, совесть – это тайный суд, который устраивают над собой, – сказал Елизар Дмитриевич. – Но судишь в соответствии с тем судом, каким судят тебя окружающие. А если кругом никто тебя не осуждает? У меня студент был. Он унес из кабинета коллекцию жуков. Продал. Я его спрашиваю – как же вы решились на такое, что вас заставило? Он знаете, что ответил? – Хорошую цену за них давали. Вот и вся его причина. Я говорю ему, как же вы своей репутацией не дорожите? Он смеется, говорит, что ему завидуют. А если, спрашиваю, вас под суд? Он спокойно отвечает: во-первых, это надо будет доказать, во-вторых, разве вас, профессор, не будет мучить совесть, что вы испортили мне жизнь?
– А у нас мастер пришел в дирекцию, – сказал Гераскин, – заявил, что таскает детали, загоняет на рынке. Стали выяснять, с чего это он объявился. Оказывается, ребята разыграли его, пуганули, что в проходной его просвечивали и зафиксировали на пленке. Если, мол, явится с повинной, то ничего ему не будет. Посмеялись, так он заявление подал, чтобы наказать ребят.
На это Сергей Дремов, наш книгочей и философ, сказал:
– Я так понимаю этого Нвана Голикова: он покаялся и поклялся как бы отмолить грех. Скажите, а у нас почему никто на колени не пал перед людьми, не поклялся отмолить свои грехи? Сколько следователей творили беззаконие, судьи, доносчики, их же сотни тысяч, что-то не слыхать, чтобы кто-то стал искупать вину. Как, Антон Осипович?
– На личности переходите? А мы вместе с вами голосовали. И бурно аплодировали. Для аплодисментов обе руки нужны. Работать некогда. Так вот и захлопали совесть.
Дремов набычился, пригнул свою лобастую круглую голову, в спор, однако, не кинулся:
– Несчастное ваше поколение, – сменил голос Сергей. – Ничего у вас не осталось, ни одного вождя, никого из тех, кому поклонялись. Я бы старался очистить душу.
– Голиков закон нарушил, – сказал Антон Осипович, – за это и раскаивался.
– Я вас понимаю, – сказал учитель. – Раскаяние дело непростое. Нужно исповедоваться, чтобы оценить свои грехи. Самому трудно. Священник помогает. В исповеди участвуют трое: тот, кто рассказывает, кому рассказывает и третий – Христос. В одиночку не одолеть. Я вам расскажу историю, которая произвела на Голикова сильное впечатление. Один чиновник в петровские времена присвоил себе казенные деньги, несколько тысяч рублей из кабацких сборов. Совесть не давала ему покоя, и, будучи на исповеди, он открылся во всем священнику. Может, надеялся на прощение или что священник посоветует деньги пожертвовать на бедных. Но священник сказал, что такой грех прощения не имеет и надо вернуть деньги казне. Чиновник согласился, сказал, что готов бы, если бы не гнев царский, – боится, что пострадает не только он, но и жена и дети. Священник возразил, что нельзя загладить грех, боясь наказания. Надо наказание принять. В евангельской притче отец принял раскаяние заблудшего сына, и государь Петр должен принять раскаяние чиновника. Чиновник решился, положил деньги на блюдо, пришел к Петру, положил перед ним блюдо и в ноги бухнулся. Признался в хищении. Петр поднял его, сказал как принято: «Бог простит!» и велел рассказать, почему чиновник признался. Тот все рассказал. Петр чиновника поблагодарил, призвал священника, тоже поблагодарил.
– В этой назидательной истории мне что интересно, – сказал учитель, – то, что Петр понимал, как трудно самому человеку, в одиночку, дойти до раскаяния. Видимо, и Петру такое было в редкость.